Реабилитирован посмертно. Вып. 1, 2.
Москва.: Юрид. лит., 1989.— 576 с. — (серия «Возвращение к правде»).
OCR и правка: Давид Титиевский, июнь 2007.
Библиотека Александра Белоусенко.
------------------------------------------------------------------------
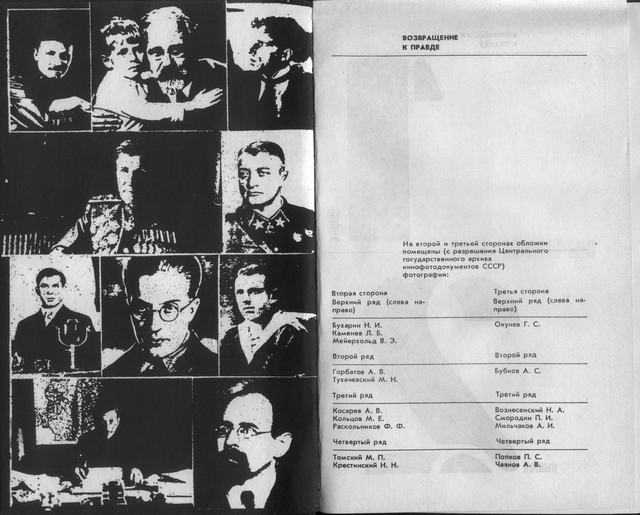
Реабилитирован посмертно
Выпуск первый
В первый и второй выпуски сборника включены опубликованные в периодической печати в последние годы материалы, рассказывающие о трагических судьбах миллионов советских людей, в том числе видных деятелей партии, крупнейших военачальников, ученых, врачей, представителей творческой интеллигенции, подвергшихся репрессиям, об атмосфере беззакония, в которой проходили судебные процессы тридцатых годов.
Сюда вошли также обзорные статьи, посвященные заседаниям Пленумов Верховного Суда СССР по рассмотрению реабилитационных дел в отношении лиц, незаконно репрессированных во времена культа личности Сталина.
Для широкого круга читателей.
Содержание
От издательства...... 5
В. Курицын. 1937 год: истоки и практика культа (Вместо введения)…7
А. Хорев. Маршал Тухачевский..... 46
Б. Ефимов. Тайна судьбы Михаила Кольцова..... 62
A. Ваксберг. Царица доказательств...... 83
Л. Постышев. «Нельзя правду предавать ни при каких обстоятельствах»... 98
B. Синицын. Шемахинская трагедия, или Похоронка, пришедшая не с войны…110
М. Ширшова. «Пусть никогда в жизни тебе не придется испытать этого».......119
С. Микоян. Слуга......132
Н. Попов. Николай Крестинский: был и остаюсь коммунистом… 140
О. Акулова. Нарком Чернов......149
О. Темушкин. Голос времени — голос истины......157
Н. Бухарин. Будущему поколению руководителей партии.....168
3. Ерошок. Отцы и дети.....170
О. Аксенов. С Вышинским не согласен.......181
A. Ваксберг. Процессы.......189
B. Поликарпов. Федор Раскольников........ 204
Ф. Раскольников. Открытое письмо Сталину...... 227
Л. Овруцкий. Мера закона и безмерность беззакония....236
Д. Полякова, В. Хорунжий. Александр Косарев: «Совесть моя чиста».....243
Ю. Феофанов. Грузчик Иван Демура в схеме Нины Андреевой.... 257
Л. Разгон. Малолетки.........265
В. Лакшин. Открытая дверь.....270
А. Мерцалов. Миф о великом стратеге.......285
О. Горелов, Ю. Томский. Михаил Томский — каким он был?.....291
А. Афанасьев. Победитель.......299
Л. Сотник. Когда такие люди.....314
О. Темушкин. На кого они равняются?......328
Возросший интерес к недавней истории нашей страны в значительной мере обусловлен потребностью в исторической правде. «...Восстановление справедливости по отношению к жертвам беззакония — наш политический и нравственный долг», — подчеркнул на XIX Всесоюзный конференции КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Задумывая этот сборник, мы не ставили перед собой цель включить в него все публикации центральной прессы, посвященные теме сталинских репрессий, а старались отобрать материалы, с достоверностью свидетельствующие о полном игнорировании в те мрачные времена правовых норм. При этом мы учитывали, что наше издание такого рода не единственное. Нельзя не сказать и о том, что жанровое разнообразие публикаций, не одинаковые формы подачи в определенной степени затруднили композиционное построение книги. Поэтому материалы, собранные в ней, не связаны между собой хронологически или по какому-либо иному признаку.
Лишь немногие из тех, о ком рассказывается в публикациях, дожили до наших времен, когда восстанавливается справедливость. Большинству суждено было погибнуть. Поэтому первый и второй выпуски сборника называются «Реабилитирован посмертно». Однако в них рассказывается не только о жертвах, но и об инициаторах и исполнителях беззаконий.
Вниманию читателей предлагаются также публикации, авторы которых предпринимают попытку проанализировать такое явление, как «сталинизм».
Издание подобного рода сборников приобретает особо важное значение, поскольку материалов на тему сталинских репрессий появляется все больше и уследить за ними не так просто.
Все статьи, беседы, интервью включены в сборник в том виде, в каком они опубликованы в периодической печати. Авторская трактовка тех или иных событий нами практически сохранена. Это относится и к фактической основе. Незначительная правка вызвана необходимостью исправления отдельных неточностей.
Курицын В. М.,
доктор юридических наук, профессор
От себя добавим, что это были первые шаги на пути гласности и вскрытия преступлений Коммунистической Партии и ее вождей. Еще неприкасаемо имя Ленина, еще партия безупречно чиста, лишь некоторые личности, культ которых непомерно возрос, искривили победное шествие к светлому будущему. Тогда мы еще не читали Шаламова, Конквеста, Гроссмана и много чего еще, и эти публикации в газетах и журналах казались многим из нас верхом откровенности и покаянием властей. Партия опять, в который раз, бралась исправить ошибки прошлого. И мы бы ей поверили, вынуждены были бы поверить, если бы там, наверху в одночасье все не рухнуло.
За эти годы мы много узнали. Вернулись имена не только забытые, но и намеренно вычеркнутые. И мы своим скромным трудом способствуем их воскрешению.
Автор OCRа Давид Титиевский.
1937 год: истоки и практика культа
(Вместо введения)
Впечатляющий урок исторической правды преподали XXVII съезд КПСС, XIX Всесоюзая партийная конференция и Пленумы ЦК КПСС (начиная с апрельского 1985 года).
Не случайно именно сейчас, в условиях перестройки, так необычайно возрос интерес самых широких масс советского народа к истории Советского государства в целом и в особенности к тем ее страницам, которые длительное время столь тщательно замалчивались. Одна из этих страниц — массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов.
Когда речь идет о массовых репрессиях этих лет, то обычно говорят о 1937 годе. В действительности волна репрессий началась еще в конце 20-х годов и завершилась в начале 50-х годов со смертью Сталина. Однако апогея эти репрессии достигли в 1937 году. Поэтому именно этот год и запечатлен в памяти народа как страшный год «ежовщины» (по имени Н. И. Ежова, бывшего тогда наркомом внутренних дел СССР, — непосредственного организатора и исполнителя этих незаконных репрессий).
Коммунистическая партия на XX и XXII съездах сурово осудила культ личности Сталина и его последствия, массовые незаконные репрессии. После XX съезда партии политические обвинения против ряда деятелей партии и государства, против многих коммунистов и беспартийных, хозяйственных и военных кадров, ученых и деятелей культуры были сняты. Тысячи безвинно пострадавших полностью реабилитированы. Но процесс восстановления справедливости не был доведен до конца и фактически приостановлен в середине 60-х годов. Октябрьский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС принял решение вновь вернуться к рассмотрению этих вопросов и довести процесс восстановления справедливости до конца.
Исчерпывающая политическая оценка репрессий 30-х — начала 50-х годов была дана в докладе М. С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается».
История Советского государства 30-х — начала 50-х годов еще далеко не изучена. А она была весьма сложной и противоречивой и еще ждет своих исследователей.
Но уже сейчас публикуется преимущественно в общественно-политических журналах и газетах большое количество статей, содержащих ценную и новую информацию о конкретных судебных делах, судьбах невинно пострадавших людей. В данном сборнике как раз и собраны наиболее значительные и интересные статьи.
О причинах, истоках культа в этих статьях говорится, как правило, глухо. Объясняя причины репрессий, одни авторы сводят их к свойствам характера Сталина: его мнительности, подозрительности, холодной беспощадности. Другие ищут причину в отклонениях в психике Сталина. Некоторые объясняют репрессии тем, что Сталин выдвинул тезис об обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства, или тем, что он извратил ленинское понимание социалистической демократии. Все перечисленные факторы безусловно сыграли свою роль в массовых репрессиях 30-х — 50-х годов. Но нетрудно заметить, что все они, в конечном счете, сводятся к злой воле Сталина, т. е. лишь к субъективным факторам. Безусловно, Сталин несет главную ответственность за массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов. Они проводились по его инициативе и под его контролем. Он же подбирал и исполнителей для этих репрессий. Но как бы ни была велика роль этой личности, все же нельзя все сводить лишь к Сталину. Он опирался на свое окружение, большой круг «соратников», помощников и исполнителей. Культ Сталина сопровождался культами лиц из его окружения (Молотова, Кагановича, Ворошилова, Жданова, Маленкова, Ежова, Берии и др.), культиками на местах. Сталин стоял во главе бюрократической административно-командной системы управления, опирался на нее и, в конечном счете, выражал ее интересы и тех социальных сил, которые ее питали. Поэтому следует вести речь не только о Сталине, но и о сталинизме (как системе управления), его истоках, причинах и условиях появления. Только выявив эти причины и условия (как субъективные, так и объективные), можно выработать надежный механизм, препятствующий повторению подобных явлений. Если же свести все только к личности Сталина, то где гарантия, что не появится вновь личность и не попытается вновь возродить культ.
8
Тем более, что элементы возрождения культа уже имели место и со стороны Хрущева, и особенно со стороны Брежнева. Правда, здесь нужно признать справедливость меткого замечания Маркса о том, что история повторяется дважды: первый раз как трагедия, а второй раз как фарс.
Так каковы же истоки культа? Представляется, что режим культа — это наиболее крайнее, уродливое проявление бюрократической системы управления, когда чиновничий аппарат, с его строго централизованной иерархией, сосредоточивает в своих руках реальную бесконтрольную власть, подминая под себя, оттесняя от власти демократические институты. Именно поэтому XIX Всесоюзная партийная конференция, разрабатывая систему мер, гарантирующих от попыток узурпации политической власти и возрождения режима личной власти и культа личности, на первое место поставила (наряду с экономической реформой) демократизацию политической системы, гласность, борьбу с бюрократизмом.
Исторический опыт Советского государства свидетельствует, что с первых дней его существования наглядно проявились две основные тенденции в его развитии. Одна из них — тенденция к демократизации, расширению участия трудящихся масс в управлении делами общества и государства. Она обусловлена была самой природой социализма, ибо социалистическая революция — величайшее проявление творческой активности масс, их социалистического выбора. Ведь даже сама политическая форма нашего государства — Советы как органы государственной власти и самоуправления трудящихся родились из исторического опыта масс.
Однако вскоре выявилась и другая тенденция: к бюрократизации, усилению власти аппарата. Чем она объяснялась? Сама социалистическая революция — это акт революционного насилия. Революционное переустройство общества, экспроприация частной собственности, подавление свергнутых эксплуататоров, защита завоеваний революции — все это требовало применения революционного насилия, порой весьма жесткого организованного принуждения. А для этого был нужен сильный централизованный государственный механизм пролетарской диктатуры. Именно пролетарское государство с его мощным аппаратом призвано было стать главным орудием социалистического строительства.
В ходе социалистической революции национализированы были основные средства производства, которые стали государственной социалистической собственностью. Управление ею от
9
имени трудящихся стало одной из основных функций государственного аппарата. Как известно, до Октябрьской социалистической революции и в первые годы после нее в марксистской теории был общепринят тезис о том, что с переходом средств производства в руки общества товарное производство и обращение отомрут, товарообмен будет заменен прямым продуктообменом, а денежный учет — учетом общественного труда непосредственно в рабочем времени. Считалось, что такие экономические категории, как товар, стоимость, деньги, цена, заработная плата, присущи только капитализму, а при социализме они также отомрут. Предполагалось, что труд станет первой жизненной потребностью человека. Но поскольку для подавляющего большинства населения он, к сожалению, таковой потребностью не стал, то стимулом к труду должно было явиться «революционное насилие». Причем идея принудительного труда сочеталась с уравнительностью в его оплате. Недаром в декрете СНК от 14 ноября 1919 г. «О рабочих дисциплинарных товарищеских судах» для нарушителей трудовой дисциплины и лиц, не выполнявших норм выработки без уважительных причин, предусматривались наказания до 6 месяцев заключения в лагере принудработ. Лагерь полагался и крестьянам за недосев, невыполнение продразверстки и иных повинностей. Иными словами, принуждение, страх наказания рассматривались как важный стимул к труду. Следовательно, принуждение, страх наказания становились неотъемлемым элементом производства. А это означало, что для функционирования производства была необходима целая армия надсмотрщиков — чиновников госаппарата.
В связи с национализацией основных средств производства и переходом их в государственную собственность в сферу государственного управления практически была включена вся экономика страны, безмерно расширилось число объектов государственного управления. Все это влекло за собой и рост аппарата управления.
Нужно иметь в виду, что в России к моменту революции партии мелкобуржуазной демократии, осуществлявшие руководство кооперативным движением, заняли колеблющуюся, а то и контрреволюционную позицию. Это вело к тому, что и в коммунистической партии, и в среде трудящихся масс утверждалось представление о государственной собственности, управляемой госаппаратом, как главном, а то и единственном виде социалистической собственности. Все это способствовало развитию тенденции к бюрократизации. Классики марксизма-ленинизма предвидели возможность такой тенденции в социалистическом государстве и считали методами борьбы с нею демократический контроль масс за аппаратом управления, широкую гласность и сменяемость чиновников. Социализм создает возможность такого демократического контроля масс. Ведь социалистическая революция — результат живого творчества масс, она развязывает их величайшую активность.
Выступая на февральском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС, М. С. Горбачев подчеркнул, что задача социализма (в конечном счете) — покончить с социальным отчуждением человека, отчуждением от власти, от средств производства, от результатов своего труда, от духовных ценностей. Октябрьская революция открыла путь к решению этой исторической задачи. Принципиальными шагами власти трудящихся в этом направлении были отмена частной собственности на средства производства, ликвидация эксплуатации человека человеком.
Однако революция лишь открыла путь к решению этой задачи. Само же ее решение — это длительный и сложный процесс. И главная трудность состояла в выработке такой системы отношений в процессе производства, которые бы сочетали интересы общества и личности, создавали для личности достаточно действенные стимулы к труду, делавшие ненужными чиновников-надсмотрщиков.
В России выработку такой системы экономических отношений, а следовательно и преодоление тенденции к бюрократизации затрудняли условия, в которых проходило строительство социалистического общества: ожесточенная гражданская война, длительное нахождение в состоянии «осажденной крепости» в капиталистическом окружении, что создавало объективную необходимость применения чрезвычайных методов управления и его централизации.
В наиболее завершенном, «классическом» виде представления раннего социализма были реализованы на практике в виде системы военного коммунизма в годы гражданской войны, с его продразверсткой, уравнительным распределением (классовые пайки), всеобщей трудовой повинностью и иными (топливной, гужевой и т. д.) повинностями. Именно тогда впервые пышным цветом расцвела административно-командная система управления, а волевые, «авторитарные», методы управления стали применяться не только в экономике, но и в других сферах общественной и государственной жизни. Не случайно именно тогда (в 1920 году) Ленин выступил с предупреждением об опасности бюрократизации. Известна оценка Лениным политики военного коммунизма как политики вынужденной условиями войны, не отвечавшей задачам социалистического строительства. Но ведь эта оценка была дана уже после отказа от военного коммунизма в 1921 году. А в годы гражданской войны его рассматривали вовсе не как сумму военно-мобилизационных мероприятий, а как магистральный путь к коммунизму.
Прозрение пришло, когда военный коммунизм, с его продразверсткой, уравнительным распределением, системой повинностей, ставкой на принуждение к труду, после окончания гражданской войны пришел в столкновение с интересами трудящихся (прежде всего крестьянства) и породил экономический и политический кризис 1921 года. И голод 1921 года был вызван не только разорением страны в результате гражданской войны и не только засухой, но и тем, что в условиях военного коммунизма крестьяне, не заинтересованные экономически в результатах своего труда, резко сократили посевные площади. И никакие специально созданные органы — посевкомы с их набором административных и уголовных наказаний за недосев и недосбор урожая не могли с этим справиться.
Величие Ленина состояло в том, что он отбросил догмы, не оправдавшие себя в жизни, и смело пошел по пути творческого развития теории социалистического строительства.
Провозглашенный в первой половине 20-х годов по инициативе Ленина курс на «оживление» Советов и демократизацию государственной и общественной жизни был органически связан с экономической реформой начала 20-х годов: отменой продразверстки, трудовой повинности, известной децентрализацией управления государственным сектором (ликвидацией «главкизма»), внедрением хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. Переход реального управления и распоряжения государственной собственностью в руки самоуправляющихся трудовых коллективов — трестов (при сохранении, разумеется, верховного права распоряжения ею за государством); развитие разнообразных форм кооперации (по выражению Ленина: создание строя «цивилизованных кооператоров») — все это подрывало экономические корни бюрократизма, поскольку обеспечивало экономическую независимость трудовых коллективов от чиновников, а следовательно, создавало экономические условия для развития советской демократии. Конечно, концепция самоуправления трудовых коллективов или, как тогда выражались, «производственной демократии» и ее сочетания с государственным управлением то время еще не была разработана (да она и теперь еще не разработана в должной мере). Развитие этой концепции сдерживали во многом объективные трудности: наличие многоукладной экономики, опасность перекачки средств (в случае несоблюдения меры в развитии товарно-денежных отношений) из социалистического сектора в капиталистический. Но даже и в таком виде сочетание государственного управления с самоуправлением в трудовых коллективах (как в государственном секторе, так и в кооперативном), в низовых административно-территориальных единицах составляло генеральный путь развития советской демократии и преодоления опасной тенденции к бюрократизации. Важными элементами политики демократизации Ленин считал гласность, открытость, подконтрольность аппарата трудящимся массам (через Советы, общественные организации), сменяемость должностных лиц.
В конце 20-х — начале 30-х годов возникла объективная необходимость в существенном ускорении темпов социально-экономического развития, скорейшем создании индустриальной базы и военно-экономического потенциала. Необходимость скорейшего преодоления индустриальной и военной отсталости страны диктовалась главным образом обострением международной обстановки.
В 1929 году начался мировой экономический кризис. И у ведущих империалистических держав возникал соблазн решить свои проблемы за счет СССР. Особенно тревожным было положение в Германии. Установленная Веймарской конституцией 1919 года буржуазная республика в Германии разваливалась. Приход к власти Гитлера (а такая угроза стала реальной) означал неизбежную войну. На наших дальневосточных рубежах нарастала угроза агрессии со стороны японских милитаристов.
Анализируя ситуацию конца 20-х — начала 30-х годов в настоящее время, некоторые советские публицисты и историки утверждают, что угроза агрессии против СССР в те годы была не столь сильна, что были возможности при более правильной внешней политике, и особенно политике в отношении Коминтерна, оттянуть войну. Сейчас трудно судить об этом. Ведь далеко не все зависело от политики тогдашнего руководства нашей страны. Свою весомую лепту в создание условий для прихода к власти Гитлера и затем в развязывание второй мировой войны внесли руководители правительств и политических партий стран Запада. Колесо истории невозможно
13
повернуть вспять и переиграть исторические события заново. Но советские люди, жившие в то время, чувствовали нараставшую угрозу войны. Об этом свидетельствуют как многочисленные исторические документы, так и мемуарная литература и периодическая печать тех времен.
Однако советские вооруженные силы в конце 20-х — начале 30-х годов по своему техническому оснащению стояли еще на уровне времен гражданской войны и их способность выдержать прямое военное столкновение с армиями развитых империалистических держав и защитить страну от иностранной агрессии вызывала серьезные сомнения.
Переоснащение вооруженных сил современным по тем временам вооружением наталкивалось на слабость военно-экономического потенциала страны. Ведь у нас не было в то время своей авиационной, автомобильной, тракторной, танковой и многих других важных для обороны отраслей промышленности. Ощущалась острая нехватка металлов. В 1929 году СССР выплавлял лишь 4 млн. т чугуна, в то время как Германия — 13,2 млн. т, а США — 43 млн. т1.
Необходимость ускорения индустриализации понимали все: и народные массы, и партийные и государственные руководители. Однако все понимали и другое: поскольку индустриализация должна проводиться исключительно за счет внутренних ресурсов, то она могла быть проведена лишь за счет крайнего напряжения всех сил страны. Какова должна быть степень этой напряженности и, соответственно, темпы ускорения, где взять необходимые средства? И вот тут единства не было. Часть руководящих деятелей: члены Политбюро Н. И. Бухарин, А. И. Рыков (он же председатель Совнаркома СССР), М. П. Томский и другие отстаивали путь индустриализации, основывавшийся на методах новой экономической политики. Суть их предложений сводилась к необходимости накопления средств для индустриализации, в том числе создания тяжелой индустрии и военно-экономического потенциала за счет расширения и ускорения гражданского оборота в стране, что должно было привести к увеличению прибылей и отчислений от них в госбюджет. Это ускорение было связано как с развитием легкой промышленности и производства товаров потребления, так и с развитием сельского хозяйства, различных форм кооперации в деревне (сбытовой, снабженческой, промысловой, товариществ по совместной обработке земли,
____________________
1 См.: История КПСС. М., 1962, с. 448.
14
эксплуатации машин и т. д.). Достоинством этого пути была сбалансированность между различными отраслями народного хозяйства, он создавал также условия для ускорения демократизации советского общества. В таком духе и был составлен под руководством Г. М. Кржижановского первоначальный проект первого пятилетнего плана. Однако этот путь недостаточно учитывал фактор времени. Правда, если принять во внимание, что курс внутренней политики, намеченный Бухариным и его сторонниками, сочетался с предлагавшимся ими же курсом в международном рабочем движении на преодоление его раскола, создание единого народного фронта в борьбе против фашизма, то это давало надежду на оттягивание войны. Но сейчас трудно судить, мог ли такой путь привести к своевременному преодолению индустриальной отсталости и созданию необходимого военно-экономического потенциала.
Иной путь предлагал Сталин и его сторонники. Он был нацелен на скорейшую индустриализацию любой ценой. Необходимые для этого средства Сталин предлагал взять за счет «дани» с крестьянства. Об этом он прямо заявил, выступая с речью «Об индустриализации и хлебной проблеме» в июле 1928 года на Пленуме ЦК ВКП(б)1. Обосновывая принятый в 1928—1929 годах курс на резкое ускорение темпов реконструкции народного хозяйства, и прежде всего индустриализации страны, Сталин утверждал: «Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»2. Примечательно, что эти слова были сказаны в речи на I Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности в феврале 1931 года — ровно за десять лет до начала Великой Отечественной войны. Характерно, что в 1929 году Сталин, ссылаясь на исторический прецедент, напомнил, что Петр I «лихорадочно строил заводы и фабрики для снабжения армии и усиления обороны страны» в попытке любой ценой, за счет неимоверных лишений и жертв «выскочить» из тисков отсталости3.
Чтобы взять дань с крестьянина-единоличника нужно было бы воссоздавать вооруженную силу типа продармии времен гражданской войны. Наиболее удобной формой изъятия хлеба
___________________
1 См.: Сталин И. В. Соч., т. 11, с. 159.
2 Сталин И. В. Соч., т. 13, с. 39.
3 См.: Сталин И. В. Соч., т. 11, с. 248—249.
15
в деревне были колхозы. Ведь там хлеб сразу засыпался в общий амбар и его вывоз уже не вызывал сопротивления. Этими соображениями в значительной мере и была обусловлена поспешная насильственная коллективизация. Она дала тот результат, на который рассчитывал Сталин. Несмотря на общее снижение валового сбора зерна с 73,3 млн. т в 1928 году до 69,5 млн. т в 1931 году и 69,9 млн. т в 1932 году1, государственные заготовки хлеба возросли вдвое (с 10,8 млн. т в 1928 году до 22,2 млн. т в 1931 году и 22,7 млн. т в 1932 году)2. Неизмеримо возрос экспорт хлеба (с 99,2 тыс. т в 1928 году до 4,84 млн. т в 1930 году и 5,18 млн. т в 1931 году)3. Так была получена валюта для индустриализации. Именно на эту валюту покупались машины, оборудование, оплачивались услуги иностранных специалистов-консультантов. Ведь СССР в начале 30-х годов стал крупнейшим импортером машин и оборудования. Достаточно сказать, что в 1931 году удельный вес СССР в мировом импорте машин и оборудования (без автомобилей) достиг 30%, а в 1932 году — 50%.4
Так решалась зерновая проблема в стране и проблема получения валюты для индустриализации.
Конечно, продовольственная проблема в стране могла быть радикально решена только на путях коллективизации сельского хозяйства. Однако формы и методы ее проведения могли быть и иными. Те формы и методы коллективизации, которые были избраны Сталиным и его окружением, не случайно вызывают сейчас справедливую критику. М. С. Горбачев в юбилейном докладе, говоря о методах проведения коллективизации, отметил: «Сегодня ясно: в огромном деле, которое затрагивало судьбы большинства населения страны, было допущено отступление от ленинской политики по отношению к крестьянству»5. Сложившаяся в промышленности административно-командная система управления была распространена и на сельское хозяйство. Если в промышленности при тогдашних ее объемах, когда все основные ее объекты были на виду,
__________________
1 Малафеев А. Н. История ценообразования в СССР (1917— 1963). М., 1964, с. 127.
2 Там же, с. 112.
3 См.: Индустриализация СССР (1929—1932 гг.) Док. и мат. М., 1970, с. 104.
4 См.: 50 лет советской внешней торговли. М., 1967, с. 41.
5 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19—20.
16
эта система в тех конкретных условиях могла давать определенный эффект, то «столь же жесткая система централизации и командования была недопустима при решении задач преобразования деревни»1. Вот лишь некоторые факты, подтверждающие этот тезис: 10 декабря 1929 г. Колхозцентр СССР разослал на места директиву, в которой потребовал в трехмесячный срок провести кампанию по обобществлению рабочего продуктивного скота, а в отношении тех членов коммун и сельхозартелей, кто откажется от обобществления скота и кормов, принять решительные меры воздействия. К окончанию весенней сельхозкампании 1930 года нужно было добиться обобществления в районах сплошной коллективизации рабочего скота — на 100%, коров — на 100%, прочего крупного рогатого скота — на 80 %, свиней — на 80 %, овец — на 60 %. Одновременно в директиве колхозам предлагалось срочно подготовить помещения и заготовить корма для обобществленного стада (это в декабре, когда все под снегом)2. Попытки проведения в жизнь директивы от 10 декабря 1929 года (и других подобных директив) привели к тому, что многие крестьяне стали резать свой скот. Лишь в феврале-марте 1930 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 14,6 млн. голов, свиней — на ?/з, овец и коз — более чем на ?3 Общие потери скота в начале 30-х годов были еще большими. Последствия столь резкого падения поголовья скота страна испытывала многие десятилетия. Такова цена скоропалительных, некомпетентных решений, принимавшихся в условиях жестко зацентрализованной административно-командной системы управления сельским хозяйством. Резкое увеличение государственных заготовок и, особенно, экспорта хлеба, естественно, вело к существенному снижению потребления продовольствия самим крестьянством, что и привело к голоду 1932—1933 годов, в результате которого умерло от 2 до 3 млн. человек4. Острая нехватка продовольственных товаров влекла за собой рост хищений, особенно в колхозах.
__________________
1 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М., 1987, с. 19.
2 См.: Колхозцентр. Двухнедельный информационный бюллетень Всероссийского союза сельскохозяйственных коллективов. 1929, № 24, с. 8.
3 См.: История КПСС, с. 444.
4 См.: Данилов В. П. Дискуссия в западной прессе о голоде 1932—1933 годов и «демографической катастрофе» 30—40-х годов в СССР. — Вопросы истории, 1988, № 3, с. 120.
17
В экстремальных условиях и борьба с хищениями, принимавшими массовый характер, велась столь же экстремальными средствами. 7 августа 1932 г. было издано постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»1. В нем расхитители общественной собственности объявлялись «врагами народа». К ним предусматривалось применение высшей меры наказания с заменой при смягчающих обстоятельствах расстрела лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества.
22 августа 1932 г. было принято постановление «О борьбе со спекуляцией», предусматривавшее за спекуляцию продуктами сельского хозяйства и промтоварами лишение свободы на срок от 5 до 10 лет без применения амнистии2.
Как известно, коллективизация сопровождалась ликвидацией кулачества как класса. Это означало изъятие у кулаков имущества, прежде всего средств производства (инвентаря, рабочего скота, хозяйственных построек и т. д.), и выселение их с прежнего места жительства. Началось проведение этих мер еще в конце 1929 года по инициативе снизу. По словам И. М. Варейкиса (в то время первого секретаря обкома ВКП(б) Центрально-Черноземной области) на местах действовали «на собственный риск и страх»3. И проводили не только конфискации и выселение, но и применяли более суровые репрессии, для чего в районах сплошной коллективизации создавались «тройки» (в составе первого секретаря РК партии, председателя райисполкома и начальника местного органа ГПУ).
Постановление ЦИК и СНК от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» наделило местные органы, по существу, чрезвычайными полномочиями. Постановление предоставляло краевым (областным) исполкомам и правительствам автономных республик право применять в районах сплошной коллективизации «все необходимые меры борьбы с кулачеством вплоть
__________________
1 СЗ СССР, 1932, № 62, ст. 360.
2 СЗ СССР, 1932, № 65, ст. 375.
3 См.: Источниковедение истории советского общества. М., 1964, с. 283.
18
до полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев (областей)»1.
Конкретные меры были разработаны комиссией Политбюро ЦК ВКП(б) под председательством наркома земледелия СССР Я. А. Яковлева и изложены в специальной директиве ЦИК и СНК от 4 февраля 1930 г.2. Комиссия предложила дифференцированный подход к кулачеству. Оно разделялось на три категории. Первая из них — кулаки, оказывающие активное сопротивление коллективизации, ко второй причислялись наиболее богатые кулаки, но не оказывавшие активного сопротивления. К третьей категории относились все остальные кулаки.
В соответствии с действовавшими в то время социально-экономическими критериями, которые были изложены в постановлении СНК СССР от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких хозяйств, в которых должен применяться кодекс законов о труде»3, перед началом коллективизации в деревне насчитывалось свыше 1 млн. семейств, причисленных к кулацким (примерно 5 млн. человек)4. Численность кулаков была явно завышена. Кулаков в прямом смысле этого слова (т. е. сельской буржуазии, эксплуатировавшей в широких масштабах наемный труд в сельском хозяйстве, содержавшей торгово-промышленные предприятия, занимавшейся ростовщичеством) было уже сравнительно немного. По подсчетам историков, не более 2-2,5%. В соответствии с критериями, изложенными в упомянутом выше постановлении СНК, к кулацким причислялись крестьянские хозяйства, у которых объем имевшегося имущества превышал средний для данной местности уровень (например, имелось 2-3 коровы, дом под железной крышей и т. д.). Иными словами, к раскулачиванию намечалась зажиточная, т. е. наиболее активная, умелая и трудолюбивая часть крестьян. Раскулачивание, т. е. конфискация имущества и выселение, производилось в административном порядке. Списки подлежавших раскулачиванию и их причисление к той или иной категории кулаков подготавливались местными органами власти, принимались сельскими сходами и утверждались райисполкомами. С конца 1929 года до середины 1930 го-
___________________
1 СЗ СССР, 1930, № 9, ст. 105.
2 См.:О работе комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам сплошной коллективизации. — Вопросы истории КПСС, 1964, № 1, с. 42.
3 СЗ СССР, 1929, № 34, ст. 301.
4См.: Советское крестьянство. Краткий очерк истории (1917— 1969). М., 1970, с. 230.
19
да было раскулачено свыше 320 тыс. семей, конфисковано имущество стоимостью более 400 млн. руб.1. С осени 1930 года до лета 1931 года прошла вторая волна раскулачивания. Значительная часть бывших кулаков переселялась в пределах своих областей. Однако к осени 1931 года свыше 265 тыс. семей, отнесенных ко второй категории, было выслано в отдаленные районы страны2. Там их размещали в отдельных поселках, главным образом в местах лесных и горнорудных разработок в качестве спецпоселенцев под административным надзором. Что касается кулаков, причисленных к первой категории (т. е. оказавших активное сопротивление), то они составляли примерно 10 % от общей численности кулацких семейств3. К ним применялись как в судебном, так и внесудебном (по решению «троек») порядке меры наказания вплоть до высшей меры. Но в подавляющем большинстве случаев они направлялись в исправительно-трудовые лагеря ОГПУ.
В начале 30-х годов аналогичные мероприятия стали проводиться и в городах в отношении нэпманских и иных слоев населения. Общая численность в стране элементов, которые определялись как классово-враждебные, включая кулаков и нэпманов, в 1928 году составляла 4,6% населения4. Это сравнительно небольшой процент. Однако, если учесть, что население страны в начале 30-х годов составляло около 160 млн. человек5, это и немало. Тем более, что вследствие «перегибов» на местах процент раскулаченных и репрессированных нередко значительно превышал установленные нормативы и доходил в некоторых местностях до 15 %6. Таким образом, раскулачивание практически захватило и значительную часть крестьян-середняков.
Лица, подлежавшие раскулачиванию, нередко пытались распродать или даже бросить свое хозяйство и бежать в крупные города (где легко затеряться) или на новые стройки. По подсчетам советских историков, в 1929—1930 годах «самораскулачивались» и бежали из деревни свыше 200 тыс. подлежавших раскулачиванию семейств или около 1 млн. человек7. В свя-
____________________
1 См.: Советское крестьянство, с. 237.
2 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2. М., 1971, с. 164.
3 См.: Советское крестьянство, с. 240, 235.
4 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 491.
5 См.: Народное хозяйство СССР в 1962 г. Статистический ежегодник. М., 1963, с. 7.
6 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 62.
7 См.: Советское крестьянство, с. 239.
20
зи с этим в городах резко усилились уголовная преступность, главным образом злостное хулиганство, пьянство и пьяная «поножовщина», имущественные преступления, посягательство на личность. В этой обстановке Советским государством была в декабре 1932 года введена паспортная система сначала в Москве, Ленинграде и других крупных и портовых городах1, а в дальнейшем и в других городах и поселках городского типа. Введение в паспорте графы о социальном происхождении направлено было на пресечение попыток лиц, причисленных к классово враждебным элементам, скрыться от направленных против них мер. Эта графа в паспорте была аннулирована Положением о паспортах 1974 года. Вместе с тем введение паспортной системы в том виде, как она была определена в законодательных актах 1932 и 1940 годов, было направлено на прикрепление крестьян к деревне, к колхозу, против их миграции в города. Ведь в сельской местности паспорта не вводились, а в городе жить без паспорта и прописки было нельзя.
Важное место в сталинском плане индустриализации заняла идея массового применения труда уголовно арестованных. Эта идея была выдвинута Н. Янсоном (тогда зам. наркома РКИ РСФСР) в его письме Сталину в 1928 году2. Массовая рабочая сила для применения бесплатного труда была создана первоначально за счет раскулачивания.
Как уже говорилось, в соответствии с установленными тогда социально-экономическими критериями в разряд классово враждебных элементов было зачислено 4,6% населения (от более чем 160 млн. человек населения страны). В процессе коллективизации фактически репрессии затронули гораздо большее число людей (в основном крестьян-середняков), в ряде регионов до 15 %3. Значительная часть их была направлена в исправительно-трудовые лагеря, сеть которых была в начале 30-х годов существенно расширена; часть была выслана в отдаленные местности в качестве спецпоселенцев под административный надзор. Кроме раскулаченных, туда же хлынул из города поток нэпманов, бывших членов антисоветских партий, бывших участников различных оппозиций, в большинстве своем давно отошедших от всякой политической деятельности, бывших офицеров, старой интеллигенции и т. д. В даль-
_______________________
1 СЗ СССР, 1932, № 84, ст. 516.
2 См.: Сов. государство и право, 1988, № 2, с. 115.
3 См.: История КПСС, т. 4, кн. 2, с. 62.
21
нейшем численность рабочей силы в лагерях поддерживалась за счет массы ни в чем не повинных граждан, коммунистов и беспартийных. Их труд широко использовался на строительстве дорог, каналов, нулевых циклах крупных строек, добыче полезных ископаемых, на лесоразработках. Достаточно сказать, что экспорт деловой древесины, например в начале 30-х годов, увеличился по сравнению с серединой 20-х годов в три раза.
Для того, чтобы убедить народные массы в необходимости и оправданности репрессий против старой интеллигенции, и были инсценированы судебные процессы так называемой «Промпартии» в 1930 году, когда на скамью подсудимых была посажена группа ученых во главе с проф. Рамзиным. Правда, Рамзин в дальнейшем был амнистирован и даже награжден орденом Ленина за изобретение знаменитого прямоточного котла.
В том же 1930 году были осуждены крупные ученые-экономисты А. Чаянов, Н. Кондратьев и др. Им было предъявлено ложное обвинение в создании якобы подпольной «крестьянской трудовой партии». Был проведен еще ряд громких публичных процессов. Главным считалось то, чтобы все подсудимые дружно «признавались» в своих «преступлениях». Материалы об этих судебных процессах читатель найдет в данном сборнике.
Принятие крайне напряженного первого пятилетнего плана, заведомо превышавшего реальные возможности страны (кстати, этот план так и не был выполнен), кредитная реформа (январь 1930 года) и реорганизация управления промышленностью (1932 год), направленные на строжайшую централизацию управления экономикой, завершили переход от экономических методов управления народным хозяйством, характерных для нэпа, к административно-командной системе управления. Административно-командные «авторитарные» методы управления распространены были практически не только на промышленность, но и на сельское хозяйство и на другие сферы общественной и государственной жизни. Хотя формально колхозная собственность была кооперативной, но колхозы были подчинены органам госуправления. Вновь (как и в годы гражданской войны) партийные органы стали мелочно опекать государственные и хозяйственные органы и нередко подменять их. Процесс бюрократизации не обошел и партию. Партийный аппарат подмял под себя государственный, практически слился с ним, образовав единую бюрократическую
22
«авторитарную» систему. При этом следует иметь в виду, что если в годы гражданской войны и военного коммунизма политическое руководство страны во главе с В. И. Лениным вело активную борьбу с тенденцией к бюрократизации государственного механизма, то с конца 20-х — начала 30-х годов стоявший во главе партии и государства Сталин вел борьбу за укрепление своей единоличной власти, утверждение своего культа, используя бюрократический аппарат. Социалистическая собственность практически стала отождествляться с государственной собственностью. Все остальные виды рассматривались как второстепенные. Государственная собственность выступала как общенародная, но фактическое распоряжение ею сосредотачивалось в руках аппарата управления, и это как раз и составляло как бы экономическую базу мощи этого аппарата. Сам аппарат, построенный по иерархическому принципу, представлял собой своеобразную пирамиду, где в условиях строгой централизации реальная власть концентрировалась наверху этой пирамиды в руках узкой группы лиц или даже одного человека — Сталина, сидевшего в кресле на ее вершине. А в таких условиях личные качества этого человека приобрели непомерно большое значение. Остальные звенья управленческой пирамиды рассматривались как простые «винтики». Во всяком случае именно так представлял себе дело Сталин, который писал, что при социализме «властвуют не те, кто выбирают и голосуют, а те, кто правят» — люди, «которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами». В подобной модели управления решения вышестоящих инстанций безоговорочно выполняются нижестоящими. Здесь нет и не может быть ответственности управляющих перед управляемыми, нет места для демократии. Таким образом, утвердилась тенденция к бюрократизации (противостоявшая тенденции к демократизации).
Возникает вопрос: почему же в конце 20-х годов, хотя и предлагался альтернативный план индустриализации на рельсах нэпа, все же принят был путь, предложенный Сталиным, приведший к утверждению его культа?
Во-первых, административно-командная модель управления делами общества, за которую выступал Сталин, прямо вытекала из тогдашних представлений о социализме, сложившихся в условиях раннего социализма. Мы уже говорили, что до Октябрьской революции и после нее в марксистской теории господствовал тезис о несовместимости товарно-денеж-
23
ных отношений с социализмом и о роли «революционного» принуждения как стимула работников к труду. Ленин начал пересмотр этих тезисов. Но он имел возможность обобщить практику лишь первых шагов реального процесса созидания социализма в нашей стране. И он рано умер, не успев завершить разработку проблем политэкономии социализма. О том, что и Сталин, и большинство партийных руководителей того времени (да и только ли того времени?) сохранили в области политэкономии представления раннего социализма, свидетельствует хотя бы опубликованная Сталиным в 1952 году его работа «Экономические проблемы социализма в СССР». Ведь только в результате дискуссии 1965 года по вопросам политэкономии социализма стал завоевывать признание тезис о действии закона стоимости и при социализме и о том, что товарно-денежные отношения не противопоказаны социализму.
Второй фактор, сыгравший решающую роль в утверждении культа личности, — это низкий уровень общей и, особенно, политической культуры народных масс и рядовых коммунистов и даже большинства руководящих партийных и советских работников. Существенную роль при этом сыграло то обстоятельство, что в результате массового приема в партию большого количества новых членов в середине и во второй половине 20-х годов из числа молодых рабочих (по существу вчерашних крестьян) уровень политической культуры партии серьезно снизился. И без того тонкий слой старых большевиков, обладавших большим политическим опытом, совершенно растворился в этой массе.
Низкий уровень культуры был связан с неграмотностью ? населения страны к моменту революции, сохранением во многих регионах страны сильных пережитков феодальных и даже дофеодальных отношений.
Нужно учитывать также, что в стране, где веками действовало крепостное право, где вплоть до февраля 1917 года сохранялось самодержавие, среди народных масс практически отсутствовали демократические традиции.
На политическое мышление как партийных кадров, так и народных масс наложила свой отпечаток длительная, ожесточенная гражданская война. Утвердился дух непримиримости и нетерпимости ко всякому инакомыслию. Именно в ходе гражданской войны сформировался обширный слой партийных, советских, хозяйственных руководителей, считавших, что
24
военные методы, которые дали триумфальную победу в гражданской войне, будут столь же эффективны в любой другой сфере, стоит лишь пустить их в ход.
Положение «осажденной крепости» в капиталистическом окружении, в котором длительное время находилась наша страна, также существенно сдерживало процесс демократизации и после окончания гражданской войны. Именно отсутствие должной степени демократизации советского общества и явилось главным условием формирования культа личности.
Тот факт, что не удалось создать достаточно надежный механизм демократического контроля масс за деятельностью аппарата, привел к тому, что аппарат, который и раньше (в 20-е годы), по словам Ленина, вырывался из рук, из слуги общества превратился в господина над обществом. Такую тенденцию в деятельности любого аппарата отмечал еще Ф. Энгельс около ста лет назад1. Он предвидел, что данная тенденция будет характерна и для пролетарского государства, если ей не противопоставить гласность, выборность и сменяемость чиновников. К сожалению, это предвидение Ф. Энгельса оправдалось в нашей стране. Сыграло свою роль и то, что к победившей, правящей партии примазывались всяческие авантюристы, готовые во имя карьеры, сохранения своих привилегий на все. Ведь на гребне всякого крупного исторического движения бывает и пена. Нельзя забывать также, что в стране действительно еще шла классовая борьба. Даже в условиях построения основ социализма нужна была бдительность в отношении враждебных элементов из среды белогвардейцев, кулаков, буржуазных националистов и т. д., а также агентуры спецслужб империалистических держав.
Сыграл свою роль, безусловно, и еще один фактор, о котором не принято было писать в наших историко-правовых и исторических сочинениях, а именно надежда на то, что назревавший развал Веймарской республики в Германии в 1928—1929 годах и возникновение там революционной ситуации может привести к революции в Германии. За этим вновь забрезжил призрак революции, если не в мировом масштабе, то хотя бы в нескольких европейских государствах.
В этой связи следует напомнить, что в 1917 году социалистическая революция в России рассматривалась в нашей партии как часть мировой революции, которая, хотя и задер-
_________________
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 22, с. 199.
25
живается, но вот-вот произойдет. С надеждами на мировую революцию связывались и возникновение Советской республики в Венгрии весной 1919 года, и поход на Варшаву в июле-августе 1920 года во время советско-польской войны, гамбургское восстание в Германии в 1923 году. Ведь вывод о строительстве социализма в одной отдельно взятой стране был сделан лишь в 1925 году на XIV съезде партии. Возникновение революционней ситуации в Германии в конце 20-х годов вновь возродило мысли о мировой революции. В случае начала революции в Германии необходимость оказания вооруженной поддержки ей против экспорта контрреволюции могла возникнуть, что называется, со дня на день уже в 1929—1930 годах. На наш взгляд, это объясняет ту поспешность, с которой Сталин стремился провести индустриализацию и создание военно-экономического потенциала любой ценой, не считаясь ни с какими человеческими и материальными жертвами.
Проведение политики, основанной на принуждении в отношении подавляющего большинства населения страны, требовало и соответствующей реформы административно-политического аппарата. И эта реформа была проведена в начале 30-х годов. Во-первых, усилилась его централизация. Милиция, ранее находившаяся в двойном подчинении — НКВД союзных республик и местных исполкомов, была выведена из-под контроля местных властей и подчинена непосредственно ОГПУ, а НКВД союзных республик в декабре 1930 года упразднены1. В 1934 году произошло преобразование ОГПУ в НКВД СССР, в котором сосредоточились органы госбезопасности, милиция, внутренние и пограничные войска, исправительно-трудовые лагеря и огромные стройки, рудники, лесоразработки и т. д., где трудились заключенные. В ряде статей настоящего сборника рассказывается о том, каков был режим в этих лагерях. Во-вторых, была проведена «чистка» аппарата НКВД, в ходе которой были уволены или репрессированы старые чекисты, работавшие еще с Дзержинским. В-третьих, значительно увеличилась численность аппарата НКВД, причем пополнение шло главным образом за счет недавних крестьян. Много в это время проникло в НКВД и различных авантюристов.
Аппарат НКВД занял особое место в государственном
_____________________
1 Конституция СССР 1924 года не предусматривала существования НКВД СССР. Наркоматы внутренних дел были лишь в союзных и автономных республиках.
26
механизме. Это выражалось и в его материальном обеспечении, и в порядке присвоения специальных званий, введенных в 1935 году, и в его полномочиях. При НКВД был образован орган по применению внесудебных репрессий — Особое совещание1.
В нашей исторической и историко-правовой литературе нередко можно встретить утверждение о том, что именно в 1934 году был впервые создан такой внесудебный орган и впервые стали применяться репрессии во внесудебном порядке. Это, конечно, неверно. Внесудебные репрессии широко применялись в годы гражданской войны. ВЧК была наделена чрезвычайными полномочиями. Но после окончания гражданской войны и перехода к мирному социалистическому строительству внесудебные полномочия ВЧК (а затем ОГПУ) были резко сокращены, хотя и не отменены полностью. В ходе судебной реформы 1922 года произошла ликвидация чрезвычайных судов — революционных трибуналов. Наказания стали применяться главным образом по судебным приговорам, хотя для некоторых категорий дел сохранялся внесудебный порядок применения репрессий по решениям комиссий по административным ссылкам и высылкам при НКВД союзных республик2. Вновь внесудебные репрессии стали широко применяться с конца 1929 — начала 1930 года, о чем уже говорилось выше. Именно тогда применение в массовом масштабе внесудебных репрессий повело к широкому проникновению как в народные массы, так и в партию настроений, характерных для гражданской войны. Такие настроения отразились и в теории права в различных левацких «загибах», получивших распространение в конце 20-х — начале 30-х годов, в частности в предложениях об «упрощении» уголовного процесса, подготовленном под руководством Н. В. Крыленко проекте уголовного кодекса без Особенной части, в так называемой теории «опасного состояния» личности, в соответствии с которой основанием уголовной ответственности должна быть не конкретная вина, а «опасное состояние» личности (определяемое, например, социальным происхождением и т. д.).
В постановлении ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. об образовании НКВД СССР говорилось о создании Особого совещания вместо существовавшей ранее Судебной коллегии ОГПУ,
_____________________
1 СЗ СССР, 1934, № 36, ст. 283.
2 СУ РСФСР, 1922, № 51, ст. 646.
27
которая упразднялась1. В постановлении ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. и принятом в его развитие 5 ноября 1934 г. постановлении об Особом совещании при НКВД СССР в его состав был введен прокурор СССР или его заместитель, а полномочия ограничивались правом применять во внесудебном порядке заключение в исправительно-трудовом лагере на срок до 5 лет, а также ссылку и высылку на тот же срок или выдворение за пределы СССР2.
Некоторое сокращение размаха репрессий началось еще с 1932 года, когда близилось к завершению раскулачивание в основных сельскохозяйственных регионах страны. 25 июня 1932 г. было принято постановление ЦИК и СНК «О революционной законности», осудившее нарушения законности, допущенные в ходе коллективизации3. Особенно заметным сокращение репрессий стало после XVII съезда ВКП(б), провозгласившего победу социализма в СССР.
Против дальнейшего развертывания репрессий, за меры, направленные на смягчение напряженности в стране (за снижение экспорта хлеба, отмену карточек, демократизацию общественно-политической жизни и т. д), выступал ряд видных партийных и государственных деятелей: С. М. Киров, В. В. Куйбышев, Г. К. Орджоникидзе, М. И. Калинин, С. В. Косиор, П. П. Постышев и др.
Сигналом к новой волне репрессий явилось убийство С. М. Кирова 1 декабря 1934 г.
В деле об убийстве Кирова много неясного. Не ясны обстоятельства самого убийства. Известно, что убийцу С. М. Кирова — Л. Николаева с оружием дважды задерживала охрана возле Смольного и оба раза по чьим-то указаниям отпускала. В момент покушения начальник охраны Кирова почему-то отстал от него на большое расстояние. Самого начальника охраны убили в инсценированной автомобильной катастрофе, когда везли на допрос к Сталину, Молотову и Ворошилову, а тех, кто его убил, затем тоже расстреляли4.
Если мы поставим вопрос, который ставили при рассмотрении дел еще римские юристы, — кому это выгодно? — то ответ будет однозначен: убийство С. М. Кирова было выгодно Сталину. Старые большевики, очевидцы событий тех лет, вспо-
____________________
1 СЗ СССР, 1934, № 36, ст. 283.
2 СЗ СССР, 1935, №11, ст. 84.
3 СЗ СССР, 1932, № 50, ст. 298.
4 См.: П л и м а к Е. Политическое завещание В. И. Ленина. Истоки, сущность, выполнение. М., 1988, с. 109—110.
28
минают, что уже перед XVII съездом ВКП(б) у многих коммунистов вызывала тревогу и недовольство обстановка, складывавшаяся в связи с культом Сталина. Делегат XVII съезда Л. Шаумян пишет, что у ряда делегатов, хорошо помнивших ленинское завещание, назревала мысль о том, что пришло время переместить Сталина с поста генсека на другую работу. Это не могло не дойти до Сталина. «Он знал, что для дальнейшего укрепления своего положения, для сосредоточения в своих руках еще большей единоличной власти решающей помехой будут старые ленинские кадры партии» 1. Другой делегат съезда — А. И. Микоян, бывший в то время кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б), следовательно, человек весьма осведомленный, в своих мемуарах (опубликованных уже после смерти автора) подтверждает сообщение Л. Шаумяна о недовольстве в партии культом Сталина и сообщает новые факты: на выборах ЦК Киров получил наибольшее количество голосов, против него было подано всего 3 голоса, а против Сталина в сто раз больше (т. е. около 300). Когда председатель счетной комиссии Затонский и курировавший комиссию от Президиума съезда тогдашний секретарь ЦК Каганович сообщили об этом Сталину, он (как пишет Микоян) потребовал, чтобы в протоколе выборов было указано тоже не более 3 голосов против него.
Группа старых членов партии — делегатов съезда, — пишет Микоян, — обратилась к Кирову с предложением стать генсеком. Киров отказался и сообщил об этом предложении Сталину2. Хотя внешне отношения Сталина с Кировым остались хорошими, однако, указывает Микоян, вдруг в «Правде» появился фельетон с личными выпадами в адрес Кирова, хотя его фамилия в фельетоне и не была названа, но написано было так, чтобы все узнали Кирова. Однажды на заседании Политбюро состоялось разносное обсуждение одной формулировки из статьи Кирова, написанной чуть ли не до революции.
Таким образом можно сделать вывод: накануне и во время съезда в партии, в том числе в самом верхнем ее эшелоне, проявилось недовольство культом Сталина, и, хотя и слабая, но была сделана попытка заменить Сталина на посту генсека. В глазах Сталина Киров оказался соперником. В свете
____________________
1 Правда, 1964, 7 февр.
2 См.: Микоян А. И. В первый раз без Ленина. — Огонек, 1987, № 50, с. 5.
29
этих фактов становится ясным, кому было выгодно устранение Кирова. Ясным становится и то, почему такие тяжелые удары обрушились на делегатов XVII съезда ВКП(б), который и в самом деле оказался съездом «расстрелянных». Из 1966 делегатов съезда было уничтожено 1108 человек, а из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранных на XVII съезде, погублено 98 человек, или 70 % состава ЦК1.
Убийство Кирова дало Сталину желанный повод (притом вполне убедительный в глазах народа) для развязывания массовых репрессий против всех недовольных усиливавшимся культом его личности.
В день убийства Кирова, 1 декабря 1934 г., было принято постановление ЦИК СССР о порядке ведения дел о террористических актах против работников советской власти, которое существенно урезало юридические гарантии прав обвиняемых по данной категории дел2. Сокращались до 10 дней сроки следствия, обвинительное заключение обвиняемому положено было вручать за 1 сутки до суда, в котором дело рассматривалось без участия сторон (т. е. без прокурора и адвоката). Кассационное обжалование и подача ходатайств о помиловании не допускались, и приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно. Аналогичный порядок вводился 14 сентября 1937 года и по делам о вредительстве и диверсиях3. Максимальный срок лишения свободы по делам о государственных преступлениях увеличивался с 10 до 25 лет. Дела лиц, привлекавшихся к ответственности по политическим обвинениям, по инициативе Кагановича стали разбираться во внесудебном порядке с применением высшей меры наказания. Учитывая большое число таких дел, по предложению Молотова наказание производилось по спискам4. Особое совещание стало действовать не в полном составе, предусмотренном законом, а в виде «тройки», а потом и «двойки»: нарком внутренних дел (сначала Ежов, а с 1938 года Берия) и прокурор СССР (Вышинский). На местах тоже возникли «тройки» и «двойки». Судебный порядок, установленный законами от 1 декабря 1934 г. и 14 сентября 1937 г., мало
____________
1 См.: Шаумян Л. Культ личности. — Философская энциклопедия. М., 1964, т. 3, с. 116.
2 СЗ СССР, 1934, № 64, ст. 459.
3 СЗ СССР, 1937, № 61, ст. 266.
4 См.: XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. 11. М., 1962, с. 215—216.
30
чем отличался от внесудебного. Герой Советского Союза, генерал армии А. В. Горбатов, незаконно репрессированный в 1938 году, в своих мемуарах писал, что суд длился 4—5 минут. Были сверены лишь его имя, фамилия, год и место рождения и задан один вопрос: почему он не сознался в своих «преступлениях». Получив ответ, что ему не в чем сознаваться, так как он не совершал преступления, суд тут же объявил приговор: 15 лет заключения в тюрьме и лагере плюс 5 лет поражения в правах.
Если репрессии конца 20-х — начала 30-х годов были направлены против остатков кулачества, нэпманов, зажиточных слоев населения деревни и города, старой интеллигенции, то, начиная с декабря 1934 года, они, расширяясь, втягивали в свой круговорот и другие социальные слои. Наконец, в середине и во второй половине 30-х годов они обрушились на партийный и советский аппарат, командный состав армии, широкий слой хозяйственников. Нетерпимость и всеобщая подозрительность делали свое дело. Неполадки на производстве, брак расценивались как вредительство, диверсия. Освоение новых производств было сопряжено с большими трудностями, остро ощущалась нехватка инженерно-технических кадров, квалифицированных рабочих. На производство пришли сотни тысяч людей, не имевших никакой квалификации: молодых людей, женщин, бывших крестьян. Массовый характер носили нарушения технологической дисциплины. Дорогостоящее оборудование нередко ломалось из-за неумелого обращения, повышался процент брака. В этих условиях недостатка во «вредителях» и «диверсантах» не было.
По указанию Сталина сначала репрессиям подверглись бывшие идейные противники и возможные соперники, которые были объявлены агентами империализма и иностранных разведок. Такие же обвинения предъявлялись и другим коммунистам и беспартийным, никогда не участвовавшим ни в каких оппозициях. Были репрессированы не устраивавшие. Сталина партийные и государственные деятели, видные военачальники, многие другие ни в чем не повинные люди. Так утверждался режим личной власти Сталина, насаждался страх, подавлялось любое выражение собственного мнения. Не удивительно поэтому, что репрессиям в первую очередь подверглись старые большевики, соратники В. И. Ленина, так как этих людей, идейно закаленных и имевших большой политический опыт, было труднее запугать, заставить отказаться от высказывания своих убеждений. Труднее их было и обма-
31
нуть. Чтобы оправдать массовые репрессии в глазах трудящихся, был организован ряд открытых судебных процессов, главными обвиняемыми на которых стали виднейшие деятели партии и Советского государства, работавшие с В. И. Лениным. Сразу после убийства Кирова, в январе 1935 г. в суде слушалось дело Зиновьева, Каменева и др. Тогда мера наказания была ограничена лишением свободы: Зиновьева — на 10 лет, Каменева — на 5 лет. Однако в августе 1936 года состоялся повторный процесс по так называемому делу «объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра», на котором главные обвиняемые: Зиновьев, Каменев, Смирнов, Мрачковский были приговорены к расстрелу. В январе 1937 года состоялся суд над Пятаковым, Сокольниковым, Серебряковым и Радеком (дело так называемого «запасного троцкистского террористического центра»). Наконец, самый крупный судебный процесс состоялся в марте 1938 года по делу так называемого «правотроцкистского блока», по которому проходили бывший член Политбюро ЦК Н. И. Бухарин, бывший член Политбюро ЦК и председатель Совнаркома СССР А. И. Рыков, бывшие члены ЦК и наркомы Крестинский, Розенгольц, Гринько, Чернов, бывший председатель СНК Узбекской ССР Ф. Ходжаев и др. Главные обвиняемые по этим процессам были расстреляны. В сборнике читатель найдет ряд статей, посвященных этим инсценированным процессам и характеристике их участников1. В чем состоял смысл этих
____________
1 Трагическая судьба, постигшая всех этих людей, наложила свой отпечаток на оценку их личности в статьях, собранных в данном сборнике. Но нужно иметь в виду, что это были сложные и нередко противоречивые фигуры. Все они были видными партийными и государственными деятелями, субъективно честными и преданными делу революции, и репрессии в отношении них были незаконными. Но многие из них допускали политические ошибки, а некоторые сами были повинны в необоснованных массовых репрессиях. Примером может служить Г. Зиновьев. Именно по его приказу были произведены массовые расстрелы заложников в Петрограде в сентябре 1918 года, когда наряду с деятелями старого режима погибли и многие представители старой интеллигенции. Он отдавал приказы и о расстрелах в Петрограде бывших офицеров и интеллигенции весной 1921 года во время Кронштадтского мятежа и после него (именно тогда по необоснованному обвинению был расстрелян поэт Н. Гумилев).
Можно вспомнить и о массовых расстрелах в Крыму в конце 1920 года. После изгнания Врангеля из Крыма была объявлена регистрация бывших офицеров. Большое число молодых офицеров из числа мобилизованного белыми студенчества, учителей и других слоев интеллигенции, осознавших крах «белого дела», зарегистрировалось. Им обещали амнистию и работу. Но затем по приказу чрезвычайной (продолжение сноски на следующей странице – Д.Т.)
32
процессов? Сталину было важно, чтобы в открытых судебных заседаниях обвиняемые оговорили себя, сами «признались» в измене Родине и других тяжких преступлениях. Такие самооговоры должны были убедить народные массы в справедливости репрессий. На заседании Пленума Верховного Суда СССР, отменившего в феврале 1988 года несправедливый приговор Военной коллегии, вынесенный в марте 1938 года по делу так называемого «правотроцкистского блока», и оправдавшего Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других лиц, проходивших по этому делу (за исключением Г. Г. Ягоды), говорилось о том, какими изощренными пытками, угрозами уничтожения семей «добывались» самооговоры обвиняемых.
Одновременно Сталин на февральско-мартовском Пленуме ЦК партии в 1937 году выдвинул тезис: по мере успехов социалистического строительства сопротивление классового врага будет усиливаться, а классовая борьба — обостряться. Этот тезис был выдвинут в условиях, когда социализм в нашей стране победил и социальной основы для обострения классовой борьбы в стране уже не было. Однако этот политический маневр в значительной мере достиг своей цели. Сталин внушал, что очищение от «врагов» нужно для укрепления обороноспособности страны в условиях капиталистического окружения. А в народных массах еще живы были воспоминания о гражданской войне. Не следует забывать, что одновременно с репрессиями наглядны были и успехи Советского государства: эпопея челюскинцев, высадка Папанина и его товарищей на дрейфующую льдину на Северном полюсе, героические перелеты экипажей Чкалова, Громова в Америку через Северный полюс и т. д. Имело значение и то, что народным массам стало несколько легче жить: улучшилось снабжение населения, отменены были карточки на продовольственные и промышленные товары. Крупных деятелей, выступавших в 1934 году против развертывания репрессий, в руководстве уже не было. Киров был убит 1 декабря 1934 г. Куйбышев скоропостижно скончался почти вслед за Кировым в январе 1935 года. Орджоникидзе застрелился в феврале 1937 года за пять дней до открытия февральско-мартовского Пленума1. П. П. Постышев и некоторые другие члены ЦК возра-
_______________
(со стр. 32) «тройки», которой руководил Г. Пятаков, их стали вывозить за город и расстреливать из пулеметов.
1 В сообщении о смерти Г. К. Орджоникидзе говорилось, что он якобы умер от разрыва сердца. Лица, которые составляли акт о смер- (продолжение сноски на след. стр.)
33
жали против расстрела Бухарина, за что и сами вскоре заплатили жизнью.
Сталин лично подбирал руководящие кадры органов НКВД, убирая всех, кто был не согласен с его линией на репрессии. Убирал он и тех, кто много знал, сваливая на них же ответственность за репрессии. Так был расстрелян Ягода. Сменивший его Ежов в свою очередь также был освобожден в 1938 году от должности наркома внутренних дел и заменен Берией, а впоследствии расстрелян. Сталин повседневно контролировал деятельность НКВД и непосредственно давал указания Ежову, а затем Берии об арестах. Так, на показаниях одного арестованного он написал: «Т. Ежову. Лиц, отмеченных мною в тексте буквами «ар.», следует арестовать, если они уже не арестованы. И. Сталин». На другом документе — очередном докладе Ежова об аресте группы работников, содержавшем списки арестованных и данные о других лицах, которые проверялись «для ареста», — также рука Сталина: «Не «проверять», а арестовать нужно». Репрессии лично санкционировались Сталиным. Вот одна из многочисленных записок Ежова Сталину: «Тов. Сталину. Посылаю на утверждение четыре списка лиц, подлежащих Суду Военной коллегии: 1. Список № 1 (общий). 2. Список № 2 (быв. военные работники). 3. Список № 3 (быв. работники НКВД). 4. Список № 4 (жены врагов народа). Прошу санкции осудить всех по первой категории. Ежов». Под первой категорией осуждения имелся в виду расстрел. Списки были рассмотрены Сталиным и Молотовым и на каждом из них имелась резолюция: «За. И. Сталин. В. Молотов»1.
И все же сейчас находятся люди, которые говорят, что Сталин будто бы не знал о репрессиях, что виновниками являются Ежов и Берия. Приведенные документы начисто это опровергают. Именно он был инициатором репрессий, по его приказу они проводились. Он находил и назначал на должности исполнителей своих приказов. Вот один из них — Вышинский, занимавший тогда пост прокурора СССР. Он говорил на
________________
ти Орджоникидзе, были вскоре расстреляны. Так, доктора Плетнев, Левин были включены в число подсудимых по делу «правотроцкистско-бухаринского блока». Сейчас и версия о самоубийстве Орджоникидзе оспаривается. Приводятся данные о том, что он был застрелен по приказу Сталина. Эта версия подтверждается, по нашему мнению, тем, что в дальнейшем были репрессированы родственники и друзья Орджоникидзе.
1 XXII съезд КПСС. Стенографический отчет, т. III, с. 152.
34
собрании партактива прокуратуры СССР в марте 1937 года: «Надо помнить указание т. Сталина, что бывают такие периоды, такие моменты в жизни общества и в жизни нашей, в частности, когда законы оказываются устаревшими и их надо отложить в сторону» . Оправданию произвола служила и выдвинутая Вышинским «теория», согласно которой по делам о государственных преступлениях главным и решающим доказательством является признание самого обвиняемого. Она нацеливала следователей на то, чтобы любой ценой и любыми способами добиться от арестованных признания своей «вины».
Ставшие известными данные о массовых незаконных репрессиях породили в сознании многих советских людей негативное представление о роли органов госбезопасности в 30-е годы и перед началом войны. Фактически дело обстоит гораздо сложнее. Действительно, органы НКВД явились оружием, которое использовал Сталин в укреплении и поддержании режима своей личной власти, своего культа. Хотя надо напомнить, что сами органы НКВД понесли ощутимые потери: были уничтожены в своем большинстве старые чекисты — соратники Дзержинского, многие честные работники. Репрессировано более 20 тыс. работников НКВД. Многие работники НКВД, сознавая безвыходность своего положения, кончали жизнь самоубийством, ведь за отказ от выполнения преступных приказов немедленно следовали расстрел, клеймо «врага народа» и жестокие репрессии в отношении семьи. Но нельзя забывать, что органы НКВД обезвредили и Большое число действительных врагов. Ведь это факт, что была выловлена и обезврежена перед войной агентурная сеть и основные резидентуры гитлеровской разведки. Ведь это факт, что после начала Отечественной войны в нашей стране не оказалось «пятой колонны» (как это случилось, например, во Франции и в других странах). Это факт, что советская разведка вовремя доставила высшему военно-политическому руководству страны копию плана «Барбаросса» и установила день и час нападения гитлеровских агрессоров на нашу страну. И не вина разведки, что эти данные не были правильно оценены и Сталин посчитал их фальшивкой, подкинутой английской разведкой, чтобы втянуть нас в войну и тем облегчить положение воевавшей с Германией Англии. Таким образом, это по вине Сталина, а не по вине нашей разведки противник застал врасплох советские вооруженные силы в начале войны. Это надо помнить и отдать долг памяти тысячам советских чекистов, внесшим
35
свой вклад в победу над гитлеровским нацизмом и отдавшим жизнь за Родину.
Наряду с открытыми судебными процессами, о которых говорилось выше, в 1937—1941 годах прошло большое число закрытых процессов. Они, как правило, проводились в упрощенном порядке. Характерно, что среди лиц, проходивших по этим процессам, мы видим как видных партийных, государственных, военных работников, так и десятки, сотни тысяч никому не известных простых людей. Пример такого дела описан в публикуемой в сборнике статье о «деле» Ивана Демуры. И. Демура — плотник — был обвинен в том, что он якобы участник террористической группы, и судила его выездная сессия Военной коллегии Верховного Суда СССР. Чем объяснить этот факт? Да тем, что в это время (1938 год) фабриковалось дело против командования Особой Краснознаменной Дальневосточной армии и руководства крайкома партии Дальнего Востока. Им инкриминировалось создание якобы широкой сети террористических организаций для отторжения Дальнего Востока от СССР и передачи его Японии. Вот и нужно было набрать внушительное число таких «террористов». И. Демура и попал в это число. Попал случайно. Ведь следователям важно было набрать внушительное общее число «террористов». А кто это будет, не столь важно. Так же как практически не имело значения и то: «сознался» подследственный в вымышленных «преступлениях» или нет. Ведь списки осужденных представлялись на санкцию руководству заранее. А когда была санкция, «осечки» уже быть не могло. Да и «нужно» же было кого-то расстреливать, кого-то отправлять в лагеря. Ведь лагеря «нужно» было заполнять «дешевой» рабочей силой. Репрессии насаждали страх, который был важнейшим орудием укрепления режима личной власти Сталина, его культа. Наконец, массовые репрессии создавали ощущение грозной опасности, чрезвычайного положения, что уже само по себе «оправдывало» репрессии, помогало организовывать атмосферу массовой истерии, столь характерной для режима культа.
Самым крупным среди закрытых процессов был процесс, состоявшийся 11 июня 1937 г. по делу о так называемом «военном заговоре», по которому проходили заместитель наркома обороны маршал Тухачевский и группа видных военачальников (Якир, Корк, Уборевич, Путна, Эйдеман, Примаков и Фельдман). Этот процесс имел особое значение. Он факти-
36
чески явился сигналом к развертыванию массовых репрессий в армии.
Достаточно сказать, что по подсчетам генерала Тодорского (который сам был репрессирован, но чудом выжил и был затем реабилитирован) было репрессировано: из 5 маршалов — 3, из 2 армейских комиссаров 1 ранга — 2; из 4 командармов 1 ранга — 2; из 12 командармов 2 ранга—12; из 2 флагманов флота 1 ранга — 2; из 15 армейских комиссаров 2 ранга— 15; из 67 комкоров — 60; из 28 корпусных комиссаров— 25; из 199 комдивов — 136; из 397 комбригов — 221; из 36 бригадных комиссаров — 34. Эти цифры даны по всей вероятности по состоянию на 1938 год, так как здесь не учтены репрессированные в 1939 году флагманы флота 2 ранга Кожанов и Смирнов-Светловский, флагманы 1 ранга Панцержанский, Душенов, Киреев, Лудри и др.
Правда, в 1940—1941 годах часть военачальников были выпущены из тюрем и восстановлены в армии (К. К. Рокоссовский, К. А. Мерецков, А. В. Горбатов, Л. Г. Петровский и др.).
В ходе репрессий погибли такие талантливые военачальники, как маршалы Советского Союза М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, А. И. Егоров, командармы И. Э. Якир, И. П. Уборевич, А. И. Корк, И. Ф. Федько, П. Е. Дыбенко, И. П. Белов, В. М. Примаков, Н. Д. Каширин, И. Н. Дубовой, руководители советской разведки в 20-е — 30-е годы Я. К. Берзин, Н. В. Куйбышев (брат В. В. Куйбышева) и многие другие. Только в 1937—1938 годах было неоправданно репрессировано около 9 тыс. (а всего свыше 40 тыс.) высших и старших командиров и политработников армии и флота. В результате к началу Отечественной войны на высоких командных должностях оказалось много людей с недостаточными знаниями и опытом, так лишь 7 % высшего комсостава имели общее или специальное высшее образование, а 37 % не имели даже среднего образования. Но дело не только в этом. Аресты как «врагов народа» и «предателей» многих тысяч командиров и политработников привели к подрыву доверия солдат к своим командирам и к тому, что сами командиры стали бояться проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения. Среди командного состава стала наблюдаться инертность, безынициативность, пассивное ожидание указаний «сверху», что особенно тяжело сказалось в первые недели и месяцы войны.
Чем же были вызваны эти репрессии? Данный вопрос нашей исторической наукой не исследован и до сих пор пол-
37
ностью не ясен. Однако уже сейчас, на основании тех сведений, которыми мы располагаем, можно высказать ряд соображений. Известно, что Сталин неприязненно относился к Тухачевскому и многим другим военачальникам еще с времен гражданской войны. Ведь в завязавшейся в военной литературе в 20-е годы полемике бывшие руководители Западного фронта (а командующим этим фронтом в 1920 году был Тухачевский) и многие военные историки высказывали мнение, что одной из причин поражения советских войск под Варшавой в августе 1920 года было то, что член РВС Юго-Западного фронта Сталин и руководители 1-й Конной армии Буденный и Ворошилов из-за честолюбивой попытки самостоятельно захватить Львов отказались выполнять директиву главкома о переброске войск, в частности 1-й Конной армии, на север для прикрытия фланга Западного фронта, что и дало возможность противнику обойти южный фланг Западного фронта и нанести удар по его войскам с фланга и тыла.
Таким образом, многие военные публично называли Сталина, а также Буденного и Ворошилова виновниками поражения наших войск под Варшавой. Учитывая характер Сталина, это уже достаточный повод для применения репрессий против указанных военных в удобный момент. Но в начале 30-х годов Тухачевский и активно поддержавшие его Якир и Уборевич выдвинули ряд важных идей, направленных на реорганизацию вооруженных сил, в частности разработали теорию «глубокой операции», которая предполагала нанесение ударов по противнику крупными танковыми соединениями при массированной поддержке авиации. Иными словами, эта теория предвосхищала способы ведения военных действий, применявшиеся во второй мировой войне. В середине 30-х годов в руководстве вооруженными силами развернулась острая дискуссия о характере современной войны и организационной структуре воинских соединений. Значительная часть военачальников разделяла идеи Тухачевского и добивалась создания вместо кавалерии крупных механизированных, военно-воздушных и воздушно-десантных соединений. Новые идеи были успешно испытаны на серии больших маневров в 1935—1936 годах. Тогда Сталин поддержал идеи Тухачевского. Тухачевский был нужен для проведения модернизации армии. Однако в 1936 и в начале 1937 года среди высшего командного состава все больше стало проявляться недоумение, а затем и недовольство по поводу массовых репрессий в промышленности (в том числе и в оборонной), отрицательно сказывавшихся на тем-
38
пах перевооружения армии. Так, например, начальник Морских Сил флагман флота 1 ранга Орлов в своем докладе в 1937 году наркому обороны Ворошилову подчеркнул, что на заводе «Большевик», который являлся единственным в СССР заводом, где было сосредоточено проектирование, разработка и изготовление морской артиллерии, положение с разработкой новых образцов для большой морской программы явно катастрофическое в результате ареста почти всех руководящих работников конструкторского бюро, заводоуправления и цехов. Завод, продолжал начальник Морских Сил, почти полностью деморализован и не может выполнить программу заказов для морских сил. В этой ситуации Сталину, видимо, показалось опасным оставлять во главе армии такие яркие, самостоятельно мыслящие личности, как Тухачевский и многие его сторонники. Тем более, что неправильно истолкованный опыт войны в Испании, по существу войны гражданской, где не применялась в массовом масштабе техника, дал временный перевес противникам Тухачевского в руководстве наркомата обороны — сторонникам методов времен гражданской войны (Ворошилову, Буденному, Кулику, Щаденко и др.), по-прежнему уповавшим на лихие кавалерийские атаки с шашками наголо. Вот тогда и было состряпано «дело» о так называемом «военно-фашистском заговоре» в Красной Армии. Обращает на себя внимание тот факт, что все обвиняемые были арестованы без санкции прокурора, хотя в соответствии с принятой в декабре 1936 года Конституцией СССР такая санкция была обязательна. На состоявшемся 1—4 июня 1937 г. заседании Военного Совета при народном комиссаре обороны с участием членов правительства с обвинениями против Тухачевского и его сторонников выступил тогдашний нарком обороны Ворошилов, потребовавший для них смертной казни. Уже в резолюции Военного Совета, принятой до суда, предрешался вопрос о смертном приговоре «заговорщикам». Следствие по этому делу проведено было буквально в две недели, а заседание Специального присутствия Верховного Суда СССР, состоявшееся 11 июня 1937 г., продолжалось всего лишь один день. Дело слушалось в упрощенном порядке без участия прокурора и адвоката. Приговор обжалованию не подлежал, и 12 июня Тухачевский и группа высших военачальников были расстреляны. Зам. наркома обороны, он же начальник Главного политического управления Гамарник успел застрелиться при аресте. В исторической литературе широкое распространение получила версия о роковой роли в деле
39
Тухачевского и его сторонников фальшивых документов об их якобы измене, подброшенных через чехословацкого президента Бенеша Сталину. Эта версия появилась впервые на Западе после Отечественной войны. Подлинники этих документов (если они существовали) не разысканы. Эта версия была выгодна Сталину, Ворошилову и другим организаторам данного «судебного процесса», так как хоть как-то «оправдывала» его. В действительности в материалах Специального присутствия такие документы не фигурировали. Обвинительное заключение носило общий, голословный характер. Однако в материалах судебного заседания содержались и более конкретные обвинения. И состояли они в следующем: во-первых, разработанная Тухачевским и его сотрудниками теория «глубокой операции» была названа теорией «глубокого предательства»; во-вторых, как вредительство было расценено настойчивое отстаивание Тухачевским, Якиром и Уборевичем концепции ускоренного формирования танковых соединений за счет сокращения численности и расходов на кавалерию; в-третьих, намерение Тухачевского, Уборевича, Корка, Путны и Гамарника обратиться в правительство с просьбой об отстранении Ворошилова от должности наркома обороны из-за его некомпетентности в военных вопросах было расценено как вынашивание террористических намерений в отношении Ворошилова. Характерно, что Сталин организовал уничтожение группы высших военачальников во главе с Тухачевским руками самих военных, включив в состав Специального присутствия Верховного Суда СССР маршалов Буденного и Блюхера, начальника Генштаба командарма 1 ранга Шапошникова, зам. наркома обороны по авиации командарма 2 ранга Алксниса, командующих Московским, Ленинградским и Северо-Кавказским военными округами командарма 1 ранга Белова, командарма 2 ранга Дыбенко и командарма 2 ранга Каширина, а также командира кавалерийской дивизии им. Сталина комдива Горячева, заставив их подписать приговор. Тем самым они как бы подкрепили своим авторитетом (а все они были популярны в армии) «справедливость» данного приговора. Но тем же самым они как бы удостоверили и «справедливость» будущих обвинений в свой адрес, так как в скором времени все они (за исключением Буденного и Шапошникова) также были арестованы и расстреляны. Репрессии обрушились и на многих конструкторов оборонной техники. Расформирован был Институт ракетной техники, а его руководители (Клейменов, Королев и др.) репрессированы. Подвергся аресту ряд авиаконструкторов во главе с
40
Туполевым. И не удивительно, ведь именно Тухачевский занимался в наркомате обороны проблемой вооружений, курировал разработку военной техники. Поэтому и руководители большинства научно-исследовательских и конструкторских учреждений по военной технике, по долгу службы связанные с Тухачевским, не избежали репрессий. Вслед за тем расформированы были механизированные корпуса и воздушные армии, а танки и авиация отдельными частями и подразделениями приданы пехоте и кавалерии. Механизированные корпуса стали воссоздаваться лишь в 1940 году, и большинство из них не закончили формирования к началу войны, а воздушные армии восстановлены были в 1942—1943 годах.
В своем выступлении по поводу 20-летнего юбилея Красной Армии 23 февраля 1938 г. тогдашний нарком обороны К. Е. Ворошилов, намекая на тех, кто требовал создания вместо кавалерии крупных механизированных соединений, подчеркнул, что такую же позицию занимают генштабы буржуазных стран. «Мы,— сказал далее нарком, — стоим на иной точке зрения... Мы убеждены, что наша доблестная конница еще не раз заставит о себе говорить как о мощной и победоносной Красной кавалерии». По свидетельству Маршала Г. К. Жукова, Ворошилов очень не любил Тухачевского, прежде всего потому, что сам он в роли наркома обороны был человеком малокомпетентным, в то время как Тухачевский был крупным военным специалистом и вел основную работу в наркомате обороны. По словам Жукова, Ворошилов «так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно». Зато Ворошилов был лично предан Сталину и на него (и его заместителей после мая 1937 года Кулика, Щаденко и Мехлиса) Сталин вполне мог полностью положиться во всем, в том числе и в проведении массовых репрессий в армии, так дорого обошедшихся советскому народу в 1941 году.
В июне 1941 года за несколько дней до начала войны и в первые дни войны началась новая волна репрессий в армии. Были арестованы зам. наркома обороны генерал армии Мерецков (вторично), нарком вооружений Ванников, помощник начальника Генштаба по авиации дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Смушкевич, начальник управления ПВО Герой Советского Союза генерал-полковник Штерн, зам. наркома обороны, командующий Прибалтийским особым военным округом генерал-полковник Локтионов, зам. наркома обороны генерал-лейтенант авиации Рычагов, зам.
41
начальника главного артиллерийского управления генерал Савченко, начальник Военно-воздушной академии генерал-лейтенант Арженухин, видный артиллерийский конструктор Таубин и многие-многие другие. Эти аресты серьезно сказались на деятельности высших органов военного управления. Все высшие военачальники ждали ареста, расправы, боялись высказать свое мнение, отстаивать его. Поскольку арестовано было командование военно-воздушными силами и ПВО, то наша авиация и противовоздушная оборона были практически обезглавлены в самый канун войны.
Известно, какие потери понесла наша авиация в первые дни войны из-за того, что не успела перебазироваться на полевые аэродромы. Только в первый день мы потеряли около 1200 самолетов, из них большинство было уничтожено на аэродромах, не успев взлететь. Не в репрессиях ли, парализовавших командование авиацией и противовоздушной обороной, крылась одна из причин таких потерь?
В литературе много пишут о просчете с определением сроков нападения фашистской Германии на СССР. Но ведь это далеко не единственный просчет, который пагубно сказался на готовности страны к отражению агрессии. В обстановке культа личности Сталина многие важнейшие решения, касавшиеся обороны страны, принимались им единолично и неоднократно приводили к просчетам. Вот один из примеров. В начале 1941 года Сталин вопреки протестам ряда наркомов, в том числе наркома вооружения Б. Л. Ванникова, подписал подготовленный Г. И. Куликом (занимавшим в то время пост заместителя наркома обороны) проект постановления о работе артиллерийской промышленности, по которому было прекращено производство крайне нужных армии 45 и 76-миллиметровых противотанковых пушек. Этот непростительный просчет дорого обошелся нашей армии в начальный период Великой Отечественной войны.
Из числа арестованных военачальников и руководителей военной промышленности вскоре были освобождены Мерецков, Ванников и еще десятка полтора людей. Остальные в октябре 1941 года расстреляны без суда по предписанию Берии, причем многие из них вместе с женами. Характерна, например, формула обвинения в отношении жены генерала Рычагова, известной летчицы майора Марии Нестеренко: «... будучи любимой женой Рычагова, не могла не знать об изменнической деятельности своего мужа». Все эти люди сейчас посмертно реабилитированы. Следует отметить, что рас-
42
стрелы военачальников были проведены в конце октября 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы и Ленинграда.
Борис Львович Ванников в своих мемуарах пишет, что в июле 1941 года ему в тюрьму было передано указание Сталина «письменно изложить свои соображения относительно мер по развитию производства вооружения в условиях начавшихся военных действий». Среди ночи Ванникова доставили из тюрьмы в кабинет Сталина для доклада. По окончании доклада, который понравился, Сталин сказал: «Можете идти». Когда Ванников остановился в растерянности: куда идти, в тюрьму? — Сталин добавил: «Идите работайте, тут время такое, а он нашел время сидеть в тюрьме». Таковы были шутки диктатора.
В годы Отечественной войны размах репрессий существенно сократился. Правда, в первые ее месяцы были репрессированы многие генералы и командиры за неудачи в военных действиях. Наиболее известное дело такого рода — несправедливое осуждение и расстрел руководителей Западного фронта в июле 1941 года генералов Павлова, Климовских, Клыча, Григорьева, Коробкова и др. Цель данного «дела», как и многих других подобных дел: найти «козлов отпущения» и свалить на них всю вину за поражения. Вместе с тем Сталин хотел таким образом «подстегнуть» остальных генералов, добиться стойкости войск при помощи страха перед жестокими наказаниями. Высокий патриотический подъем, самоотверженность, проявленные советскими людьми в годы войны, доказали негодность сталинской установки на репрессии и страх.
В этой связи нельзя пройти мимо позорного решения Сталиным судьбы советских военнослужащих, попавших в плен к гитлеровцам. Число их было весьма значительным. Только к концу 1941 года в плен попало в результате крупных военных неудач свыше 3,9 млн. человек. Конечно, среди военнопленных были и такие, кто сам сдавался в плен, были и предатели. Но основная, их масса честно сражалась и попала в плен не по своей вине и в плену вела себя достойно. Причины наших военных неудач широко обсуждались в печати, они известны: это и нехватка военной техники, и плохое снабжение. А главное — просчеты в планировании, низкий уровень подготовки командного состава, особенно старшего и высшего, неумелое командование, слабое руководство войсками со стороны верховного командования, плохая организация, отсутствие связи. Наша армия и народ кровью платили за
43
ошибки и недоработки тогдашнего военно-политического руководства страны. Должно было пройти довольно значительное время, пока войска накопили опыт боевых действий, в ходе боев выдвинулись новые люди — командиры всех степеней, новые талантливые генералы. Вина же за поражения практически была возложена на людей, попавших в плен. Именно они, даже в том случае, если бежали из плена и потом вновь сражались с врагом, в основной своей массе подверглись в ходе войны и после нее репрессиям — заключению в лагеря.
После окончания Отечественной войны массовые репрессии вновь возобновились, хотя и не с таким размахом, как в 30-е годы. Вновь репрессии стали орудием укрепления режима личной власти Сталина и его ближайшего окружения. В данном сборнике читатель найдет статьи, посвященные так называемому «ленинградскому делу», по которому проходили такие деятели, как Вознесенский, Кузнецов, Родионов, Попков, Капустин и др. В связи с этим делом были репрессированы не только те люди, которые названы выше, но практически весь состав ленинградского обкома, горкома и райкомов партии, областного, городского и районных исполкомов, множество хозяйственных руководителей, кадровых рабочих и т. д.
Известны дела военных: маршала артиллерии Яковлева, маршала авиации Худякова, адмиралов Галлера, Алафузова, Степанова и многих других.
В армии, которая выиграла войну, к руководству пришло много самостоятельно мыслящих людей, не привыкших к слепому повиновению. Сталин вновь путем репрессий пытался насадить в армии дух беспрекословного повиновения. Есть в одном из выпусков сборника и статьи, посвященные так называемому «делу врачей-убийц», делам «космополитов» и т. д. Направленность всех этих «дел» против интеллигенции очевидна. Как очевидна и цель: привести интеллигенцию к слепому повиновению, бездумному повторению и восхвалению всего, что сказано сверху «вождем».
Культ личности Сталина, массовые репрессии 30-х — начала 50-х годов не были неизбежны. Они представляли собой отступление от основополагающих принципов социализма и не имеют никакого оправдания.
Конечно, в 30-е годы перед Советским государством стояла задача как можно скорее вырваться из тисков отсталости и успеть создать индустриальную базу и военно-экономический потенциал, чтобы отстоять свое существование в капиталисти-
44
ческом окружении. Запоздание в этом деле грозило гибелью стране. Этим и диктовался путь ускорения темпов социалистических преобразований, скорейшей индустриализации, которая одним рывком вывела страну на качественно иной уровень. Другого пути, учитывая всю совокупность внутренних и международных реальностей того времени, у Советского государства не было. Однако методы проведения этой политики могли быть иными, в большей мере учитывающими социально-экономические процессы в стране и особенно в деревне, жизненные условия людей, более сбалансированными, без перегибов и массовых репрессий. За грубые политические ошибки и произвол Сталина и его ближайшего окружения наш народ заплатил великую цену1. Эти ошибки имели тяжелые последствия для жизни нашего общества. «Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений»2.
Террором и социальной демагогией Сталин добился своей цели: установления личной диктатуры. И хотя в Конституции СССР 1936 года объективно была представлена выражающая глубинную сущность социализма тенденция к демократизации, эта Конституция практически осталась на бумаге, превратившись в ширму режима культа Сталина.
Исторический опыт свидетельствует, что опасность бюрократизации жизни общества, всевластия бюрократической элиты, способной породить культ «вождя», может быть преодолена лишь путем решительной экономической реформы, нацеленной на слом административно-командной системы управления и соединенной с глубоким преобразованием политической системы общества, ее демократизацией, формированием социалистического правового государства. Именно по такому пути и пошла Коммунистическая партия и советский народ с апреля 1985 года. Именно такой путь намечен XXVII съездом КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференцией.
____________
1 О масштабах жертв косвенно свидетельствуют такие факты: если на протяжении 20-х и в начале 30-х годов население СССР стабильно росло: с 1926 по 1929 год на 7 млн. человек (с 147 млн. до 154 млн. человек); с 1929 года по 1 января 1933 года почти на 12 млн. человек (с 154 млн. до 165,7 млн. человек), — то с 1 января 1933 г. по декабрь 1937 г. оно не только не выросло, а, наоборот, уменьшилось почти на 2 млн. человек (с 165,7 млн. до 163,8 млн. человек). Здесь безусловно сыграли свою роль голод 1933 года и массовые репрессии. — См.: Социалистическое строительство СССР. Статистический ежегодник. М., 1936, с. 542; Народное хозяйство СССР в 1962 г. Статистический ежегодник. М. 1963, с. 7.
2 Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается, с. 21.
45
«Красная звезда», 4 июня 1988
Алексей Хорев
Маршал Тухачевский
В славной плеяде полководцев гражданской войны одна из самых ярких фигур — Михаил Николаевич Тухачевский. Командуя армиями и фронтами, он проявил большие организаторские способности и военный талант. Под его руководством был успешно проведен ряд операций. Ему также принадлежат выдающиеся заслуги в техническом перевооружении Красной Армии, в совершенствовании организационной структуры войск, в развитии авиации, механизированных и воздушно-десантных войск, в подготовке командных кадров. Будучи незаурядным военным теоретиком, Тухачевский занимался прогнозированием характера будущей войны, внес вклад в разработку стратегии, оперативного искусства, тактики, теории глубокой операции и боя. Его идеи оказали значительное влияние на развитие военной мысли и практики в предвоенные годы.
В результате сталинского произвола и репрессий Маршал Советского Союза М. Н. Тухачевский безвинно погиб в 1937 году. Великая Отечественная война шла без его участия. Но идеи Тухачевского, найдя свое блестящее подтверждение на полях битв, приближали нашу Победу.
1.
Сталин называл его прожектером. То ли и в самом деле считал идеи Тухачевского нереальными, то ли побольней искал слово, чтобы выразить всю неприязнь к этому молодому, неугомонному командарму. Когда именно зародилось в нем это не-
46
приятное и все растущее чувство; Сталин и сам, может, затруднился б сказать. По гражданской войне он знал Тухачевского как талантливого и удачливого военачальника, которому доверял и которого ценил Ленин. В январе 1920 года, находясь при штабе Южного фронта, Тухачевский сообщил в Реввоенсовет, что сидит без дела. Об этом узнал Ленин. В записке Склянскому он не преминул задать вопрос: «Где Тухачевский? Как дела на Кавкфронте?»
А на Кавкфронте дела обстояли неважно. В связи с неудачно окончившимся наступлением наших войск встал вопрос о замене командующего фронтом. В переговорах с Ворошиловым и Буденным по прямому проводу Сталин сообщал тогда из Курска: «Дней восемь назад, в бытность мою в Москве я добился отставки Шорина и назначения нового комфронта Тухачевского — завоевателя Сибири и победителя Колчака. Он сегодня только прибыл в Саратов и на днях примет командование фронтом». Сильно сказано о Тухачевском, не правда ли? Сталин самолично добивался его выдвижения. И вдруг — стойкая неприязнь...
Ничего определенно негативного ни Сталин, никто другой сказать бы о Тухачевском не мог. Но настороженность и сдержанность в отношении к нему со стороны некоторых руководителей чувствовались. Особенно это стало заметно самому Тухачевскому после смерти Ленина и Фрунзе, которых он горячо любил. С этого времени началась как бы новая полоса в его жизни. По службе почти неуклонно рос, продвигался, но с внедрением своих предложений, направленных на повышение боевой мощи армии, испытывал все большие затруднения. На что уж, кажется, широкие возможности открывались перед ним в этом плане с назначением на должность начальника Штаба РККА. Но умер Фрунзе, рекомендовавший его на этот пост, и дела стали идти со скрипом... В декабре 1927 года написал на имя Сталина письмо о перевооружении армии. А в мае 1928 года получил новое назначение — командующим войсками Ленинградского военного округа...
Три года работал в Ленинграде рука об руку с Кировым, при его активной поддержке. Многое сделал для улучшения боевой подготовки войск, неутомимо искал и утверждал новое. Вот что написал в своих воспоминаниях о деятельности Тухачевского в Ленинградском военном округе бывший в то время начальником оперативного отдела штаба округа генерал-майор Д. Н. Нинишев:
47
«...Его творческая мысль работала без устали, фантазия была поистине безграничной. На зимних учениях 1930 года по инициативе Михаила Николаевича целые дивизии были поставлены на лыжи, а крупнокалиберные пушки и гаубицы — на полозья. На морских учениях того же года в качестве высадочных средств для пехоты с танками использовались понтоны.
Тухачевский положил начало и подвижным зимним лагерям для войск, предназначенных к действиям в лесистой и лесисто-болотистой местности.
Михаил Николаевич не выносил шаблона в боевой подготовке войск, не терпел бездумности командиров, не позволял им ставить задачи подчиненным без учета возможностей противника.
Тухачевский умел охватить своим влиянием весь округ целиком, от окружных управлений до роты. Именно до роты! В ротах он проводил многие часы, а то и дни. Учил людей и сам учился у них».
А вот свидетельства Маршала Советского Союза К. А. Мерецкова:
«Широк был круг творческих интересов и практических дел М. Н. Тухачевского. Он имел особое чутье на все новое, передовое, проявлял особую страсть при продвижении этого нового, передового в войска. Через всю его многообразную деятельность проходит повышенный интерес к проблемам технического перевооружения армии, к созданию сильной авиации, мощных бронетанковых соединений, мобильной пехоты. Он следил за иностранной технической литературой, лично занимался испытанием новых образцов оружия, являлся непременным участником опытных учений, проводимых в войсках... От появления новых и развития старых образцов вооружения Михаил Николаевич ставил в прямую зависимость и организацию, и тактику, и всю систему обучения войск».
Заботясь о разработке новейших видов боевой техники и оружия, Тухачевский оказывал всемерную поддержку конструкторам, многих знал лично, глубоко вникал в их деятельность, нужды, содействовал расширению старых и созданию новых конструкторских бюро.
Большое внимание уделял Михаил Николаевич разработке ракетных двигателей и реактивного оружия. Он выступил инициатором создания единого научного центра — Реактивного научно-исследовательского института.
48
Свои смелые теоретические взгляды Тухачевский энергично проверял и подкреплял практикой.
В 1930 году на маневрах под Ленинградом была предпринята комбинированная выброска и высадка воздушного десанта. Тухачевский назвал это первым камнем в строительстве воздушно-десантных войск.
В 1931 году он по-новому организовал первомайский парад на Дворцовой площади в Ленинграде. Участвовавшие в параде войска прошли по площади на мобилизованных автомобилях. На машинах следовали также авиадесантники из осоавиахимовцев. Это было своего рода демонстрацией перспектив технического перевооружения армии, ее перехода к мобильным формам ведения боя. Тем самым утверждалась и мысль о снижении роли кавалерии в будущей войне.
Техническое перевооружение армии требовало, конечно, от страны больших материальных средств, которых ей остро недоставало. И все-таки можно было и в той обстановке решать эту проблему более высокими темпами, если бы не существовало ее явной недооценки. Идеи Тухачевского натыкались на решительное сопротивление некоторых военных руководителей. В их числе был Троцкий, носившийся со своими авантюристическими и верхоглядскими воззрениями на военное строительство. Не проявляли должной дальновидности некоторые кавалерийские командиры и начальники.
— Война моторов, механизация, авиация и химия, — говорил, например, небезызвестный конник Щаденко, — придуманы военспецами. Пока главное — лошадка. Решающую роль в будущей войне будет играть конница. Ей предстоит проникать в тылы и там сокрушать врага...
Такой взгляд исповедовал не один Щаденко... Буденный даже на суде над Тухачевским припомнил ему как вредительство то, что он добивался ускоренного формирования танковых соединений за счет сокращения численности кавалерии и расходов на нее. Вспоминаются в этой связи прекрасные стихи Сергея Есенина:
Видели ли вы.
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь.
Железной ноздрей храпя.
На лапах чугунных поезд!
А за ним
По большой траве
49
Как на празднике отчаянных гонок.
Тонкие ноги закидывая к голове.
Скачет красногривый жеребенок!
Милый, милый, смешной дуралей.
Ну куда он, куда он гонится!
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница!
Стихи написаны в 1920 году... Какой парадокс: для тонкого лирика, тосковавшего по Руси уходящей, для звонкого крестьянского поэта, чьи симпатии от рождения были на стороне «братьев наших меньших», исход спора между конем живым и конем железным был уже к тому времени исчерпывающе ясен. А иные военные и политические деятели все еще блуждали в трех соснах.
2.
В Главном управлении кадров Министерства обороны хранится личное дело Маршала Советского Союза М. Н. Тухачевского. Куцый какой-то экземпляр — ни автобиографии нет, ни одной аттестации... Но все равно — интересный документ как информация из первых рук. Ответы на одну из анкет написаны Тухачевским собственноручно, красными чернилами, мелким, скачущим почерком» Вот эта анкета.
«Образование — Гимназия и один год кадетского корпуса.
Когда вступил на военную службу — В военное училище в 1912 г.
В каких частях служил — В Семеновском полку командиром взвода, ком. роты.
Последняя военная должность и бывший чин — В старой армии комроты, представлен в капитаны.
Участвовал ли в кампаниях, каких и когда — Война с немцами 1914—17.
Был ли ранен, контужен — Не был.
Состояние здоровья в настоящее время — Здоров.
Политическое убеждение или партийность — Коммунист.
Какие выборные должности занимал и когда — Выборный комроты.
Командарм-5 М. Тухачевский.
4 июля 1919 г.»
А вот краткие сведения из других анкет, подшитых в этом деле.
50
Год рождения — 1893.
Национальность — Великоросс.
Какими иностранными языками владеет — Французским и немецким.
Социальное происхождение — Дворянин.
Военное образование — Александровское военное училище в 1914 г.
Партийность — Член ВКП(б) с 5.4.1918 г. Партбилет № 50136.
Какую партийную и политическую работу выполнял с февральской до Октябрьской революции — Находился в плену.
Да, был в биографии будущего маршала такой этап — в течение двух с половиной лет находился в германском плену. Вел себя стойко и мужественно. Предпринял несколько безуспешных попыток побега, за что был заключен в крепость. Но и здесь, при строжайшем тюремном режиме, не смирился с положением узника. Рискуя собой, помог бежать из крепости одному французскому офицеру, который спустя много лет с благодарностью рассказал об этом.
Вскоре Тухачевскому самому удалось бежать и вернуться на Родину. Время, проведенное в плену, он называл потерянными годами. С точки зрения боевого совершенствования офицера это было, конечно, так. Но для формирования гражданского самосознания, для понимания характера и целей империалистической войны, для восприятия надвигающейся революции пребывание Тухачевского в плену не осталось для него бесполезным. Слово Ленина, большевиков, обращенное к русским военнопленным, призывавшее их становиться после возвращения в Россию на сторону народа, безусловно, доходило до них. Такие люди, как Тухачевский, и сами не могли в той обстановке не задумываться о судьбах Отечества, о своем месте и роли в борьбе за его освобождение от царя и капиталистов. Нельзя в этой связи не обратить внимание на такую красноречивую хронологию: в октябре 1917 года Тухачевский вернулся из плена на Родину, в декабре того же года был избран командиром роты Семеновского полка, а 5 апреля 1918-го уже вступил в партию большевиков и 26 июня того же года был назначен командующим 1-й революционной армией Восточного фронта. Даже для того крутого и динамичного времени такие повороты в судьбе человека не были обычными. К ним надо было быть подготовленным и в политическом, и в военном отношении.
Товарищи Тухачевского по плену вспоминают, как он еще там,
51
за колючей проволокой, горя нетерпением скорей вернуться на Родину, говорил о том, что пойдет за Лениным.
И пошел. Сначала работа в военном отделе ВЦИК, затем военкомом обороны Московского района. Когда на Волге вспыхнул мятеж белочехов, один из членов ВЦИК — Н. Н. Кулябко доложил о Тухачевском Ленину. Владимир Ильич проявил интерес к «поручику-коммунисту», пригласил к себе, попросил изложить взгляды на строительство новой, социалистической армии. Тухачевскому, по-видимому, было что сказать по этому вопросу. Человек, что называется, до мозга костей военный, он жил проблемами армии, ее дисциплины, организации, боевой службы, хорошо знал эти проблемы.
Воевать поручику Тухачевскому довелось сравнительно недолго — полгода. Но за это время он в полной мере проявил боевую командирскую доблесть и зрелость. Достаточно сказать, что его подвиги были отмечены шестью боевыми наградами — орденом Анны трех степеней, Станислава двух степеней и Владимира 4-й степени. Это было венцом настоящего героизма.
Высокие посты, которые Тухачевский занимал в Красной Армии, требовапи oт него не только личного мужества, но и широких познаний, организаторского таланта, умения руководить большими массами войск. И тут он вполне оправдал доверие и надежды Ленина. В личном деле Тухачевского есть текст приказа Реввоенсовета республики от 22 мая 1920 года о переводе его в Генеральный штаб. В этом приказе, подписанном заместителем председателя РВСР Э. Склянским и главнокомандующим всеми вооруженными силами Советской республики С. Каменевым, в частности, говорится: «Командующий Западным фронтом М. Н. Тухачевский, вступив в ряды Красной Армии и обладая природными военными способностями, продолжал непрерывно расширять свои теоретические познания в военном деле. Искусно проводил задуманные операции и отлично руководил войсками как в составе армии, так и командуя армиями фронтов республики и дал Советской республике блестящие победы над ее врагами на Восточном и Кавказском фронтах...».
Бывали в военной биографии Тухачевского не только победы. Войска Западного фронта под его командованием потерпели неудачу в Варшавской операции 1920 года. Касаясь причин нашего поражения под Варшавой, Ленин писал: «При нашем наступлении, слишком быстром продвижении почти что до Варша-
52
вы, несомненно, была сделана ошибка... Эта ошибка вызвана тем, что перевес наших сил был переоценен нами». Тухачевский честно признавал допущенные просчеты, не кивая на других, хотя вину за неудачу было с кем делить (в частности, с командованием Юго-Западного фронта, не выполнившим своевременно директивы главкома о передаче 1-й Конной армии в оперативное подчинение Западного фронта. Членом РВС этого фронта был Сталин, который лично противодействовал выполнению директивы. Может, отсюда и пошла неприязнь-то?). Ленин своего отношения к Тухачевскому не изменил, продолжал держать его в поле зрения. Именно Тухачевскому было поручено позднее возглавить подавление кронштадтского мятежа и разгром антоновщины. Боевые заслуги Михаила Николаевича в годы гражданской войны были отмечены орденом Красного Знамени и Почетным золотым революционным оружием. В 1933 году «за исключительные личные заслуги перед революцией в деле организации обороны Союза ССР на внешних и внутренних фронтах в период гражданской войны и последующие организационные мероприятия по укреплению мощи РККА» он был награжден орденом Ленина.
В 1934 году на XVII съезде партии избран кандидатом в члены ЦК. В 1935 году ему присвоено высшее воинское звание — Маршал Советского Союза. И все же полного доверия к себе со стороны Сталина он не чувствовал.
3.
Георгий Константинович Жуков в беседе с редактором своей книги «Воспоминания и размышления», говоря о сталинских репрессиях против военных кадров, заметил:
— Особенно жаль Тухачевского. Огромного военного таланта человек. Умница, широко образованный, сильный, занимался тяжелой атлетикой, и очень красивый. (Вдруг отклонился в кресле, как-то взглянул сбоку и вновь повторил: «Удивительно был красив».)
Люди, хорошо знавшие Михаила Николаевича, отмечают в нем гармонию внешнего вида и внутреннего мира. И, может быть, наиболее ярким проявлением этого было увлечение Тухачевского военной наукой. Оно исходило из стремления осмыслить происходящие в военном деле изменения, найти наиболее целесообразные формы войсковой организации, оперативного искусства и было не служебной обязанностью, а потребностью его неординарного интеллекта. Еще в ходе гражданской войны он начал работать над исследованием «Стратегия
53
национальная и классовая». В дальнейшем, будучи начальником Военной академии, и позднее, выступая с лекциями на эту тему, удивлял глубиной своих размышлений старых профессоров и генералов. Работам Тухачевского «Стратегия национальная и классовая» и «Война классов» нашлось место в личной библиотеке Ленина в Кремле.
В 1964 году в Воениздате вышел двухтомник Тухачевского «Избранные произведения». Одно только перечисление названий некоторых работ дает наглядное представление о целеустремленности его научных интересов: «Война как проблема вооруженной борьбы», «Новые вопросы войны», «Характер пограничных сражений», «Военные планы нынешней Германии», «Маневр и артиллерия», «Вопросы современной стратегии». В иных из его работ встречаются мысли, которые сегодня, спустя много лет, нельзя не назвать прозорливым предвидением.
«Мы должны готовиться к длительной войне, — писал Михаил Николаевич, например, в «Вопросах современной стратегии», изданных отдельной брошюрой в 1926 году. — Если война была длительной у империалистов при их столкновении друг с другом, то нет никакого сомнения, что между нашим Советским Союзом и капиталистическим окружением борьба будет длительной, упорной и ожесточенной... Наш Советский Союз не представляет собой расплывчатой коалиции капиталистических государств, но мы тоже будем расширяться в социалистическую коалицию, когда будут вспыхивать новые социалистические революции или когда нам придется занимать тот или иной район, находящийся под владычеством капитала».
Как истинно советский полководец, Михаил Николаевич не замыкался в своих исканиях на вопросах сугубо военных и военно-технических, много внимания уделял моральному фактору, политической подготовке воинов. «Только политическая зрелость, — писал он, — может дать красноармейцу волю к победе, решительность, выносливость, без чего ни строевая, ни тактическая подготовка не может быть ему понятна».
Высокие научные, нравственные и иные достоинства личности Тухачевского великолепно подмечены в характеристике, написанной партийным бюро Военной академии РККА, начальником которой Михаил Николаевич был в 1921—1922 годах:
«...В высокой степени инициативен, способен к широкому творчеству и размаху. Упорен в достижении цели. Текущую
54
работу связывает с интенсивным самообразованием и углублением научной эрудиции. Искренне связан с революцией, отсутствие всяких внешних показных особенностей (не любит угодливого чинопочитания и т. д.). В отношении красноармейцев и комсостава — прям, откровенен и доверчив, чем сильно подкупает в свою пользу. В партийно-этическом отношении безупречен. Способен вести крупную организационную работу на видных постах республики по военной линии».
Вот еще несколько штрихов к портрету Тухачевского — из воспоминаний его сестер Елизаветы Николаевны и Ольги Николаевны:
«Всю жизнь Михаил Николаевич с увлечением, беззаветно отдавался единожды избранному военному делу. Но он не мог обойтись и без музыки, без живописи, без систематического чтения. В его богатом Духовном мире было место Бетховену и Баху, Шуману и Мусоргскому, Моцарту и Скрябину, Шопену и Мендельсону, Толстому и Шекспиру. Его интересовало все новое в науке, технике, искусстве. С детства он увлекался астрономией».
«Светлая голова», «честный, искренний характер», «человек исключительных ораторских способностей», «что запретил другим, того не позволит себе» —- вот далеко не полный перечень лестных отзывов друзей и соратников Тухачевского о его человеческих качествах. О деловых сказано уже много. И при всем этом — неприязнь, недоброжелательство, интриги вокруг него. Нарком Ворошилов, по свидетельству Жукова, недолюбливал своего заместителя, потому что завидовал его таланту и широкой образованности. Вместе со Сталиным Ворошилов скептически и даже враждебно относился к некоторым его предложениям о реорганизации армии. В заключении Сталина по одному из докладов Тухачевского утверждалось, что принятие его программы повело бы якобы к ликвидации социалистического строительства и к замене его системой «красного милитаризма». Эту хлесткую сталинскую формулировку Ворошилов огласил на расширенном заседании Реввоенсовета. Тухачевский был лишен возможности преподавать стратегию в Военной академии РККА, где он успешно вел этот предмет в течение ряда лет.
Несмотря на всяческое противодействие и интриги, Тухачевский, будучи с 1931 года заместителем председателя РВС и начальником вооружений РККА, а с 1934 года — заместителем наркома обороны, сумел сделать немало для укрепления бое-
55
вой мощи армии. Он мог бы сделать для отражения гитлеровского нашествия еще очень много... Но 11 мая 1937 года Тухачевский был неожиданно, без объяснения причин, освобожден от обязанностей замнаркома обороны и назначен командующим войсками Приволжского военного округа.
4.
«Никто никогда не слышал от него жалоб, сетований на трудности или несправедливость, — рассказывают сестры Михаила Николаевича.— Лишь зимой 1937 года, чувствуя недоброе, он сказал одной из нас:.
— Как я в детстве просил купить мне скрипку, а папа из-за вечного безденежья не смог сделать этого. Может быть, вышел бы из меня профессиональный скрипач...»
В очень горькую, знать, минуту жизни мог пожалеть такой человек об избранном им пути, на котором так много сделал для Родины. Ему, конечно, хотелось и дальше на этом пути вдохновенно жить и работать, но дело, по всей видимости, приближалось к трагическому концу. В стране и армии шли аресты. Ощущавший на себе тяжелый взгляд Сталина, Тухачевский не мог в этой обстановке не томиться тревожным предчувствием. Узнав об аресте комкора Б. М. Фельдмана, с которым вместе работал еще в Ленинграде и которого блестяще аттестовал как начальника штаба округа, он сказал:
— Это какая-то грандиозная провокация.
А провокация между тем продолжалась. 26 мая был арестован он сам. 11 июня состоялся суд. В тот же день (куда вы так торопились, граждане судьи?!) он вынес смертный приговор Тухачевскому и еще семи крупным военным работникам — командармам 1 ранга Иерониму Петровичу Уборевичу и Ионе Эммануиловичу Якиру, командарму 2 ранга Августу Ивановичу Корку, комкорам Виталию Марковичу Примакову, Витовту Казимировичу Путне, Роберту Петровичу Эйдеману и Борису Мироновичу Фельдману. Все они были расстреляны.
За что же?..
Специальное судебное присутствие Верховного Суда СССР признало их виновными... в измене Родине, шпионаже, вредительстве...
Спустя 20 лет. Прокуратура СССР провела проверку этого дела и внесла в Верховный Суд СССР заключение об отмене приговора в отношении всех осужденных и прекращении дела производством за отсутствием в их действиях состава преступ-
56
ления. Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР от 31 января 1957 года приговор отменен и дело прекращено.
Начало этой фальсификации положено в мае 1937 года. Первые показания о существовании военного заговора в Красной Армии, руководимого якобы Тухачевским, Якиром и другими, были получены 8 и 10 мая 1937 года от бывшего начальника управления штаба РККА Медведева Михаила Евгеньевича, арестованного к тому времени органами НКВД. На допросе 8 мая он показал, что о заговоре ему стало известно со слов одного сослуживца в августе-сентябре 1931 года. Позднее он якобы узнал, что руководителями заговора являются Тухачевский, Якир, Путна, Примаков и другие.
О том, каким путем были получены эти сведения, бывший начальник УНКВД по Московской области Радзивиловский А. П. еще в 1939 году показал:
«Поручение, данное мне Ежовым, сводилось к тому, чтобы немедля приступить к допросу арестованного Медведева и добиться от него показаний о существовании военного заговора в РККА с самым широким кругом участников. При этом Ежов дал прямое указание применить к Медведеву методы физического воздействия, не стесняясь в их выборе.
Приступив к допросу Медведева, я установил, что он 3—4 года назад уволен из РККА и работал перед арестом заместителем начальника строительства какой-то больницы. Медведев отрицал какую бы то ни было антисоветскую работу и свои связи с военными кругами. Когда я доложил об этом Ежову и Фриновскому, они предложили «выжать» от него его «заговорщицкие» связи и снова повторили, чтобы с ним не стесняться.
Для меня было очевидно, что Медведев — человек давно оторванный от военной среды, и правдивость его заявлений не вызывает сомнений. Однако, выполняя указания Ежова и Фриновского, я добился от него показаний о существовании военного заговора, о его активном в нем участии, и в ходе последующих допросов, в особенности после избиения его Фриновским в присутствии Ежова, Медведев назвал значительное количество крупных руководящих военных работников.
По ходу дела я видел и знал, что связи, которые называл Медведев, были им вымышлены, и он все время заявлял мне, в затем Ежову и Фриновскому о том, что его показания ложны и не соответствуют действительности. Однако, несмотря на это, Ежов этот протокол доложил в ЦК.
57
Медведев был арестован по распоряжению Ежова без каких-либо компрометирующих материалов, с расчетом начать от него раздувание дела о военном заговоре в РККА».
На основании этих показаний Медведева, ныне реабилитированного, а также на основании показаний Путны и Примакова, полученных от них спустя 9 месяцев после их ареста, в конце мая 1937 года были арестованы Тухачевский, Фельдман, Корк, Эйдеман, Якир и Уборевич. На первых допросах все они категорически отрицали проведение какой-либо преступной деятельности. Лишь впоследствии от них были получены показания о принадлежности к контрреволюционному военному заговору. Проверкой установлено, что эти показания ложные, они получены путем применения незаконных методов следствия: обмана, шантажа и мер физического воздействия.
Бывший начальник отделения НКВД Авсеевич А. А. на допросе в прокуратуре 5 июля 1956 года говорил:
«...Примерно в марте 1937 года я вызвал на допрос Примакова. Он был изнурен, истощен, оборван, имел болезненный вид.
Примаков и Путна на первых допросах категорически отказывались признать свое участие в контрреволюционной троцкистской организации. Я вызывал их по 10—20 раз. Они сообщили мне, что, помимо вызовов на допросы ко мне, неоднократно вызывались к Ежову и Фриновскому. На одном из допросов Примаков заявил, что накануне вызывался к Ежову, там был серьезно предупрежден о последствиях в случае, если будет запираться... Примаков обещал Ежову подумать и сейчас будет давать показания...
Путна также вызывался к Ежову и Леплевскому, но долго не признавал себя виновным.
В мае 1937 года на одном из совещаний пом. нач. отдела Ушаков доложил Леплевскому, что Уборевич не хочет давать показаний. Леплевский приказал применить к Уборевичу методы физического воздействия».
Бывший работник НКВД Бударев В. И. вспоминал:
«Дело Примакова я лично не расследовал, но в ходе следствия мне поручалось часами сидеть с ним, пока он писал сам свои показания. Начальник отделения и его заместитель давали мне и другим работникам указания сидеть вместе с Примаковым и тогда, когда он еще не давал показаний. Делалось это для того, чтобы не давать ему спать, понудить дать показания о
58
своем участии в троцкистской организации. Таким образом его не оставляли одного. В период расследования дела Примакова и Путны было известно, что оба они дали показания об участии в заговоре после избиения их в Лефортовской тюрьме... В это время начались аресты таких лиц, как Тухачевский, Уборевич и др.».
Бывший зам. начальника отделения НКВД Карпейский Я. Л. показывал:
«Из группы военных, осужденных вместе с Тухачевским, я принимал участие только по делу Эйдемана... Допрос велся без предъявления Эйдеману конкретных материалов, но ему было сказано, что он уличается как участник «военного заговора» и его запирательство бесполезно. Однако Эйдеман не сознавался... Во время допроса Эйдемана из соседних кабинетов доносились крики, стоны людей и шум...»
О широком применении незаконных методов следствия к арестованным дал показания еще в 1938 году бывший пом. начальника отдела НКВД Ушаков 3. М., принимавший участие в допросах Тухачевского, Якира и Фельдмана.
О применении к арестованным жестоких мер воздействия свидетельствует и тот факт, что на протоколе допроса Тухачевского от 1 июня 1937 года, в котором зафиксировано признание вины Тухачевского, на листах дела 165—166 обнаружены пятна, которые, по заключению биологической экспертизы, являются каплями и мазками человеческой крови.
Как установлено проверкой дела, подтверждение обвиняемыми в суде своих вымышленных показаний, данных ими на предварительном следствии, было обусловлено тем, что они продолжали находиться под контролем следователей до конца судебного процесса. Следователи сопровождали своих подследственных в суд, были с ними вместе в комнате ожидания. Все арестованные находились в отдельных комнатах, и с каждым находился следователь. Всем говорили, что признание в суде облегчит их участь.
Таким образом, все усилия следствия были направлены к одной цели — добиться от арестованных признания ими своей вины. Признания эти нужны были скорее для создания видимости правосудия, в них вряд ли верили и Ежов, и Сталин... Показания осужденных не внушают доверия, они крайне неконкретны, голословны, содержат в себе много существенных противоречий и явных вымыслов.
59
Так, например, Фельдман первоначально показывал, что в заговор был вовлечен Примаковым, а на последующих допросах — что завербован Тухачевским...
Корк в составе «штаба переворота» называл вначале Тухачевского, Путну и себя, затем Путну исключил, а Якира, Уборевича, Эйдемана добавил.
Тухачевский показал на следствии, что еще в 1925 году передавал секретные сведения польскому шпиону Домбалю. А в суде заявил, что знал Домбаля не как шпиона, а как члена ЦК Компартии Польши.
Тухачевский и Уборевич, признавшие себя руководителями заговора, в суде обнаружили полное незнание подробностей якобы намечавшегося ими «дворцового переворота».
Таким образом, показания обвиняемых оказались сфальсифицированными. Других же материалов, подтверждающих обвинение, в деле нет...
За незаконные аресты, фальсификацию следственных дел и применение незаконных методов ведения следствия бывшие работники НКВД СССР Леплевский, Ушаков, Агас, Миронов, Фриновский, принимавшие участие в расследовании дела Тухачевского, Якира и других, были осуждены к расстрелу еще в 1938—1940 годах. Расстрелян был и их кровожадный лидер Ежов. Сталин обо всем этом, конечно, знал. Однако имена и заслуги Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Фельдмана, Примакова и Путны на протяжении долгих двадцати лет были преданы забвению. Вслед за ними были уничтожены и опозорены еще тысячи верных сынов Родины — командиров и комиссаров Красной Армии. Только с мая 1937 по октябрь 1938 года в армии и на флоте было репрессировано около 40 тысяч человек. За этот произвол, кровавый сам по себе, мы заплатили еще большей кровью на войне.
5.
Существует и другая, широко распространенная ныне версия о начале фальсификации дела Тухачевского. Она основана на иностранных источниках. Гитлеровская разведка, стремясь ослабить Красную Армию, сфабриковала документы, из которых следовало, что Тухачевский вел с немцами переговоры об организации заговора против Сталина.
Для этого было использовано секретное соглашение между германским и советским командованием 1926 года, по которо-
60
му фирма «Юнкерс» оказывала нам техническую помощь в создании авиации. Тухачевский был тогда начальником штаба РККА и, естественно, имел деловые встречи с немецкими офицерами. На документе о соглашении 1926 года стояла подлинная подпись Тухачевского. Это и дало возможность сфабриковать подложное письмо, скопировав его подпись. В письме Тухачевский и его «единомышленники» будто бы договаривались о том, чтобы избавиться от опеки гражданских лиц и захватить в свои руки государственную власть. На подложном письме были подлинные штампы разведки «Абвера» — «Совершенно секретно», «Конфиденциально». Была и подлинная резолюция Гитлера — приказ организовать слежку за немецкими генералами вермахта, которые будто бы связаны с Тухачевским. Письмо было главным документом, всего же «досье» имело 15 листов, и, кроме письма, в нем были различные документы на немецком языке, подписанные генералами вермахта (подписи были поддельные, скопированные с банковских чеков). Чтобы переправить досье Сталину, была симулирована кража «досье» во время пожара из здания «Абвера». Затем фотокопия «досье» оказалась в руках главы чехословацкого правительства Бенеша, который переслал эту папку Сталину... Подлое семя упало на подготовленную почву. За эту фальшивку, как утверждают иностранные источники, ведомством Ежова было отвалено 3 млн. рублей.
В наших документах — заключении Генерального прокурора СССР и Определении Военной коллегии Верховного Суда СССР об отмене приговора в отношении Тухачевского и других — о фальшивке германской разведки упоминания нет. Значит, и на суде как улика она, по-видимому, не фигурировала. Но если она существовала, то состав Специального судебного присутствия о ней, возможно, знал.
...После расправы над Тухачевским начались аресты его родных, друзей, сослуживцев. Увидев портрет маршала на стене в квартире одного из арестованных, работник НКВД произнес с удивлением:
— Так вы его еще не сняли?
— Нет, — ответил арестованный. — Знайте, что ему со временем поставят памятник.
Это предсказание сегодня сбывается. Имя маршала Тухачевского носят улицы многих городов страны. В его честь установлены мемориальные доски в Москве, Смоленске. Сама собой напрашивается мысль об увековечении памяти маршала в Вооруженных Силах. Его имя с радостью могло бы принять и с гордостью носить, к примеру, любое из военно-учебных заведений.
61
«Огонек», 1987 № 34
Борис Ефимов
Тайна судьбы Михаила Кольцова
В апреле 1937 года специальный корреспондент газеты «Правда» Михаил Кольцов был на короткое время вызван в Москву из Испании. К этому моменту прошло около десяти месяцев с печально памятного дня 18 июля 1936 года, когда прозвучал зловещий радиосигнал к фашистскому мятежу: «Над всей Испанией безоблачное небо». Все эти месяцы, недели и дни миллионы читателей «Правды» с захватывающим интересом и волнением читали кольцовские корреспонденции из Барселоны, Мадрида, Толедо, Гвадалахары, Бильбао, видели его глазами и переживали его чувствами мужественную и неравную борьбу защитников республики против наглого вооруженного до зубов испано-итало-германского фашизма. Спецкор «Правды» поспевал всюду, носился по фронтовым дорогам, появлялся в окопах, командных пунктах, штабах. Вникал в работу организаций обороны, военных и партийных комитетов, министерств. Сообщал обо всем оперативно, достоверно, ярко. Во всем блеске развернулись тогда незаурядные его журналистские качества — инициатива, находчивость, неутомимость, бесстрашие. А веселый его нрав, остроумие, общительность снискали ему и там много друзей. Работе Кольцова в Испании отдавали впоследствии должное участники испанской войны, наши виднейшие военные деятели, тепло вспоминавшие его: Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, Н. Г. Кузнецов, П. И. Батов и многие другие.
В романе «По ком звонит колокол» Эрнест Хемингуэй так пишет о некоем русском журналисте с легко расшифровы-
62
ваемой фамилией Карков: «...Карков, приехавший сюда от «Правды» и непосредственно сносившийся со Сталиным, был в то время одной из самых значительных фигур в Испании». В том же романе, от имени главного его героя — американского писателя Роберта Джордана, во многих оценках которого слышен голос Хемингуэя, говорится: «...А Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать... Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого бы была такая хорошая голова; столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие... Ему никогда не надоедало думать о Каркове».
В книге «Люди, годы, жизнь» Илья Эренбург вспоминает: «Трудно себе представить первый год испанской войны без Кольцова... Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником... Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него самого обузой, он быстро разбирался в обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями». К этим словам Ильи Григорьевича следует добавить, что, насколько я знаю, функций политического советника никто Кольцову не поручал. Он ехал в Испанию только как журналист, корреспондент «Правды». Но Кольцов не был бы Кольцовым, если бы в той сложной, бурной обстановке остался в рамках чисто газетной работы. Не в его это было характере. И спецкор «Правды» закономерно и естественно пришел к более масштабной и ответственной деятельности.
Итак, к первомайскому празднику 1937 года Кольцов ненадолго приезжает в Советский Союз. На Белорусском вокзале его встречает, как говорится, «вся Москва» — журналистская и писательская. Отблеск захватывающей борьбы в Испании ореолом всенародной популярности ложится на спецкора «Правды». Он окружен всеобщим вниманием. В Кремле ему вручается довольно еще редкий в ту пору боевой орден Красного Знамени.
На традиционном первомайском приеме в Георгиевском зале Кремлевского дворца среди многих прозвучавших там здравиц был и тост, предложенный народным комиссаром по военным делам.
— Вы знаете, товарищи, — сказал Климент Ефремович Ворошилов, — в Испании сейчас идет война. Упорная, нешуточная война. Воюют там разные нации. Затесались туда и наши русские. Я предлагаю, товарищи, поднять бокалы за предста-
63
вителя наших людей в Испании, присутствующего здесь товарища Михаила Кольцова.
А писатель Лев Славин рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях: «Я помню одно из выступлений Всеволода Вишневского, только что вернувшегося из поездки в Испанию. Он сказал: «Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова!»
В эти дни Кольцов, что называется, «нарасхват»: ему приходится рассказывать о своих испанских впечатлениях в самых различных аудиториях. Но самой серьезной из этих аудиторий была, несомненно, и самая немногочисленная из них — всего пять человек. Это были Сталин и наиболее приближенные к нему лица — Молотов, Каганович, Ворошилов, Ежов.
Вопросы к Кольцову о самых разнообразных деталях военной и политической ситуации в Испании и его обстоятельные ответы заняли больше трех часов. Наконец, беседа подошла к концу.
— И тут, — рассказывал мне брат в тот же вечер, — он стал как-то чудить. Остановился возле меня, прижал руку к сердцу, поклонился.
— Как вас надо величать по-испански? Мигуэлъ, что ли!
— Мигель, товарищ Сталин, — ответил я.
— Ну, так вот, дон Мигель. Мы, благородные испанцы, сердечно благодарим вас за ваш интересный доклад. До свидания, дон Мигель. Всего хорошего.
— Служу Советскому Союзу, товарищ Сталин!
Я направился к двери, но тут он снова меня окликнул, и произошел какой-то странный разговор:
— У вас есть револьвер, товарищ Кольцов?
— Есть, товарищ Сталин, — удивленно ответил я.
— Но вы не собираетесь из него застрелиться?
— Конечно, нет, — еще более удивляясь, ответил я, — и в мыслях не имею.
— Ну, вот и отлично, — сказал Сталин. — Отлично! Еще раз спасибо, товарищ Кольцов. До свидания, дон Мигель.
На другой день, коснувшись в телефонном разговоре происшедшей накануне беседы, К. Е. Ворошилов, как всегда дружелюбно, сказал Кольцову:
— Имейте в виду, Михаил Ефимович, вас ценят, вас любят, вам доверяют.
— Что ж, Мышонок, — сказал я, когда брат мне об этом рассказал, — по-моему, это очень приятно.
— Да, приятно, — произнес Миша задумчиво. — Но знаешь,
64
что я совершенно отчетливо прочитал в глазах хозяина, когда он провожал меня взглядом?
— Что?
— Я прочитал в них: слишком прыток.
...Шел тридцать седьмой год.
Есть крылатые поэтические строки: «Сороковые, роковые... Война гуляет по России...» А недавно стихи стали публиковаться о том, как «гуляли по России» тридцатые. С великой болью написанные «По праву памяти» А. Твардовского, «Реквием» А. Ахматовой, стихи О. Берггольц...
Тридцатые гуляли по России. Чуть ли не в каждый дом, чуть ли не в каждую семью вместе с сообщениями о трудовых победах железной, леденящей поступью входило то непостижимое и страшное, что, направляемое некой безжалостной рукой, отнимало свободу и жизнь, грубо и бесчеловечно растаптывало честь людей, их человеческое достоинство, заслуги перед народом, преданность Родине, веру в справедливость и законность.
Народ назвал это время «ежовщиной».
Как объяснить сегодняшнему читателю, что это такое?
Как описать состояние тысяч и тысяч людей, не знающих за собой никакой вины, но каждую (каждую!) ночь с замиранием сердца прислушивавшихся, не раздастся ли в дверь роковой звонок, облегченно вздыхавших и забывавшихся тяжелым сном где-то под утро для того, чтобы в течение дня с ужасом думать о следующей ночи.
Как рассказать, какими словами изобразить настроение людей, всеми фибрами души чувствующих нависшую над ними и их семьями беду и бессильных ее отвратить, не знающих, как спастись, куда деваться, скованных и беспомощных, как в ночном кошмаре.
Эти люди страстно желали бы что-то у кого-то спросить, что-то кому-то объяснить, в чем-то оправдаться, что-то опровергнуть. Но сделать это нет ни малейшей возможности просто потому, что никто никаких вопросов им не задает, ни в какие объяснения не вступает, никаких претензий не высказывает, никаких обвинений не предъявляет. Человек чувствует себя в каком-то жутком бредовом вакууме, но должен при этом делать вид, что никаких оснований для беспокойства у него нет, должен казаться абсолютно спокойным и бодрым, сохранять полную работоспособность, как обычно, выполнять свои обязанности.
Такова была в общих чертах обстановка «ежовщины», свя-
65
занной с именем маленького бесцветного человека, всемогущим капризом вознесенного на головокружительную высоту власти и так же легко и равнодушно с нее низвергнутого.
Вижу, как, шагая взад и вперед по своему кабинету в «Правде» (к этому времени он уже был окончательно отозван из Испании), Кольцов размышлял вслух:
— Думаю, думаю... И ничего не могу понять. Что происходит? Каким образом у нас вдруг оказалось в стране столько врагов? И кто? Люди, которых мы годами знали и уважали, с которыми вместе работали, рядом жили. Командармы, полпреды, наркомы, герои гражданской войны, старые партийцы-ленинцы. И почему-то, едва попав за решетку, они мгновенно признаются в том, что являются замаскированными врагами народа, шпионами, агентами иностранных разведок. Что замышляли вернуть земли помещикам, фабрики капиталистам... В чем дело? Я чувствую, что схожу с ума. А ведь по своему положению — член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета — я, казалось бы, должен уметь объяснить людям смысл того, что происходит, причины такой массы разоблачений и арестов. А на самом деле я, как самый последний перепуганный обыватель, ничего не знаю, ничего не понимаю, растерян, сбит с толку, брожу впотьмах.
— То ли кто-то, — продолжал брат, — может быть, Ежов, непрестанно разжигает его подозрительность, подсовывая наскоро состряпанные заговоры и измены. То ли, наоборот, о н настойчиво и расчетливо подогревает усердие Ежова, поддразнивает, что тот не видит у себя под носом предателей и врагов народа. Вот тебе, кстати, характерный штрих, который многое мне объяснил. На днях я зашел к Мехлису, застал его за чтением какой-то толстой тетради. Это были показания недавно арестованного редактора «Известий» Таля. «Прости, Миша, — сказал он мне со своей улыбочкой, — не имею права, сам понимаешь, дать тебе прочесть. Но посмотри, если хочешь, его резолюцию». Я посмотрел. Красным карандашом было написано: «Товарищам Ежову и Мехлису. Прочесть совместно и арестовать всех упомянутых здесь мерзавцев. И. С».
— Понимаешь? — сказал Миша. — Люди, о которых идет речь, еще на свободе. Они работают, может быть, печатаются в газетах, ходят с женами в гости и в театры, собираются в отпуск куда-нибудь на юг. И не подозревают, что они уже «мерзавцы», что они уже осуждены и, по сути дела, уничтожены одним росчерком этого красного карандаша, Ежову
66
остаются чисто технические детали: оформить «дела» и выписать ордера на арест.
Я слушал брата, и сердце сжималось зловещей тревогой. Я не мог отделаться от мысли, что и его судьба может быть решена вот так же... красным карандашом, на чьих-нибудь вынужденных или выдуманных показаниях. Я отчетливо представлял себе, как где-то в тиши недоступных для простых смертных кабинетов решается участь Кольцова, как кто-то, скорее всего Мехлис, прилагает все усилия посеять в подозрительном уме Сталина недоверие к «дону Мигелю» и где-то во тьме колеблются таинственные весы, на которых лежит его судьба.
Вскоре произошло обстоятельство, обострившее мою тревогу.
В Москву приехали гости из Испании — командующий военно-воздушными силами республики генерал Сиснерос и его жена, журналистка Констансия де ла Мора. Кольцов дружил с ними в Испании и, естественно, постарался окружить их в Москве гостеприимным вниманием. В один из вечеров испанские гости ужинали на квартире у Кольцова. Пришел и я. Помню, именно в этот день в газетах был напечатан указ о снятии Ежова и назначении на его место Берии. Сев за стол рядом с братом, я сказал ему вполголоса:
— Ну, вот и не стало Ежова. Кончилась «ежовщина».
— Как сказать, — неохотно отозвался Миша. — Может быть, теперь становятся подозрительными те, кого не тронул Ежов.
А еще через день брат очень живо, с забавными подробностями, рассказывал мне, как темпераментно перебивая друг друга, супруги Сиснерос описывали прием у Сталина, как они были потрясены и очарованы его простотой и добродушием, как мило он представился каждому из них, пожимая руку и называя при этом свою фамилию, какую осведомленность проявил он в биографии и боевых заслугах самого Игнасио и даже любезно вспомнил его прадеда, видного флотоводца Испании адмирала Сиснероса (все эти факты были, разумеется, заблаговременно подготовлены Кольцовым).
Я молча слушал брата, и меня сверлил один-единственный вопрос, который я, наконец, задал, хотя ответ на него был ясен заранее:
— Скажи, Мышонок. А... А тебя не пригласили?
67
Он посмотрел на меня своим умным, все понимающим взглядом.
— Да, — сказал он, очень отчетливо выговаривая слова, — меня не при-гла-си-ли.
Развязка наступила 12 декабря 1938 года.
В этот вечер Кольцов выступал с большим докладом о недавно опубликованном «Кратком курсе истории ВКП(б)» в Центральном Доме литераторов. Знаменитый Дубовый зал писательского клуба был заполнен до отказа. Я нашел себе место наверху, на хорах. В перерыве я спустился в зал. Кольцов был, как всегда, окружен людьми, оживлен, весело обменивался шутливыми репликами. После собрания мы подошли к нему в вестибюле вместе с его помощником Н. Беляевым, и я предложил поехать всем ко мне пить чай. Миша подумал и сказал:
— Чай — это неплохо. Но у меня еще есть дела в редакции. Я поехал в «Правду».
Мы условились увидеться назавтра. Но назавтра мы не увиделись. И не увиделись больше никогда.
Рано утром 13 декабря меня разбудил телефонный звонок. Я взял трубку и услышал голос кольцовского шофера, который вчера отвозил его в редакцию.
— Борис Ефимович? Это Костя говорит, Деревенсков. Борис Ефимович... Знаете... Вы ничего не знаете?
— Я все понял, Костя, — ответил я.
На другой день мне рассказала секретарша Кольцова в «Правде» Валя Ионова:
— Михаил Ефимович прошел к себе в кабинет, снял пальто, попросил меня «организовать чайку, погорячее и покрепче» и сел за свой стол. Тут же раздался звонок от Ровинского, который в этот день дежурил по номеру. Просил срочно к нему зайти. Михаил Ефимович пошел к Ровинскому, очень скоро от него вернулся, забрал свое пальто и снова вышел. Я выскочила за ним в коридор и окликнула его:
— Михаил Ефимович! Куда же вы? Надолго? А чай?
Он остановился и посмотрел на меня как-то рассеянно. Мне бросилось в глаза, что он был очень бледен.
— Что, Валечка? — спросил он. — Чай? Не знаю... Может быть, задержусь.
...С первых дней Великой Отечественной войны в моей душе зародилась надежда на освобождение брата. Я был твердо убежден в том, что он жив. И прежде всего потому, что в течение почти всего 1939 года бесспорным признаком
68
его существования и вместе с тем единственной связывающей с ним ниточкой был прием денежных передач.
Аккуратно три раза в месяц я приходил в извилистый проходной двор, соединяющий Кузнецкий мост с Пушечной улицей, и входил в невзрачную дверь, на которой висела табличка с маловразумительной надписью: «Помещение № 1». В этом «помещении» через крохотное окошко я вносил на имя Кольцова Михаила Ефимовича установленную сумму, расписывался и получал квитанцию.
Мне хотелось при этом думать, что эти медленно тянущиеся месяцы — хороший показатель. Видимо, есть намерение серьезно и терпеливо разобраться в деле Кольцова, и брату удастся опровергнуть клеветнический наговор. Мы тогда еще не понимали, что сам факт ареста уже предрешал судьбу человека. И я не мог знать, что брат находится в руках одного из следователей-садистов, натренированных на фальсификации «обвинений».
Шли месяцы...
И вот где-то в начале февраля 1940 года денег у меня не приняли и сообщили, что дело Кольцова следствием закончено.
Я понял, что наступили решающие дни. Не будучи в состоянии сидеть сложа руки, я заметался, как в лихорадке, наивно пытаясь что-нибудь предпринять. Известный московский адвокат Илья Браудэ, участник ряда громких политических процессов 37-го года, посоветовал добиваться допущения к слушанию дела Кольцова защитника и предложил свои услуги. Без особой надежды на успех я все же написал письмо председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР, небезызвестному В. В. Ульриху с просьбой принять меня по этому вопросу. Сгоряча я решился и на более серьезный шаг: направился на Центральный телеграф на улице Горького, составил телеграмму с просьбой разрешить участие защиты в деле Кольцова и отправил ее на имя... Сталина.
Прошло несколько дней. Ответа ниоткуда не было. На всякий случай я решил справиться в канцелярии Военной коллегии, находившейся в доме возле памятника первопечатнику Ивану Федорову.
Дежурный сотрудник повел пальцем по страницам толстой книги.
— Кольцов Михаил Ефимович? 1898 года рождения? Есть такой. Приговор состоялся первого февраля. Десять лет
69
заключения в дальних лагерях без права переписки. Следующий...
В тот же день, к моему глубокому удивлению, мне позвонили из секретариата Военной коллегии и известили, что Ульрих меня примет.
...В огромном кабинете, устланном ковром, стоял у письменного стола маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усиками. Ульрих был видной фигурой того времени. В течение многих лет он возглавлял Военную коллегию, председательствовал на всех крупных политических процессах двадцатых-тридцатых годов.
Принял он меня со снисходительным добродушием, явно рисуясь своей «простотой» и любезностью.
— Ну-с, — улыбчиво заговорил он, садясь в кресло, — садитесь, пожалуйста. Так чего бы вы от меня хотели?
— Откровенно говоря, Василий Васильевич, я и не знаю, чего теперь хотеть. Дело в том, что я собирался просить вас о допущении защитника к слушанию дела Кольцова, но третьего дня узнал, что суд уже состоялся. Как обидно, что я опоздал!
— О, можете не огорчаться, — ласково сказал Ульрих, — по этим делам участие приглашенных защитников не разрешается. Так что вы ничего не потеряли. Приговор, если не ошибаюсь, десять лет без права переписки?
— Да, Василий Васильевич. Но позвольте быть откровенным, — осторожно сказал я. — Существует, видите ли, мнение, что формула «без права переписки» является, так сказать, символической и прикрывает нечто совсем другое...
— Нет, зачем же, — невозмутимо ответил Ульрих, — никакой символики тут нет. Мы ведь, если надо, даем и пятнадцать и двадцать, и двадцать пять. Согласно предъявленным обвинениям.
— А в чем его обвиняли?
Ульрих задумчиво устремил глаза к потолку и пожал плечами.
— Как вам сказать, — промямлил он, — различные пункты пятьдесят восьмой статьи. Тут вам, пожалуй, трудно будет разобраться.
И далее беседа наша приняла характер какой-то странной игры. Ульрих твердо придерживался разговора на темы литературы и искусства, высказывал свои мысли о последних театральных постановках, спрашивал, над чем работают те или иные писатели и художники, интересовался, какого мне-
70
ния о нем «писательская братия», верно ли, что его улыбку называют «иезуитской», и т. п. Все мои попытки узнать что-нибудь о брате он встречал благодушной иронией.
— Ох, обязательно вы хотите что-нибудь у меня выведать, — приговаривал он, посмеиваясь.
Я уже понял, что мой собеседник просто-напросто забавляется нашей беседой, но продолжал вставлять интересующие меня вопросы. Однако все, что я узнал, — это, что председательствовал на суде над Кольцовым лично он, Ульрих, и что «выглядел Кольцов, как обычно, разве только немного осунулся...».
— А он признал себя виновным? — спросил я.
Ульрих юмористически погрозил мне пальцем.
— Э, какой вы любопытный, — сказал он со своей «знаменитой» улыбочкой и после маленькой паузы добавил: — Довольно ершистый у вас братец. Колючий. А это не всегда бывает полезно...
Потом помолчал и, став вдруг серьезным, сказал:
— Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что, если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция?
Яснее нельзя было дать понять, что все мои вопросы, расспросы и хлопоты не только наивны, но и бессмысленны. Разговор явно пришел к концу. Я поднялся с места. Однако мой словоохотливый собеседник снова начал балагурить.
— А вот мне хорошо, — болтал он, выйдя из-за стола и прохаживаясь по громадному ковру, — никаких у меня нет братьев и вообще никаких родственников. Был вот отец и тот недавно умер. Ни за кого не надо бояться и хлопотать не надо. Да... Ну-с, а вам я советую спокойно работать и поскорее забыть об этом тяжелом деле. А брат ваш, — доверительно прибавил он, — находится, думаю, сейчас в новых лагерях за Уралом. Да, наверное, там.
Уже выходя из кабинета, я остановился в дверях.
— Василий Васильевич! — сказал я, — а вы разрешите через какое-то время вернуться к этому делу, ходатайствовать о его пересмотре?
В водянистых глазах Ульриха мелькнула усмешка.
— Конечно, конечно, — сказал он. — Через какое-то время...
Шли напряженные дни первого года великой войны. Советские люди, каждый на своем посту, каждый на своем
71
месте вставали на защиту Родины. И меня ни на минуту не оставляла мысль: может ли быть, чтобы в тяжелую годину, когда для отпора свирепому и опасному врагу нужен каждый талантливый и смелый человек, может ли быть, чтобы в строй военных писателей не вернули испытанного работой в Испании боевого правдиста, как в ряды армии вернули многих, ранее репрессированных военных деятелей?
Я живо представлял себе, с какой радостью и с каким азартом включился бы Кольцов в борьбу против ненавистного ему фашизма, как достойно встал бы он в ряды писателей-фронтовиков плечом к плечу с Алексеем Толстым, Александром Фадеевым, Михаилом Шолоховым, Всеволодом Вишневским, Константином Симоновым, Ильей Эренбургом, Василием Гроссманом, Борисом Полевым и другими. Сколько бичующих лютого врага памфлетов, сколько волнующих, ярких корреспонденции и очерков было бы передано им и с передовых линий действующей армии, и из партизанских районов, и с оборонных заводов глубокого тыла.
Конечно, этими мыслями я ни с кем посторонним не делился. В те времена их следовало держать при себе. Ведь если любой человек, при любых обстоятельствах потерявший отца или брата, мог с печалью о них вспоминать, рассказывать, горевать, то те, чьи родные были репрессированы, такого права были лишены. Им полагалось обходить имена близких людей молчанием, делать вид, будто их никогда и на свете не было, и поминать их только в соответствующей графе различных анкет. Ведь в глазах многих лица, имеющие репрессированных родственников, являлись элементом подозрительным, и, с их точки зрения, на мне, например, лежала невидимая, но четкая мета — «брат врага народа».
Мне как-то рассказывал журналист Л. Железнов, в годы войны редактор «Фронтовой иллюстрации», как, просматривая свежий номер этой газеты, начальник Главного политуправления РККА Л. Мехлис наткнулся на мой рисунок и нахмурился.
— Ефимов? — сказал он. — Гм?.. А как он работает? Нет ли в нем червоточинки?
— По-моему, неплохо, — ответил Железнов.
— Вы считаете? — недовольно сказал Мехлис. — Гм... Посмотрим.
Нет, во мне не было ни малейшей «червоточинки» во всем, что касается моей службы стране оружием своего искусства, патриотического долга советского художника. Но
72
меня не мог не терзать червь лютой досады и горечи за судьбу брата. И одновременно во мне не иссякал тоненький ручеек надежды, которую питали систематически доходившие до меня всевозможные слухи о брате. Не знаю, где и почему они рождались, но их настойчивость, разнообразие и внешнее правдоподобие заставляли меня в силу какой-то внутренней психологической потребности им какое-то время верить. Да как можно было не верить, если, например, художник Михаил Храпковский, сотрудник «Крокодила», тоже в свое время осужденный, но вышедший на свободу, рассказал мне, что встретился с Кольцовым, которого он, естественно, ни с кем не мог спутать, на пересыльном этапе в Саратове. Кольцова пересылали из лагеря в Москву, и брат сказал, что ничего хорошего он от этой пересылки не ждет. Это было летом 1942 года. Позже железнодорожник Павел Голубков разыскал меня, чтобы рассказать, что он видел Кольцова возле вагона-типографии на Воркутинской железнодорожной ветке. Голубков еще задолго до войны служил курьером в редакции «Огонька» и, конечно, не мог не узнать своего редактора. Журналист Михаил Берестинский, вернувшийся из поездки в Свердловск, рассказывал, что начальник расположенных в тех краях лагерей, будучи зачем-то в редакции местной газеты, «хвалился» тем, что у него в клубе работает известный автор «Испанского дневника». Почти одновременно приходит весть с противоположного конца страны — из Соловков — о том, что Кольцов находится там и кому-то, между прочим, рассказывал в подробностях содержание романа, который он задумал и даже частично написал в заключении...
И так далее, и так далее. Я уже начал относиться к этим россказням с известной долей скептицизма, но вместе с тем твердо решил, что Миша жив, не теряет мужества и вот-вот появится.
Вот почему я почти не удивился, когда в июне 1944 года кто-то мне сказал, что в Союзе писателей имеются какие-то интересные сведения о Кольцове, исходящие от писателя Михаила Слонимского. Слонимский мне сказал, что слышал об этом от Анны Караваевой. Караваева ответила, что ей поведал о Кольцове приехавший в Москву на совещание председатель саратовской писательской организации А. Матвеенко. Я вихрем помчался в Дом Герцена, где происходило совещание, и сразу нашел Матвеенко, представительного седеющего мужчину. От него я услышал следующее:
— Совсем недавно по делам саратовского Союза писа-
73
телей я был в Куйбышеве у начальника политуправления Приволжского военного округа. Поговорили о разных вопросах, и в заключение он мне говорит: «А вы знаете, тут у нас находится один ваш собрат по перу». «Кто такой?» «Михаил Кольцов». «Что вы говорите? Какой? Тот самый?» «Да, тот самый. Который был в Испании. Наверно, читали «Испанский дневник»? «Удивительно, — говорю я, — а что он здесь делает?» «А он находится здесь, — говорит генерал, — во 2-м офицерском полку на переподготовке после ранения под Брянском. Имеет звание старшего лейтенанта. Если хотите, можете с ним поговорить». Генерал взялся за телефон, соединился с каким-то номером и велел вызвать к телефону старшего лейтенанта Кольцова. Через некоторое время он передал мне трубку. А я, знаете, не был лично знаком с вашим братом и несколько растерялся: о чем говорить? Спрашиваю: «Это товарищ Кольцов?» «Да, Кольцов». «Михаил Кольцов?» «Да, Михаил Кольцов». «Э-э... Значит, сейчас вы находитесь здесь?» «Да, как видите, здесь». «А вы... э... что-нибудь сейчас пишете?» На это он ответил что-то невнятное, и трубка была положена. Вот и все, что я могу вам рассказать.
Я выслушал Матвеенко со смешанным чувством с новой силой вспыхнувшей надежды и вместе с тем недоумения.
С одной стороны, мне представлялось маловероятным, чтобы крупный военный работник, генерал, мог без достаточных к тому оснований и соответствующих документов принять какого-нибудь случайного человека за известного всей стране журналиста, члена редколлегии «Правды», депутата Верховного Совета РСФСР и пр.
С другой — я не допускал мысли, что, находясь на свободе, Миша не дал бы о себе знать.
Тут случилось так, что в эти же дни одна знакомая журналистка собралась по командировке от своей редакции в Куйбышев. Я попросил ее выяснить на месте, насколько достоверны сведения о брате. Она вернулась в Москву с ошеломляющей информацией: во-первых, оказалось, что в редакции местной газеты «Волжская коммуна» уже давно знают о том, что знаменитый Михаил Кольцов находится в одной из воинских частей ПРИВО. Во-вторых, и это особенно важно, ей удалось встретиться и поговорить с неким подполковником Лукьяновым, командиром 2-го офицерского полка. Лукьянов, хотя и несколько туманно, подтвердил, что в его полку, в 5-м батальоне служит старший лейтенант Кольцов. И даже
74
спросил при этом: «А правда, что художник Борис Ефимов из «Красной звезды» его родной брат?»
У меня почти не оставалось сомнений. Однако молчание Миши представлялось непонятным, и я решил еще раз проверить факты.
О том, что было дальше, лучше всего, пожалуй, расскажут подлинные документы.
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ СВЯЗИ СССР
Фототелеграмма
Адрес: Куйбышев (Областной) Штаб
ПРИВО подполковнику Лукьянову.
Уважаемый тов. Лукьянов!
Разрешите обратиться к Вам с просьбой. Я уже давно не имею известий от своего брата ст. лейт. Кольцова Михаила Ефимовича, 1898 года р. Насколько мне известно, он находился в Вашем распоряжении с августа 1943 г. по март 1944 г. в 5-м батальоне 2-го Офицерского полка запаса.
Прошу не отказать в просьбе сообщить мне, когда и куда он от Вас убыл. Мой адрес: Москва, редакция газеты «Красная звезда», ул. Чехова, 16, Бор. Ефимову. С приветом художник Бор. Ефимов.
Через несколько дней фототелеграмма вернулась ко мне со следующей сопроводительной запиской:
Тов. Ефимов
Возвращаю вашу фототелеграмму обратно и сообщаю, что в отделе кадров ПРИВО подполковника Лукьянова не значится, а также ст. лейтенанта Кольцова М. Е. найти по учету в отделах кадров не могли и 2-го офицерского полка в ПРИВО нет.
С приветом
Нач. экспедиции штаба ПРИВО ст. л-т а/с А. Капелина
Нетрудно себе представить мое ошеломление. Как так? Что это значит? Что за наваждение? Неужели и рассказ Матвеенко, и разговор с «подполковником Лукьяновым» — все это плоды воображения или недоразумения? Непостижимо! Я решил предпринять еще одну попытку и обратился к милейшему Николаю Александровичу Таленскому, ответственному редактору «Красной звезды», который пошел на весьма смелый по тем временам поступок.
75
СЕКРЕТНО
2-й офицерский полк запаса Приволжского военного округа
Командиру полка
Прошу сообщить, действительно ли с сентября 1943 г. по март 1944 г. проходил службу в 5-м батальоне вверенного Вам полка старший лейтенант КОЛЬЦОВ Михаил Ефимович, рождения 1898 года, гор. Киев, а также куда и когда убыл.
Ответственный редактор
генерал-майор Н. ТАЛЕНСКИЙ
Вскоре вернулся в редакцию и этот секретный пакет. К нему был прикреплен миниатюрный квадратик бумаги с лаконичным текстом: «Редакция газеты «Красная звезда». В ПРИВО такой части нет».
Странную историю со «старшим лейтенантом Кольцовым» можно было, по-видимому, считать исчерпанной.
Однако я ошибся — она получила свое не менее странное продолжение спустя почти три десятилетия. В январе 1972 года я получил следующее письмо.
Художнику Б. ЕФИМОВУ
Москва, газета «Известия»
На днях в одной старой газете я прочел статью о жизни и литературно-общественной деятельности М. Е. Кольцова. В связи с этим вспомнилось прошлое.
В годы войны, будучи на военной службе в политуправлении Приволжского военного округа (Куйбышев), однажды в экспедиции штаба ПРИВО я ознакомился с фототекстом Вашего письма, в котором Вы запрашивали о службе Вашего брата Михаила Кольцова, что меня очень тогда заинтересовало, но в тот год я счел нецелесообразным Вас беспокоить.
В день моего дежурства в приемной начальника ПУ ПРИВО мне позвонили и сказали, чтобы я заказал пропуск М. Кольцову. Исполнив это, я стал ожидать прихода известного человека.
Хочется спросить, служил ли в частях Приволжского военного округа (г. Кинель) ваш брат!
Извините за беспокойство.
С уважением
Н. Л. ИВАНОВ.
76
Воронеж, улица Комиссаржевской, д. 1, кв. 65.
Иванов Николай Лукич, инженер-майор в отставке
3 января 1972 года.
Я немедленно написал Н. Л. Иванову в Воронеж.
Уважаемый Николай Лукич!
Сведения о том, что мой брат — Михаил Кольцов — проходит военную службу в частях ПРИВО, исходили от писательской организации Саратова. Проверить правильность этих сведений тогда, в 1944 году, не удалось. В частности, на свою фототелеграмму, которую Вы видели, определенного ответа я не получил. И мне по сей день неизвестно, кто был человек, которого принимали за Михаила Кольцова.
В своем письме Вы сообщаете, что заказали пропуск М. Кольцову и стали «ожидать прихода известного человека».
Поэтому я, в свою очередь, обращаюсь к Вам с вопросом: дождались ли Вы этого человека, видели ли его? Можете ли Вы описать его внешность, приметы? И еще вопрос: знали ли Вы в частях ПРИВО подполковника Лукьянова, которому был адресован мой запрос о брате!
Буду весьма благодарен за ответ.
С товарищеским приветом
Б. ЕФИМОВ,
народный художник СССР
С понятным нетерпением стал я ждать ответа на свое письмо. С новой силой возникли во мне волнения, сомнения и надежды 30-летней давности. Мне думалось: не прошла ли тогда мимо меня редчайшая возможность найти брата, узнать о его судьбе?
Ответа долго не было. И наконец...
Многоуважаемый Борис Ефимович!
Извините, что ответ пишу с опозданием. Посылал письмо в г. Куйбышев, обращался к знакомым, хотел узнать о подполковнике тов. Лукьянове, о котором Вы упоминаете в своем письме. Сообщили, что он им также неизвестен.
Будучи дежурным офицером в приемной начальника политуправления ПРИВО, я действительно заказывал пропуск на имя Михаила Кольцова. С большим волнением ожидал его прихода. Вспомнил прошедшие годы, когда мы, читатели, с интересом читали очерки, фельетоны, статьи любимого и популярного автора.
77
Когда он пришел в приемную, я внимательно, с переживанием смотрел на редкого посетителя, видел его исхудалое и бледное лицо. Он был в звании старшего лейтенанта, в хлопчатобумажном полевом офицерском костюме. Он был небольшого роста, весьма подвижным, очень энергичным, целеустремленным. Оставалось впечатление, что его беспокоит, даже волнует весьма важное дело. И такое переживание человека сочеталось с простотой, привлекательностью, что убеждало меня в том, что это действительно был сам Михаил Ефимович Кольцов.
Но... вспомнив газетные и журнальные фотографии М. Е. Кольцова и сравнив их с внешним видом посетителя, я усомнился, хотя думы, что он пережил тяжелое, которое могло изменить внешность любого человека, снова возвращали к моему первому заключению.
В тот памятный день М. Кольцов был принят начальником политического управления Приволжского военного округа. Беседа продолжалась примерно 30—40 минут, но ее содержание мне было неизвестно.
В моем личном архиве сохранился экземпляр газеты «Правда» 1934 года, посвященный полярной экспедиции «Челюскина». На страницах исторического номера газеты центрального органа нашей партии напечатан очерк М. Е. Кольцова «Секрет успеха». Прочел еще раз и снова подумал, как легко, просто и полно, задушевно написано. Ничего лишнего! А каким уважением, любовью проникнуты слова к людям подвига... Спасение челюскинцев буквально всех волновало и радовало, когда наши мужественные летчики их спасали и спасли.
И обо всем этом на страницах «Правды» художественно, правдиво и трогательно рассказал М. Е. Кольцов. Забыть нельзя!
Что вам известно о его дальнейшей судьбе!
Извините за беспокойство.
С уважением Н. Л. ИВАНОВ
18 марта 1972 г.
Нетрудно увидеть, что доброе, человечное и очень простодушно написанное письмо Николая Лукича, проникнутое истинной теплотой читательского отношения к «любимому и популярному автору», не дало все-таки ответа на главный, интересовавший меня вопрос: был ли то в Куйбышеве действительно мой брат? Тайна осталась тайной.
А теперь вернемся в уже очень далекий 1954 год.
78
В трескучий декабрьский мороз я вышел из здания Главной военной прокуратуры на улице Кирова. В кармане у меня лежала бумага следующего содержания.
Гр-ну ЕФИМОВУ Б. Е.
Сообщаю, что 18 декабря 1954 года Военная коллегия Верховного Суда СССР по заключению Прокуратуры СССР приговор по делу Вашего брата КОЛЬЦОВА Михаила Ефимовича отменила и дело в отношении его прекратила за отсутствием состава преступления.
За официальной справкой о прекращении дела в отношении КОЛЬЦОВА М. Е. Вам надлежит обратиться в Военную коллегию Верховного Суда СССР.
Зам. Главного Военного прокурора
полковник юстиции Д. ТЕРЕХОВ
Это может показаться неправдоподобным, но прошу мне поверить, что, получая эту бумагу, я не спускал глаз с двери в глубине просторного прокурорского кабинета, почти убежденный в том, что меня ждет радостный сюрприз, что сейчас эта дверь откроется и из нее выйдет уже переведенный из дальнего лагеря в Москву брат... Однако этого не произошло. Тогда, взяв из рук прокурора бумагу и немного помедлив, я обратился к нему:
— Товарищ полковник! У нас с вами было несколько бесед в процессе ознакомления с делом Кольцова. Я ответил вам на ряд вопросов. Теперь разрешите и мне задать вам один вопрос.
— Пожалуйста.
— А где сейчас находится мой брат? Прокурор посмотрел куда-то в сторону и ответил:
— А это вам сообщат там, где вы будете получать официальную справку о реабилитации. В Военной коллегии.
«Видимо, таков порядок», — подумал я, поблагодарил и поднялся с места.
И вот через четырнадцать лет я в кабинете председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР генерал-лейтенанта юстиции А. Чепцова. Розоволицего Василия Васильевича, который рекомендовал мне «поскорее все забыть», уже нет. Седой человек в золотых генеральских погонах любезно мне говорит:
— Собственно говоря, у вас не было необходимости специально сюда приходить — этот документ мы могли пере-
79
слать вам по домашнему адресу. Но, поскольку вы уже здесь... Что я могу сказать? Вашего брата пытались изобразить агентом чуть ли не пяти иностранных разведок. Лица, которые фальсифицировали его дело, как и многие другие дела, находятся в настоящее время под судом и понесут суровое наказание. Кстати сказать, дело вашего брата находится сейчас здесь, и, если хотите на него взглянуть, можете это сделать. Подробно читать его, сами понимаете, никак не положено.
— Хочу взглянуть, — сказал я.
Генерал нажал кнопку звонка, дал указание вошедшему помощнику, и через несколько минут на стол легли две толстенные папки, перевязанные шпагатом. Я смотрел на них с ужасом. Потом раскрыл верхнюю папку и сразу увидел ордер на арест. Он был почему-то напечатан не типографским способом, а на пишущей машинке. И почему-то не внизу, где обычно подписываются бумаги, а по диагонали через весь лист тонким кроваво-красным карандашом была поставлена подпись: Берия.
Дальше я увидел в папке много-много страниц, мелко исписанных легким, изящным, до боли знакомым почерком брата. Читать я, согласно предупреждению, не стал, закрыл папку и молча, выжидающе посмотрел на председателя Военной коллегии. Он протянул мне документ о реабилитации. Мы обменялись рукопожатием.
После маленькой паузы он заговорил:
— Ну... А что касается... К великому сожалению... Вы сами понимаете...
У меня вдруг сжалось сердце.
— А что, товарищ генерал? Что я должен понимать? Я ничего не понимаю.
— Ну... Должен вам сообщить... Одним словом... Вашего брата нет в живых. С тридцать девятого года.
Некоторое время я не мог вымолвить ни слова. Я молча смотрел на Чепцова, а он на меня. В эти секунды в моей голове с какой-то непостижимой быстротой проносились все доходившие до меня за минувшие годы вести о Кольцове. С особой четкостью всплыл в памяти рассказ художника Храпковского о встрече с братом. Я спросил тогда Храпковского: «А как выглядел Михаил Ефимыч? Во что был одет?» Храпковский ответил: «О чем вы говорите... Во что одет... В помещении, где мы находились, — какой-то барак — была дикая жара, духота невыносимая, битком набито людьми. Все обливались потом, грязные, полуголые... Михаил Ефимыч ска-
80
зал мне: «Если увидите Борю, передайте... Передайте, что вот, встретили меня. Что я жив. Держусь. Может, еще увидимся. Хотя... все может быть...»
«Что же, — вертелось у меня в голове, — Храпковский все это выдумал? Зачем? А это был, по его словам, июль сорок второго года. Шла война. При чем же тут тридцать девятый год? И зачем бы понадобилось так спешно расстрелять только что отличившегося «дона Мигеля», которого, как сказал тогда К. Е. Ворошилов, «ценят, любят, доверяют»? Инсценировать вплоть до февраля сорокового года прием денежных передач в «Помещении № 1»? Зачем? Чтобы обмануть меня? Зачем? Нет, тут что-то не так».
Наконец я, как принято говорить, обрел дар слова.
— Нет, товарищ генерал, этого не может быть, — произнес я.
— Почему?
— Да прежде всего потому, что все эти годы о нем много раз доходили вести. Из разных мест, из лагерей. Его видели, с ним говорили.
— Видите ли, — мягко сказал Чепцов, — мы иногда принимаем желаемое за действительное. Вот недавно была у меня жена Косарева. Ей тоже говорили, что он жив, работает. Где-то на шахте. А между тем...
— Все это так, товарищ генерал, но все же... В тридцать девятом... Да ведь суд-то над ним состоялся в сороковом! И приговор был: десять лет лагеря.
— А кто это вам сказал?
— Ваш, так сказать, предшественник. Ульрих.
— Ах, Ульрих, — сказал генерал с непередаваемой интонацией и махнул рукой.
Исключительно жарким выдался в столице двадцать восьмой день июня 1972 года. Старожилы, как это им и положено, не запомнили такого зноя за много лет. Все живое стремилось на теневую сторону улиц и площадей. Тем не менее большое количество людей собралось под палящим солнцем, на раскаленном асфальте возле дома № 11 по Страстному бульвару. В этом красивом зеленом особняке с прилегающим садиком много лет находилась редакция журнала «Огонек», основателем и первым редактором которого был Михаил Кольцов. Там же располагались редакции журнала «За рубежом», «За рулем», «Советская женщина», «Советское фото», многих других популярных изданий большого «Журнально-газетного
81
объединения (ЖУРГАЗ)», также организованного и вплоть до 1938 года руководимого Кольцовым.
Органы регулирования уличного движения не сочли целесообразным перекрыть движение транспорта на столь оживленной трассе, но автомобили и троллейбусы, тихо сигналя, замедляя ход, осторожно проезжали мимо бывшего «ЖУРГАЗа».
Люди пришли сюда, откликнувшись на следующее приглашение:
Уважаемый товарищ!
Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии мемориальной доски в память советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича КОЛЬЦОВА.
Правление Московской организации
Союза журналистов СССР
Правление Московской писательской организации СП РСФСР
Главное управление культуры Исполкома Моссовета
Перед микрофоном выступали писатели, журналисты, военные, общественные деятели. В заключение слово было предоставлено члену комиссии Союза писателей СССР по литературному наследию Михаила Кольцова. Это был я.
— Литературное наследие Кольцова, — сказал я, — это огромное, практически неисчислимое количество очерков, фельетонов, корреспонденции, статей, выступлений, в которых во всем своем величии встает эпоха становления и утверждения советского строя, начиная с Октября семнадцатого года. Неповторимая летопись жизни, борьбы и труда советского народа, его радостей и печалей, испытаний и подвигов.
Последней страницей творческой биографии Кольцова стала книга «Испанский дневник», которую Алексей Толстой и Александр Фадеев в совместной статье, опубликованной в «Правде» в ноябре 1938 года, за месяц до ареста ее автора, назвали «великолепной, страстной, мужественной и поэтической». Эта книга правдиво и ярко рассказала о первом военном столкновении с фашизмом, прелюдии к Великой Отечественной войне, в которой Кольцову не суждено было принять участие. Кольцов, как вы знаете, был не только талантливым писателем, но и неутомимым общественным деятелем, энергичным организатором, активным политическим и дипломатическим работником. Он все делал быстро, увлеченно, весело, не зная отдыха, не теряя ни минуты, как будто чувствуя, что ему отмерен судьбой очень короткий срок жизни.
Тридцать четыре года назад Михаил Кольцов навсегда ушел из этого дома сорокалетним. Сегодня по воле партии, по решению Московского Совета он навечно возвращается сюда в граните мемориальной доски.
82
«Литературная газета», 1988 № 4
Аркадий Ваксберг
Царица доказательств
Его ждали с утра, но дела чрезвычайной государственной важности помешали высокому гостю приехать в условленный час. Участники Всесоюзного совещания юристов, не ропща, прогуливались по коридорам, отложив на время жаркие схватки, которые велись уже несколько дней: приедет Сам — и рассудит. Последнее слово — за ним...
Я не был участником совещания, но и «зайцем» я не был тоже: студентов юрфака охотно пускали тогда на любые научные форумы.
«Приехал», «идет», «поднимается» — слышу еще и сейчас этот вдруг пронесшийся шепот. Помню: тревожно и сладостно екнуло сердце, когда внизу показалась его благородная проседь, почти слившаяся с мундиром мышиного цвета и погонами цвета надраенной стали — тогда этот странный наряд дипломата казался верхом вкуса и образцом элегантности. Вся советская юриспруденция растянулась вдоль лестницы, образуя широкий проход. Гость бодро (папка под мышкой) одолевал ступеньку за ступенькой и — надо же! — внезапно остановился. «Сегодня опять не могу. И завтра, — сказал он кому-то, кто стоял совсем рядом со мной. — Простите великодушно, никак не могу». Чего он не мог, перед кем извинялся? Не знаю. Не посмотрел. Видел только его, стоявшего в двух шагах от меня: низкого роста, плотно сбитый, благоухающий. Красивая проседь. Щеточка тонких усов. Очки в изящной оправе. За стеклами — цепкий, колючий, пронзающий взгляд. Чуть прищуренные глаза — тоже стальные.
Минута, не больше, запомнилась на всю жизнь. Актовый зал юридического института носил его имя. Не официально, но в обиходе. Так и звался: зал Вышинского. Почему? Объясняли: он здесь выступал. Может быть, не однажды. Раз выступал — значит, зал обессмертил. И вот снова — в нем же раздавал всем сестрам по серьгам. Кого-то
83
громил, наклонив голову и блестя стальными глазами, выглядывавшими из-под очков.
Я не помню сейчас, кого он громил и за что, хотя проще простого взять журналы тех лет и прочесть. Но то, что запомнилось, я там все равно не прочту.
А запомнилось вот что: гладкая речь — без единой шпаргалки, без всяких там «э-э-э» или «мм-мм», без «значит» и «так сказать», — грамматически точная, хоть сразу в набор; почти забытые даже тогда, а теперь и подавно, добротные ораторские приемы — модуляции голоса, хорошо выверенные подъемы и спады, эффектные паузы, крепкая школа логики и риторики, страсть, умело вложенная в каждую фразу; память и эрудиция — пространные цитаты наизусть из древних и новейших трактатов, свободное владение именами, датами, фактами. И, наконец, самое главное, самое поразительное: беспримерное сочетание академизма, учености, почти щегольской образованности с оскорбительной бранью, вылетавшей из уст настолько естественно, настолько непринужденно, словно эта гремучая смесь стала нормой, повседневным жаргоном.
И брань к тому же была непростая — каждое бранное слово обретало окраску зловещую. Ибо смысл, в него вложенный, имел политическую основу. Подвергшийся критике Самого не просто в чем-нибудь ошибался (если даже и ошибался), но непременно пел с нехорошего голоса или работал на закордонных акул.
Тем, кому захотелось бы сегодня узнать биографию человека, имя которого многие годы наводило ужас на всю страну, пришлось бы изрядно потрудиться, складывая мозаику из хитроумно подобранных данных, содержащихся в справочниках, энциклопедиях и словарях. Время накладывает печать на выбор биографами вех богатой событиями жизни, высвечивая на разных этапах истории одни факты и затемняя другие. Зато, взятые вместе из разных изданий, они позволяют увидеть странные зигзаги карьеры угодливой серости, вознесенной на такие высоты, откуда ей было дано, упиваясь своим могуществом, топтать поверженных и играть судьбами миллионов.
Из Большой Советской Энциклопедии 1951 года издания мы узнаем, что Вышинский активно участвовал в революционном движении с 1902 года, и в информации этой не будет неправды, но и ясности тоже не будет — для того, кто не прочтет биографической справки, помещенной в предыдущем
84
издании той же энциклопедии 22 годами раньше. Там его прошлое изложено куда как точнее: меньшевик, решившийся перейти к большевикам лишь после того, как власть прочно оказалась у них.
Это прошлое, вероятно, сидело в нем кровоточащей занозой. Психологически он всю жизнь был на крючке. В подобных ситуациях разные люди ведут себя по-разному (тех, кто честно переменил свои взгляды, в расчет не беру). Одни — сникают, тушуются, забираются в тихую гавань: авось не вспомнят. Другие — выслуживаются, холуйски доказывая свою безраздельную преданность новым хозяевам. Третьи — особенно подлые и растленные — сами становятся палачами, топча своих бывших соратников, сохранивших достоинство и элементарную честь. И, наконец, вершина: беспринципный перебежчик, пробравшись к рулю, глумится над теми, кто всю жизнь был верен себе самому, своим идеям и принципам, кто боролся с оборотнями и приспособленцами и потому им особенно ненавистен.
Вышинский достиг вершины.
Впрочем, было бы ошибкой считать, что он сам вскарабкался на эту вершину, где обрел власть над людьми. Его усердно толкали туда. Точнее — толкал. Тот, кто метко и проницательно открыл в нем качества несравненные: злобу, жестокость и готовность на все. Абсолютно на все...
Увы, людей, обладающих этими качествами, не так уж и мало. В дополнение к ним у Вышинского было еще и достоинство — образованность. Сочетание этих трудносочетаемых свойств резко выделяло его из общего ряда, придавая злодейству черты солидности, фундаментальности.
Окончив в тридцать лет (по тем временам слишком поздно) юридический факультет Киевского университета, Вышинский был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию: некий прообраз нынешней аспирантуры. Даже докторантуры. В ту пору требования к соискателям были куда жестче, чем ныне, да и решение принималось учеными без оглядки на полицейскую неблагонадежность. Значит, зрелый выпускник и впрямь подавал надежды...
Но они не сбылись: полиция все-таки победила, а соискатель отбыл в Москву, стал помощником присяжного поверенного. Никаких следов его адвокатской практики найти не удалось.
Зато два года спустя, после Февраля, на гребне революционной волны он выплывает в качестве скромного, но все же
85
заметного деятеля новой администрации, сменившей царских чиновников и ставшей проводником директив Временного правительства. Одну из них выполнял он особенно ревностно — эта акция зловеще определила всю его жизнь: будучи председателем 1-й Якиманской районной управы, Вышинский подписал распоряжение о неукоснительном исполнении на вверенной ему территории архиважного приказа правительства. А приказ был такой: разыскать, арестовать и предать суду немецкого шпиона Владимира Ильича Ульянова (Ленина).
Отвлекаясь от вполне понятных эмоций, которые вызывает у нас этот дикий приказ, можно, вероятно, сказать, что в ту пору он воспринимался иначе, что рядовой чиновник, к тому же юрист, просто-напросто исполнял свой долг, повинуясь указанию свыше.
Но ведь это был не просто чиновник, а социал-демократ, считавший себя революционером. Человек, который отлично знал: речь идет о руководителе политической партии, об уже признанном всеми вожде русского пролетариата. Представим себе, что за Февралем не последовал бы Октябрь. Какую карьеру сделал бы этот служака из Якиманской управы?
Трагический виток истории состоял в том, что именно он всего через двадцать лет на посту прокурора страны клеймил ближайших соратников Ленина, будто они — они, а не он! — замышляли расправиться с Ильичем. Для них Вышинский требовал смертного приговора. Издевался над ними. Он был снова служакой и снова играл свою роль с пылом и страстью. От всего сердца, если только слово «сердце» здесь можно употребить.
Когда-то я читал его обвинительные речи, как источник юридической мудрости и образчик судебного красноречия. Мне захотелось перечитать их снова — на несколько вечеров я окунулся в гнетущую атмосферу тех лет, где откровенный политический бандитизм сочетался с благообразием обкатанных юридических формулировок, трескучая фразеология и надрывный пафос — с тонкостью правового анализа и несомненным умением разбираться в лабиринте противоречивых и разрозненных фактов.
Тех, для кого имя Вышинского связано только с преступлениями «периода культа», удивит, наверно, признание в противоречивости чувств, испытанных мною сегодня от чтения «литературного наследия» этого чудовища и громилы. Но «политическим процессам» тридцатых годов предшествовала многолетняя деятельность процветающего юриста в звонких
86
процессах иного рода. Вообще витки его карьеры причудливы и неожиданны. В самые трудные, голодные годы — непосредственно перед нэпом — он возглавил управление распределения российского Наркомпрода. Потом стал прокурором, причем сразу высокого ранга — при уголовной коллегии Верхсуда СССР. Здесь произнесены им его первые речи, часть которых в стенографической записи сохранилась для будущих поколений.
Сюжеты тех — первых — судебных процессов, на которых Вышинский пробовал голос, удивительно напоминают сюжеты до боли знакомые: следователи и судьи, обложившие данью бакалейщиков-казнокрадов и освобождавшие их за это от наказания; крупные шишки плодившихся ведомств, чинодралы с партбилетами, превратившие в барахолку свои служебные кресла; вельможные хозяйственники из легендарного Помгола, жиревшие на народной беде: пир во время чумы...
Страшные гримасы времени, вполне достойные гневного пафоса обвинителя, не могли, естественно, не привлечь широчайшее общественное внимание. О прокуроре заговорили. Имя его снискало себе популярность. Его устами кричала сама справедливость. Он клеймил оборотней и перерожденцев — клеймил за дело: осовевшие от пьянок, шулерства и поборов нувориши в кожаных куртках вызывали омерзение у любого нормального человека, ни одно, даже самое резкое слово в их адрес не казалось чрезмерным.
И однако... Лишь теперь, обогатившись горьким историческим опытом, перечитывая заново эту кровоточащую «устную литературу», замечаешь то, что вряд ли замечалось тогда. А если и замечалось, то считалось, наверное, естественным: стремление придать тошнотворной, но, увы, обыденной уголовщине непременно политическую окраску. Еще робко, исподволь, между прочим, чужеродно вклинившись в обычный криминалистический анализ, вдруг промелькнут и «агенты», и «лазутчики» и «духовные диверсанты», и «всевозможный буржуазный смрад». Эти словосочетания, лишь входившие в обиход и носившие, скорее, характер ораторского приема, митинговой метафоры, чем наполненной реальностью сути, тогда не резали слух: слишком уж подлым и грязным было то, что содеяла (несомненно, содеяла!) вся эта «революционная» накипь.
Происходит новый виток биографии: Вышинский явно пришелся по вкусу. Он замечен и оценен: прямо из прокурорского кресла он попадает в кресло ректора МГУ. Профессорское звание, к которому он так и не сумел подготовиться, приходит
87
теперь автоматически. Не написав ни одной научной строки, он сразу становится «видным ученым».
Впрочем, скоро появляются строки. Много строк: довольно пухлая книга «Курс уголовного процесса». От ее «революционной» схоластики сегодня кружится голова. Но один пассаж привлекает внимание: «Было бы большой ошибкой видеть в обвинительной работе прокуратуры основное ее содержание. Главная задача прокуратуры — быть проводником и стражем законности». Золотые слова! Особенно, если помнить, что было потом. Не в «курсе», а в жизни,
Честно сказать, я не знаю, сколь доблестным ректором был Вышинский и как преуспела под его руководством священная колыбель гуманизма.
Переход в науку и просвещение не отторг Вышинского от того главного дела, для которого он, как видно, был предназначен. В конце двадцатых годов Уже начали ставиться грандиозные судебные спектакли, достигшие своей кульминации лет через десять. И уже с самого начала кровавым их режиссером был определен не кто иной, как Вышинский: выбор сделан был сразу и погрешным не оказался. Правда, сам режиссер состоял на работе в другом ведомстве. Совершенно в другом. Но формальности — не помеха.
Когда готовился так называемый шахтинский процесс — первый из ему подобных по масштабу и общественному резонансу, по далеко идущим последствиям, — проблема номер один состояла не столько в подборе красноречивого обвинителя, сколько в подборе послушных и преданных судей. Слишком точное следование закону и обязательное для любого честного судьи сомнение, отвержение бездоказательной демагогии, фальсификаций, предположений, допусков и натяжек могли сорвать важнейшую акцию. Вышинский был самой подходящей фигурой, но он, как мы знаем, к судейству отношения не имел.
Не имел формально... Но хозяин — барин! Росчерком пера реанимируется известный не самым светлым страницам истории заменитель суда нормального, получающий велеречиво-архаичное имя Специальное Судебное Присутствие. Если попросту — незаконный внесудебный орган, процессуальные функции которого нигде не обозначены. И во главе таинственного Присутствия встает Вышинский.
...Приговор: несколько раз из уст профессора звучит слово «расстрел». Короткая газетная информация: «Приведен в исполнение». И сразу же следом — другая: тов. Вышинский
88
назначен членом коллегии Наркомпроса. Награда за рвение: еще одна ступенька наверх. Чем себя на ней проявил этот доблестный наркомпросец? Как уживался он с Луначарским — теперь уже в повседневном общении? Каким свершениям наша школа (начальная, средняя, высшая) обязана его неукротимой энергии? И сколько осталось лишь в этот — лишь в этот! — период неоплаканных жертв: изгнанных за свое прошлое, отвергнутых за происхождение, разоблаченных в связях с «враждебными элементами»? Скольких талантов мы недосчитались? Сколько бездарностей, обретя дипломы и звания, пробилось к рулю? Сколько мозгов засорено той шелухой, которую упоенно стал насаждать член коллегии Наркомпроса? Вместе с другими, вместе с другими... Но зато — с научнейшим обоснованием. С неизменной ссылкой на право. С цитатами из Сократа и Гегеля, Монтеня и Маркса, Вольтера — и того, кто уже примерял на себя китель «отца народов».
И, однако, все это были ступеньки к вершине, но еще не сама вершина. Важное поприще, но — чужое... Не то, которое было ему уготовано и на котором — к чему скрывать? — он дьявольски «прославил» свое имя. Через три года Вышинский возвращается в родные пенаты — туда, где (мы помним его же слова) проводят и стерегут законность. Тысяча девятьсот тридцать первый год — Вышинский становится прокурором России. Отсюда (рывок за рывком) в трагический тридцать пятый нарастающая волна беззакония выносит его на самый верх: ему, а не кому-то другому доверяется пост прокурора СССР (неподходящего для задуманных акций предшественника Вышинского — старого большевика Ивана Акулова — «убирают»: сначала из прокурорского кресла, а вскоре — из жизни). Пост, где именем закона он будет закон попирать. Создаст декоративный фасад, за которым заплечных дел мастера смогут творить свое кровавое дело. Станет витийствовать на трибунах, заражая легковерных (только ли их?) своим огненным пафосом, испепеляющей страстью и верой в торжество справедливости, ибо к ней он взывал, о ней только и пекся, ссылаясь всегда на высшие интересы народа.
Начинается самая кошмарная «часть» его биографии, но мы сделаем остановку, чтобы напомнить об одном эпизоде, некогда широко известном, а ныне прочно забытом.
За три месяца до начала первого из трех знаменитых «московских процессов», вошедшего в историю как процесс Зиновьева-Каменева, внимание всей страны привлекло дело куда как более заурядное. При всей трагичности ситуации
89
оно никак не выходило из ряда обычных уголовных дел: убийство двух врачей разложившимися пьяницами, самодурами и садистами — руководителями зимовки на острове Врангеля — не имело никакой политической подоплеки, и — что характерно! — даже Вышинский, выступая обвинителем на этом процессе, не прибегнул к привычной фразеологии.
Мои слова, царапнувшие, возможно, кого-то, — о тонкости юридического анализа и об умении разбираться в хитросплетениях разрозненных фактов, — относятся именно к тому давно забытому делу, где Вышинский явился миру не фанатиком и лицедеем, а криминалистом высокой пробы. Это вовсе не делает его менее зловещей фигурой — напротив, многое объясняет.
Я лишен здесь возможности рассказать о том, как два бандита, неограниченные властители далекого заполярного острова Семенчук и Старцев, издевались над двумя самоотверженными рыцарями профессионального долга — супругами Вульфсоном и Фельдман, которые приехали сюда, на край земли, в лютую стужу не пьянствовать, куражиться и обирать, но — лечить. Бесстрашные борцы с травившей местных жителей семенчуковской бандой, они были ею же уничтожены, ибо с открытием навигации непременно предали бы гласности все, что творилось на острове под покровом полярной ночи.
Леденящая душу эта история всколыхнула страну. В деле не было ни малейших натяжек и подтасовок. Бандиты назывались бандитами. И юридическая, и человеческая правда была на стороне обвинения. Не нашлось ни одного человека, который имел бы малейшее основание усомниться в его правоте. Думаю, и сегодня некрикливая, обстоятельная речь прокурора может служить образцом тончайшего анализа косвенных доказательств, замкнувшего множество мелких и мельчайших улик в нерасторжимую цепь. Из всех опубликованных речей Вышинского эта, пожалуй, единственная, где он оставался юристом, и только юристом, где он мог позволить себе не демагогствовать, а исполнять на хорошем уровне свой прокурорский долг.
Возможность провести подобный процесс накануне кошмарной мистерии, где Вышинскому была отведена роль главного режиссера, явилась поистине счастливой находкой, недаром же этому процессу придали такую публичность, а обвинителем в Верховном Суде республики, вопреки существовавшим традициям, стал сам прокурор Союза. За три месяца до того, как приподнялся загадочный занавес века и пред лицом всего
90
мира начался первый акт предложенной публике многоактной политической драмы, Вышинский громко напомнил о себе. За стол обвинения по делу о «троцкистско-зиновьевском террористическом центре» сел юрист, только что снискавший себе признание и популярность, эрудит, аналитик, законник, само воплощение истины и справедливости. Организатору этой мистерии нужен был не механический исполнитель, а исполнитель ловкий и страстный, не безликая «функция», а популярное имя.
Он его получил.
Как известно, это и другие подобные дела сейчас проверяются комиссией, созданной Политбюро ЦК КПСС1. Обвинения в шпионаже, конечно, отпадут, но предстоит внимательно проанализировать политическую платформу каждого, чье дело подлежит пересмотру. Дождемся объективной оценки комиссии — она будет дана и судебным процессам, и каждому их участнику. Но вот какая подробность бросается сразу в глаза, когда, мучительно стараясь не поддаваться бунтующим чувствам, читаешь стенограммы этих процессов и особенно прокурорские речи: доказательств у обвинения нет никаких, их заменяет брань.
«Мразь», «вонючая падаль», «навоз» — так называет Вышинский загнанных на скамью подсудимых бывших членов Политбюро, большевиков с конца прошлого и начала этого века, прошедших царскую каторгу, тюрьмы и ссылки, организаторов и руководителей Октябрьской революции. Выберем наугад еще несколько образцов прокурорского красноречия, чтобы представить себе атмосферу того, что тогда называлось «судом»: «зловонная куча человеческих отбросов», «самые отъявленные, самые отпетые и разложившиеся бесчестные элементы», «презренная куча авантюристов», «взбесившиеся псы», «поганые псы», «проклятая гадина»... Про Николая Бухарина — «проклятая помесь лисицы и свиньи». Михаил Шатров в документальной драме «Дальше... дальше... дальше!» утверждает, что эта «формула» подсказана Вышинскому Сталиным. Очень возможно. Но как органично она вписалась в прокурорскую речь, как естественно и непринужденно вышла из профессорских уст! И какой поразительный выбор глаголов: подсудимые у Вышинского не говорят, а «каркают», «хрюкают», «лают»...
Оскорбить и унизить, а не только физически уничтожить
__________________
1 См., например: Правда, 1988, 10 июля, 5 авг. (Прим. ред.).
91
поверженных — такова была вожделенная мечта верховного дирижера. Осуществляя ее, Вышинский создал совершенно доселе неведомый тип уголовного процесса, где в доказательствах попросту нет ни малейшей нужды: какие там доказательства, когда речь идет о «вонючей падали» и «поганых псах»! Любопытно: набранившись и накуражившись над теми, кто не может ответить, не представив ни единой улики, Вышинский торжественно подводит итог: «...слишком сильны улики и слишком убедительны доказательства!» Слишком...
Справедливости ради надо сказать, что ругань вместо доводов прозвучала впервые не в зале суда, а на страницах печати. Именно там — до суда и вместо суда — началась психологическая обработка общественного мнения в той тональности, которую предложил дирижер. Будущие жертвы, соревнуясь друг с другом в хлесткости площадных ругательств, обливали грязью своих же товарищей, попавших на плаху раньше, чем попали они. Вышинский с виртуозным цинизмом использовал это потом на судебной трибуне. Издевался над Радеком, обозвавшим в печати Зиновьева и Каменева «бандой кровавых убийц». Над Пятаковым, который публично призывал «уничтожать их как падаль» и уже через пять месяцев оказался сам в роли «падали» и «бандита».
В общий хор включились и мастера слова. Меньше всего я хочу из нашего сегодняшнего далека упрекать тех, кто волею судьбы тогда оказался внутри разбушевавшейся стихии. Да, многие (даже честнейшие) присоединили свои голоса к тем, кто «полностью одобрял», клеймил и хулил. Но сразу выделяются те, кто с восторгом принял лексику прокурора, торопясь стать первым учеником, выделиться в поиске оскорблений похлеще, лягнуть побольнее, надругаться глумливо уже над мертвым. «Звероподобная мерзость», — вторил Вышинскому Лев Никулин. О Бухарине — он же: «комедиант», «юродствующий прохвост», «трясущаяся бородка», «дребезжащий тенорок». Жидко, не впечатляет. Унижает, но не до конца... Приходят слова повесомей: «Кривляется», «выламывается, как провинциальный тенор» (поистине мастер слова!), «виляет хвостом», который ему «прищемил государственный обвинитель». И другие — с Никулиным по соседству, на той же газетной странице: «тифозные вши», «кровавые обезьяны».
Зачем я все это сейчас вспоминаю? Чтобы свести запоздалые счеты? Пощекотать нервы? Нет, разумеется, не для этого, а для того, чтобы увидеть истоки тех деформаций, от которых сегодня мы стремимся очиститься.
92
Откуда это стремление, и ныне еще не изжитое, упредить печатными обвинениями будущий суд? «Перейти на личности»? Унизить, а не доказать? Поспешно считать преступником того, кто попал в орбиту идущего следствия («у нас зря не сажают»)? Все оттуда, оттуда.
Сколько раз на нашей памяти (и сегодня — не будем лукавить) прокурор, столкнувшись с отказом подсудимого от прежних своих показаний, давал строптивцу «отпор» и требовал от суда отвергнуть «клевету на советское следствие», вместо того, чтобы это объективно проверить! Откуда такая традиционная заданность? Оттуда, оттуда…
Когда Николай Крестинский, член ленинского Политбюро, отказался на процессе от «признаний», выбитых у него на следствии «ежовыми рукавицами», прокурор принял меры к установлению истины? Нет, он просто обозвал поступок Крестинского «троцкистской провокацией». Проверять было некому и нечего: у нас зря не сажают...
Сколько раз приходилось мне видеть (не смею сказать — везде и всегда, все дела такого рода мне, разумеется, не известны), как подсудимые пытаются объяснить какой-либо установленный факт, а обвинитель, не желая выслушивать никаких уточнений, называет их стремление попыткой «сбить с толку» и «уйти от ответственности». В результате создается совершенно искаженная картина реальности при внешнем соблюдении правды: ведь факт действительно налицо, только вывернут наизнанку. Откуда все это? Оттуда, оттуда...
Один из подсудимых на третьем «московском процессе» Христиан Раковский, чье имя вошло в историю революционного движения России и Украины, Болгарии и Румынии, был сыном помещика. Все деньги, полученные им по наследству, он отдал на партийные нужды. Он финансировал Социал-демократическую партию Румынии и ее газету, редактором которой сам же и был. Значительная часть денег пошла в помощь гонимым царизмом революционерам России, в том числе матросам броненосца «Потемкин», спасение которых в румынской Констанце он организовал. Раковский пытался объяснить это на суде, но Вышинский не дал ему вымолвить слова. Издевательскими вопросами он добивался лишь одного — признания, что у Раковского «были деньги, а значит, он имел «вражеское происхождение» и «тлетворную буржуазную мораль».
И когда сегодня мы вынуждены возвращаться к элементарнейшим азам права, к его основополагающим понятиям, без усвоения которых нет и не может быть ни законности, ни право-
93
судия, когда мы воюем с обвинительным уклоном, с приоритетом данных предварительного следствия, проведенного без соблюдения надлежащих гарантий для подсудимого, когда мы все развенчиваем и развенчиваем, да никак не можем практически развенчать пресловутую теорию «царицы доказательств», каковой будто бы является признание обвиняемым своей вины, — когда мы делаем все это, то с кем и с чем нам, в сущности, приходится воевать? С «отдельными ошибками» и «некоторыми недостатками»? С «недопониманием иными юристами» очередных указаний? Нет, с системой взглядов, ползущих оттуда, оттуда...
Года два назад один видный юридический деятель перед весьма представительным залом, отвечая на вопрос журналиста, обозвал презумпцию невиновности «буржуазным хламом». Я думаю, он сказал это искренне и непроизвольно, употребив термин, прочно вошедший в сознание. Ведь учился он в сороковые годы, и учился, наверное, добросовестно, а учили тогда именно так. Вышинский был мастером хлестких, воинственных афоризмов, они легко запоминались и легко усваивались, ибо весьма и весьма «упрощали жизнь».
Уже давно, с середины пятидесятых, утвердилась привычная формула: теоретические ошибки (I) Вышинского на практике привели к нарушениям законности. Так ли? А может быть, наоборот? Мне кажется, потребность в таких «нарушениях» (беру это слово в кавычки, ибо сознательное уничтожение ни в чем не повинных людей невозможно считать «нарушением») побудила под них подвести мощное основание. Создать его только и мог такой эрудит, мыслитель, книгочей, каким был профессор Вышинский.
Его отмеченный Сталинской премией и признанный в свое время классическим труд «Теория судебных доказательств в советском праве» содержит утверждения, сегодня звучащие дико, немыслимо, неправдоподобно, но их усвоили как юридическую библию тысячи практикующих и ныне юристов. Приходящие в редакцию письма иных сегодняшних преподавателей юридических вузов содержат пассажи, повергающие порою в ужас: их авторы, возможно, и не подозревают, что дорогие их сердцу формулировки на самом деле принадлежат все ему же — незабвенному Андрею Януарьевичу.
Пересыпанная латинскими формулами, ссылками на десятки иностранных источников, оснащенная солидным справочным аппаратом, эта книга всерьез утверждала, что «объяснения обвиняемых... неизбежно приобретают характер и значение основ-
94
ных доказательств, важнейших, решающих доказательств»; что принцип состязательности сторон, как и принцип равенства в процессе обвинения и защиты — буржуазное наследие; что старая формула «пусть погибнет мир, но восторжествует правосудие» — не более чем юридическая схоластика; что другая латинская формула — «закон строг, но это закон», требующая неукоснительного и всеобщего его соблюдения, «не дает места гибкости в деле применения закона».
Каждый, чьи правовые воззрения, сколь бы ни были они очевидны, мешали тотальному произволу, глубокомысленно и веско объявлялся Вышинским «двурушником» и «врагом народа». Крупнейший теоретик права, заместитель наркома юстиции СССР Е.Б. Пашуканис стал таковым лишь за то, что «насаждал формальный подход к законности», или, иначе сказать, призывал не отбрасывать, а соблюдать правовые нормы. За этот призыв ученый расстался с жизнью.
Даже тогда, рискуя многим, выдающийся советский юрист профессор М. С. Строгович отстаивал принцип презумпции невиновности (хотя бы как принцип, ибо о внедрении его в судебную практику не приходилось даже мечтать), вступив в открытую полемику с Вышинским. Не утруждая себя ответом, лидер правовой науки (тут он был лидером тоже) отмахнулся от своего оппонента, глухо заметив, что подобные утверждения «лишены оснований».
До сих пор многие следователи упорно добиваются от обвиняемых собственноручных показаний (чаще всего записанных под их же диктовку), наивно полагая, вопреки закону, что «собственноручие» придает показаниям большую достоверность. Так их учили старшие товарищи — дурная традиция легко переходит по наследству. Вряд ли они знают, что подобные рекомендации внедрили юристы «школы» Вышинского. Они полагали, и, видимо, не без оснований, что психологически так создается видимость достоверности: лучше иметь полупризнание, записанное собственноручно обвиняемым, чем полное, записанное следователем.
Еще в шестидесятые годы тогдашний заместитель Генерального прокурора СССР Н. В. Жогин по архивным материалам установил, что многие жертвы «культа личности» и на следствии, и на суде требовали внести в протокол их заявления о пытках и других «нарушениях» социалистической законности». Находились, представьте себе, прокуроры, которые относились к таким заявлениям с должной серьезностью. «Об этом, — пишет Н. В. Жогин, — стало известно Берии, который потребовал от
95
Вышинского, чтобы прокуроры не настаивали на фиксировании заявлений обвиняемых о незаконных методах допроса... Вышинский в письме на имя Берии услужливо сообщил, что им дано указание не фиксировать таких заявлений...»
В протоколах по уголовным делам последних лет, где вскрыто мерзкое беззаконие следователей, приведшее к трагическим, порой необратимым последствиям, мы тоже не найдем ни малейших признаков заявлений такого рода, хотя обвиняемые утверждают, что делали их неоднократно: о побоях, угрозах и шантаже. Когда же об этом им пришлось рассказать на суде, реакция была однозначной: поклеп на наше славное следствие. Так откуда же эта неистребимая преступная практика? Оттуда, оттуда...
В тридцать девятом, став академиком и — за свою многотрудную деятельность с нервными перегрузками — носителем редкого тогда ордена Ленина, Вышинский покинул пост прокурора СССР. Еще одна ступенька наверх: он уже заместитель Председателя Совнаркома. В этом новом качестве Вышинский сразу же осчастливил культуру. На Всесоюзной конференции режиссеров, передав залу сердечный привет от лучшего друга работников театра товарища Сталина и разъяснив крупнейшим артистам и постановщикам, что формализм означает такое состояние искусства, когда содержание отстает от формы, он, восседая в президиуме, слушал прощальную речь Мейерхольда — трагически вдохновенное завещание Мастера друзьям и коллегам. Вышинскому речь не понравилась (странно, если бы было иначе) — через несколько дней Мейерхольд был арестован.
Но и сам Вышинский, конечно, ни минуты не чувствовал себя в безопасности. В начале шестидесятых годов на квартире видного юриста, автора интереснейшей книги «Нюрнбергский эпилог» А. И. Полторака я два или три раза встречался с Л. Р. Шейниным — они вместе работали одно время в советской части секретариата и обвинения Нюрнбергского трибунала. Шейнин, будучи следователем по важнейшим делам, а затем и начальником следственного отдела Прокуратуры СССР, долгие годы служил под ближайшим началом Вышинского, принимал участие в следствии по делам чрезвычайным.
Помню свидетельство Шейнина: до самой смерти «хозяина» Вышинский ежеминутно ждал своего ареста. Так оно, наверное, и было: слишком уж много он знал, слишком ко многому был лично причастен. Разве не пошли вслед за жертвами десятки и сотни их палачей? А меньшевистское прошлое
96
Вышинского давало возможность придумать подходящую версию. Придумщики нашлись бы всегда.
Легко представить себе какой страх испытал Вышинский, когда на почетнейшем посту министра иностранных дел он вдруг лишился депутатского места в Верховном Совете. Что скрывалось за этой «шуткой» пятидесятого года? Сигнал? Намек? Чьи-то интриги и козни? Кто знает... Сталин любил попугать, рабы после этого с еще большим усердием лизали руку хозяина.
«Хозяин» уже доживал последние дни, когда по доносу грязного провокатора — профессора Серафима Покровского, с которым состоял в переписке Сталин (два «ответа С. Покровскому» опубликованы в собрании его сочинений) — был осужден на смерть один из самых талантливых и перспективных молодых ученых-юристов: он — ни больше ни меньше — задумал убить «вождя»... В отчаянии мать, профессор, тоже юрист, отправила телеграмму Вышинскому, который хорошо ее знал по совместной работе. Ответа не последовало. Впрочем, нет, ответ все-таки был: приговор привели в исполнение. Прошло совсем немного времени, и молодого ученого посмертно реабилитировали: он был одним из первых — в нескончаемом и печальном этом ряду.
После смерти «вождя» Вышинский прожил еще полтора года. Он вернул себе депутатский мандат, став заместителем министра иностранных дел (Молотова) и постоянным представителем СССР в ООН. Как человек умный и трезвый, он прекрасно понимал, что разоблачение не за горами. После XX съезда ему неизбежно пришлось бы давать отчет. Искренний или лживый, но все же отчет. Судьба решила иначе.
Недавно один читатель — старый коммунист, ветеран войны и труда — прислал мне письмо, предлагая потребовать, чтобы прах преступного златоуста был выброшен из Кремлевской стены. Думаю, этого делать не нужно. Не только потому, что прах — чей бы то ни было — вообще не стоит тревожить. И место в стене, и звания, и награды, и речи его, и деяния — все это мета эпохи, неизгладимый знак своего времени и в нем, в своем времени, так и должен остаться. Таким, каким был.
Но вот настоящее надо бы оградить от слишком уж долгого влияния этого монстра на правосознание, на реальную практику следствия и суда. Нельзя допустить, чтобы его когтистая лапа, крадучись тихой сапой, беззастенчиво вторгалась в наше сегодня. А тем более — в завтра.
97
«Советская Россия», 1988 5 июня
Леонид Постышев
«НЕЛЬЗЯ ПРАВДУ ПРЕДАВАТЬ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
В начале января печальной памяти 1937 года из Москвы с проверкой поступивших на Постышева клеветнических «материалов» о его пособничестве «врагам народа» приехал Л. Каганович. Я узнал об этом в то время по следующему эпизоду. К отцу на квартиру зашел заметно взволнованный Иона Эммануилович Якир.
— Павел, — сказал он, увидев Постышева, — тебе надо срочно принять меры. Каганович вызывает к себе людей и инструктирует их, как и что говорить, выступая против тебя...
— Ты эти штучки брось, — перебил его Павел Петрович. — Это представитель ЦК. У меня совесть чиста, и ни во что я вмешиваться не буду. Пусть проверяет, как хочет.
Тут они вошли в кабинет отца, и дальнейшего разговора я не слышал. Много позже, вспоминая этот эпизод, я подумал, что такое отношение к представителю ЦК у Павла Петровича сложилось по его прошлому опыту. С 1926 года он работал секретарем Харьковского окружкома КП(б)У. В период коллективизации на него поступали в ЦК ВКП(б) заявления о низких темпах коллективизации и недостаточно жестких мерах по отношению к кулакам. С проверкой от ЦК приехал Г. К. Орджоникидзе. Подводя итог проверки, он сказал: если бы и в других областях, как здесь, проводили коллективизацию, то не было бы перегибов и не пришлось бы писать статью о головокружении от успехов. Видимо, Павел Петрович надеялся на объективность проверки и от Кагановича. Но напрасно.
16 января состоялся пленум Киевского обкома партии, освободивший Постышева от обязанностей первого секретаря Киевского обкома КП(б)У «в связи с невозможностью сочетать посты второго секретаря ЦК и руководителя столичной парторганизации». 18 марта в газетах появилось сообщение о плену-
98
ме ЦК КП(б)У, который освободил Постышевд от обязанностей второго секретаря ЦК в связи с переходом на другую работу. Павла Петровича обвинили в потворстве «враждебным элементам». Его жену, Постоловскую Татьяну Семеновну, по клеветническим наветам исключили из партии и хотели арестовать, что в то лихое время бывало даже с женами и близкими родственниками некоторых членов Политбюро. Так, у Кагановича были арестованы братья, и он этому не воспрепятствовал. Но Павел Петрович аресту жены решительно воспротивился.
— Нет уж, пока я кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и секретарь ЦК, ее вы не арестуете. Я как-нибудь лучше вас знаю и ее, и старшего брата, Ивана Постоловского, и всю их семью. Вы уж сначала меня арестуете, а потом ее.
В этом он не ошибся.
Г. А. Марягин в книге «Постышев» писал: «Ноябрь 1936 г. Киевский горком разбирал дело некоей Николенко, она оклеветала многих партийных деятелей, доказывала, что в ЦК КП(б)У, Киевском горкоме и обкоме сидят укрыватели и пособники врагов, что многим троцкистам, зииовьевцам выдали при обмене партийные билеты по «знакомству». Киевский горком исключил ее из партии. ...Когда «освобождали» Постышева, Николенко изобразили «героиней», «разоблачительницей» врагов, «борцом». Киевскую парторганизацию обвинили в том, что она потеряла бдительность, покрывает «врагов партии».
Постышева направили в Куйбышев. 25 марта 1937 г. пленум Куйбышевского горкома ВКП(б) избрал П. П. Постышева исполняющим обязанности первого секретаря горкома партии, а в июне областная партийная конференция избрала его первым секретарем обкома ВКП(б). В то время он оставался кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).
Вскоре начались выборы в Верховный Совет СССР первого созыва по новой Конституции СССР, в разработке проекта которой активно участвовал и Павел Петрович. Постышева избрали депутатом от Куйбышевского городского избирательного округа. Перед первой сессией Верховного Совета он приехал в Москву. Предстоял Пленум ЦК ВКП(б). В это время произошла встреча отца со Сталиным. Шел общий разговор о предстоящем Пленуме ЦК и сессии Верховного Совета. Внезапно Сталин обратился к Постышеву: «Ну как, тебе еще не надоело в твоей ссылке?»
— Надоело или не надоело, — ответил Павел Петрович, — а работать надо там, куда тебя послала партия.
99
Сталин, как бы обращаясь ко всем присутствующим, рассуждал вслух:
— Дела у него в Куйбышеве идут неплохо. Урожай собрали хороший... Может, хватит тебе сидеть в ссылке?
— Да я за нее не держусь, — ответил Павел Петрович, — я не против.
— Тогда, может быть, пошел бы ты заместителем к Молотову по советскому контролю?
— Что ж, работа интересная, ответственная... Я бы не возражал, — ответил Постышев.
— Ну как, возражений нет? — обратился Сталин к присутствующим. В то время по предложениям Сталина возражений уже не возникало.
— Ну, раз возражений нет, переговори с Вячеславом Михайловичем, и если он не возражает, будем считать вопрос решенным.
Я в то время уже служил летчиком в истребительной авиабригаде, располагавшейся под Москвой. Не знаю, успел ли отец переговорить с В. М. Молотовым и получить его согласие, но когда я приехал к нему, то и по обстановке в доме, и по разговорам почувствовал, что дела его ухудшились, а не улучшились. Позже причины этого мне стали известны.
Вскоре после описанной выше встречи со Сталиным к Павлу Петровичу подошел нарком внутренних дел Ежов и пригласил его к себе на дачу для беседы. «Нам теперь вместе работать в Москве, надо поговорить». Хоть и не лежало сердце к этому разговору у Павла Петровича, да видел он, что разговора этого не избежать, и согласился. Когда машина подъехала к даче Ежова, Павел Петрович увидел, что из автомобиля, подъехавшего ранее, выходит Каганович.
— Поворачивай назад! — в сердцах сказал он шоферу. И бросил Ежову: — Раз Каганович там, я туда не пойду!
— Да брось ты, — ответил Ежов. — Что старое вспоминать! Нам же теперь все равно вместе работать. Надо же для этого как-то договориться о дальнейшей совместной работе...
В доме, кроме Кагановича, оказался и заместитель Ежова Берия. Разговор начал Каганович. Зная отношение к нему Павла Петровича, он обошелся без предисловий:
— Ну ты теперь понял, кого надо слушать и чьи распоряжения выполнять?
— Я всегда выполнял распоряжения ЦК, — ответил Павел Петрович. — И впредь буду их выполнять.
— Ты от ответа не уходи! Ты прекрасно понял, о чем тебя
100
спрашивают. И мы ждем прямого ответа — кого ты теперь будешь слушаться и чьи распоряжения выполнять?
Павел Петрович опять повторил свой первый ответ. Каганович стал повышать голос: «Ты из себя дурачка не строй! Ты что, совсем ничего не понял?»
Тут уж не выдержал и Павел Петрович.
— Если тебя уж интересует, что я понял, то скажу: я давно понял, что ты не большевик, а дерьмо! И уж кого я буду слушать, но только не тебя!
Сказав это в сердцах, Павел Петрович встал и направился к выходу. Его не задерживали.
Может быть, именно во время этого краткого разговора, думается мне теперь, когда Павел Петрович глаза в глаза смотрел в лицо каждому из этой троицы, ему стало окончательно ясна обстановка, в которой он в то время находился. Ему предлагали выбор. Либо он поставит крест на своем большевистском революционном прошлом и согласится с методами и делами этой троицы, станет их подручным. Либо отказ — и тогда его превратят во «врага народа». Отец, не задумываясь, сделал свой выбор.
Дальше все пошло по отработанному сценарию. После XX съезда КПСС об этом писали:
«Неожиданным было сообщение в начале 1938 года об избрании нового секретаря Куйбышевского крайкома партии. Что стало с Постышевым! Об этом знали немногие. В начале 1938 года его вывели из состава кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС и арестовали.
Мастера клеветы и беззакония не решились гласно обвинить Постышева, как других выдающихся деятелей партии и Советского государства в диверсиях, заговорах, шпионаже, отходе от ленинизма. Они хорошо знали, с каким уважением миллионы тружеников произносили имя этого человека.
Имя и судьба Постышева были окружены непроницаемой стеной молчания.
Но Постышев оставался любимцем партии и народа. По стране шла молва о последнем разговоре Постышева со Сталиным. В уста своего трибуна и парторга народ вкладывал то сокровенное и самое жгучее, что волновало всех в трагический тысяча девятьсот тридцать седьмой год: «За что арестовывают коммунистов, честных советских людей, не щадивших жизни в подполье, в дни Октября, на фронтах гражданской войны, отдававших свои силы и способности в дни великих строек пятилетки!»
101
И через годы оказалось, что этот вопрос не был домыслом. Постышев задал его Сталину, зная, что последует за этим...»
Я хорошо помню это тяжелейшее для Павла Петровича время. Все, что он мог, он уже сделал. Теперь ему оставалось только ждать своей участи. Он уже был снят с поста первого секретаря Куйбышевского обкома ВКП(б), исключен из кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Был вызван к секретарю ЦК Маленкову и отдал ему свой партийный билет № 13. С 1904 года был он большевиком-ленинцем. Иным себя и не мыслил.
Внешне пока еще все выглядело вполне благополучно. По-прежнему вместе с отцом была его охрана, так же в квартиру ему, жене и сестре жены приносили завтрак, обед и ужин. Утром доставляли пачку газет, и Павел Петрович внимательно их просматривал... Только вот посетителей совсем не стало. Лишь я приезжал с аэродрома после полетов. Да изредка заходил Николай Остряков (героический участник боев в Испании.— Л. П.) в новенькой форме военного летчика с боевыми орденами.
В этот год Острякова избрали депутатом Верховного Совета СССР, и он недолго жил в Москве. Когда Николай первый раз пришел к отцу после приезда из Испании, Павел Петрович очень обрадовался встрече, но сразу предупредил:
— Николай! Как я рад видеть тебя целым и невредимым! Но ко мне сейчас тебе лучше не приходить, это может для тебя кончиться плохим...
— Павел Петрович! Я все знаю и понимаю, — ответил Остряков, — но в Испанию меня рекомендовали вы. И все, что я мог, я там сделал. Пусть и судят меня по моим делам. А к вам я как ходил, так и буду ходить.
Николай остался и весь вечер рассказывал о войне в Испании, отвечал на наши многочисленные вопросы. Когда он ушел, отец сказал:
— На таких людях держалась и держится наша Россия... И вся моя надежда на будущее страны и социализма крепка такими людьми, такими большевиками, как Николай... Учись у него не только отлично летать, но и брать всю тяжесть беды и ответственности на свои плечи, да чтобы плечи все это выдерживали. А для этого надо в это самому верить и себя не жалеть. Настоящим большевикам жалеть себя нельзя, иначе наше дело загубим.
Родители сначала не делились со мной всем тем, что обруши-
102
лось на их плечи, всей трагичностью своего положения. Но я уже начинал понимать это по общей атмосфере в доме, по отдельным обрывкам их разговоров между собой. Неоднократно слышал я настойчивые просьбы матери к отцу, чтобы он позвонил Сталину, поговорил с ним.
— Ну что тебе стоит, — говорила она, — позвони ему, сделай последнюю попытку. Поговори откровенно, может, он что-нибудь и поймет...
— Не буду я ему звонить, — отвечал отец, — и не проси. Как ты не понимаешь, что все, что они со мной сейчас делают,— с его ведома... Они хотят, чтобы я сам покончил с собой, застрелился. Тогда и ничего не надо партии объяснять: умер — и все тут, не выдержало сердце... Но я им в этом не помощник!.. Пусть это останется на их совести...
Впрочем, в это тяжелейшее для моих родителей время бывали у них и светлые часы. В кинотеатре «Ударник», расположенном в том же Доме правительства, шла премьера кинокартины «Волочаевские дни», поставленной прославленными кинорежиссерами братьями Васильевыми. И судьба моим родителям все-таки дала напоследок заглянуть в их незабываемую, героическую революционную молодость. Это помогло им воочию ощутить, что они свое главное дело на этой грешной земле сделали, и сделали неплохо. И уже никто и никогда не сможет этого у них ни отнять, ни изменить. Как говорится, из песни слово не выкинешь... В истории, в памяти народа, в его искусстве на века останутся, как в сказке, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни... И этому подарку судьбы помогла в свое время присущая Павлу Петровичу скромность. А произошло это так.
Кинорежиссерам Васильевым, авторам фильма «Чапаев», сюжет для следующей киноленты подсказала Мария Ильинична Ульянова. Она рассказала о дальневосточной интервенции и Павле Петровиче Постышеве. Теперь мало кто знает, что прототипами героев фильма «Волочаевские дни» — Андрея и Маши были Павел Постышев и Татьяна Постоловская.
Конечно, премьеру кинофильма я не пропустил. И вот мы все вместе сидим в кинотеатре «Ударник» и смотрим фильм «Волочаевские дни». О чем думали, что чувствовали в этот миг мои родители?! По злому навету их окрестили «врагами народа», а в то же время на экранах страны миллионы советских людей смотрели, какими они были на самом деле, как они вместе с народом боролись за установление Советской власти в нашей стране. Целый ряд эпизодов из жизни
103
моих родителей отражен в кинокартине почти с документальной достоверностью. Так, драматический эпизод, происходящий при вероломном выступлении японцев в Хабаровске 5 апреля 1920 года, когда группа японцев и белогвардейцев оцепила дом, бывший кадетский корпус, где тогда находился наш штаб и в одной из комнат третьего этажа жили мои родители, целиком вошел в фильм. Когда на экране японские солдаты и белогвардейцы стали ломать дверь в комнату, где находились герои кинокартины, и Андрей уже выбирал момент, чтобы незаметно для Маши произвести роковой выстрел, ибо оба знали о зверствах японцев и договорились живыми в их руки не попадать, я невольно бросил взгляд на родителей. Они сидели друг возле друга молча, не проронив ни слова, заметно взволнованные, и напряженно смотрели на экран. Казалось даже, что они смотрят сквозь этот экран куда-то туда, дальше, в те далекие и незабываемые годы... Или они думали, что теперь опять смерть подошла к двери их квартиры и уже стучится в нее и опять надо готовиться встретить ее, как подобает коммунистам?
Фильм закончился, и мы молча шли домой. Уже у самого подъезда я нарушил тишину и спросил: «Ну как вам понравился фильм?» Отец остановился, постоял и после долгой паузы сказал: если о нас, партизанах-дальневосточниках, народ слагает песни, снимает кинофильмы, значит дело свое мы сделали неплохо, жизни свои прожили не напрасно.
Казалось, в те дни от всего увиденного и услышанного, от всего передуманного я был уже подготовлен к пониманию трагической судьбы моих родителей... Но вот подошло незабываемое 21 февраля 1938 года... Как всегда, после полетов я приехал к родителям. Они меня уже ждали. Я сразу почувствовал необычность, какую-то суровую значительность, почти торжественность этой встречи... Разговор вел отец:
— Нам надо с тобой серьезно поговорить. Видишь ли, эта наша встреча — скорее всего последняя. Больше мы никогда не увидимся... Нас с матерью арестуют, а оттуда для нас возврата не будет...
— Этого не может быть, — прервал я отца. — Вас не арестуют, они разберутся...
— Не перебивай меня, — горько улыбнувшись, сказал отец, — у нас мало времени, а сказать надо о многом!
Как он был прав! Но я в то время просто не мог себе представить, что это действительно наша последняя встреча...
— После нашего ареста тебе будет нелегко, — продолжал
104
отец. — Какое-то время на тебе будет пятно сына «врагов народа»... Может быть, и тебя тоже арестуют. В такое время все может быть... Но ты должен твердо запомнить одно — партию и народ долго обманывать нельзя! Пройдет год, ну два, три, ну пять, ну пусть десять лет, и правда выйдет наружу! Партия и народ поймут и не осудят меня! И если тебе удастся дожить до тех дней, передай моим товарищам по партии, что я до последних своих дней, до последнего своего смертного часа оставался большевиком-ленинцем и всегда знал и верил в нашу окончательную победу! В мире нет таких сил, которые могли бы повернуть нашу революцию вспять. Нас самих — большевиков-ленинцев уничтожить можно, но дело наше уничтожить нельзя!
Вам, молодым, многое сейчас дано. Вам доступно образование, наука, у вас есть время читать книги, ходить в кино, в театры. Но настоящей жизни вы не знаете. Вы и представления не имеете, как жили в России рабочие при царе, почему они шли на смертный бой, чтобы покончить навсегда с царизмом. Но не думай, что стоило трудящимся взять власть в свои руки, как все по мановению волшебной палочки сразу изменилось. Далеко не так. Остался и тяжелый, изнурительный труд, и голод, и разруха. И интервенция, и блокада капиталистов, которые все делают и сделают, чтобы не дать нам встать на ноги. И неумение построить новое общество таким, каким оно может и должно быть. Ах, как нам всем не повезло, что от нас так рано ушел Ленин! Если бы он продолжал руководить партией еще хотя бы лет пять! Все было бы совсем по-другому... Не поняли мы подстерегавшей нас опасности так, как он, не смогли без него так далеко смотреть вперед... Да что теперь об этом говорить — поздно спохватились, раньше надо было об этом думать. Ну, да то, что мы сделать не успели, теперь вам, молодым, надо брать на свои плечи, идти дальше. А чтобы не делать ошибок и держаться верной дороги — надо знать жизнь рабочих и крестьян, их трудности и неустроенность новой жизни, их заботы и несправедливость к ним, которой в жизни еще немало. Без этого знания нового, справедливого для трудящихся общества не построишь.
Вот и иди смело в эту жизнь, изучай ее на своем опыте — это лучшие для тебя университеты. Теперь у тебя для этого будут все условия. И не бойся, что ты этого не сможешь. Твой отец, твой дед и твой прадед были простыми рабочими и жили в таких условиях, что хуже и не придумаешь. И ничего, выжили. Выживешь, осилишь и ты. Может быть, придется и в
105
тюрьме посидеть. Учти, политическому деятелю тюрьма не новинка. И я сидел в тюрьме, звенел кандалами на каторге. Коммунисту надо знать, за что у нас сажают в тюрьму, как ведут следствие, как судят, кто сидит в наших тюрьмах и за что.
А теперь — об очень важном. На нас надвигается большая война. Фашисты, конечно же, не упустят благоприятного для них момента и нападут на нас. Уж очень это для них соблазнительно. Эх, как хотелось бы самому принять участие в будущих сражениях... Есть и силы еще, и опыт, и необходимый авторитет... Дали бы хоть дивизию... Да нет, не дадут. Поэтому слушай меня внимательно и хорошо запомни: вот перед тобой твой отец и твоя мать. Конечно, нам бы хотелось, чтобы ты жил и чтобы все кончилось хорошо. Но когда начнется война — а ждать ее осталось недолго, тут уж жизни своей жалеть не придется. Война будет очень трудной и очень жестокой. Разговоры о малой крови — это пустая болтовня. Мы сможем выстоять и победить только при одном условии — если каждый наш боец будет сражаться до конца, не щадя ни своей крови, ни самой жизни. Да в самых тяжелых, даже в безвыходных для тебя положениях, все равно надо сражаться до конца.
А теперь обо мне. Мои «доброжелатели» считают, что я сделал ошибку, что мне для того, чтобы сохранить себя как партийного руководителя, надо было не противиться аресту твоей матери, да и некоторым другим арестам. Но человек, который ради своего спасения отдает на гибель другого, ни в чем не повинного человека, честного и стойкого большевика, не может остаться не только партийным руководителем — он не может оставаться в рядах партии, как не может оставаться честным, достойным человеком. А в партии нет места для бесчестных людей! Это же так ясно и так естественно! Все за одного и один за всех. Ведь тот же Фрунзе, осужденный на смертную казнь, продолжал с нами, его однодельцами, простыми ивановскими рабочими-ткачами, проводить занятия по политграмоте в тюремной камере, хотя каждая ночь могла быть для него последней. А Ленин, когда шел выступать на рабочие митинги на заводах, разве не знал, что пуля для него уже отлита? Ведь он был незаменимый гений революции, и уж его-то можно было поберечь «как партийного руководителя»! А все мы, революционеры-профессионалы, разве не знали, на что мы шли в революцию? Ведь и там иногда можно было спасти свою жизнь «руководителя» ценою предательст-
106
ва товарищей. Нет, такие поступки вычеркивают человека и из партии, и из числа просто честных, порядочных людей!
Я много думал над этим, особенно в последнее время. Конечно, были ошибки и у меня, да и у всех нас, большевиков. Непростое, трудное дело легло на наши плечи — строительство нового социалистического общества. Ведь все приходилось делать впервые, а теория давала лишь общее направление и принципы, которые надо было выдерживать и которые мы на практике не всегда умели воплощать в жизнь. Но практика, живая жизнь, как говорил Ильич, — опыт миллионов, — показывали нам, где мы добивались успехов и где дела у нас шли плохо. И я всегда учился у жизни, в самой гуще рабочих и крестьян проверял правильность своих действий и находил верные решения возникавших проблем и конфликтов... Нет, с ленинской генеральной линии партии я никогда не сходил, и в этом мне себя упрекнуть не в чем. И если бы мне пришлось всю свою жизнь начать сначала, я бы в этом ничего не изменил, хотя понимаю, что в сложившихся тяжелых для партии условиях именно это и привело меня к сегодняшней моей участи. Теперь, видишь ли, требуются иные руководители... Ну нет, от ленинских принципов руководства, от сути марксизма-ленинизма я не отступал и не отступлю...
Моя мать, молча стоявшая все это время рядом с отцом, воспользовалась этой паузой, подошла ко мне поближе и тихонько сказала: «Если тебя будут заставлять отказаться от нас, то черт с ними, откажись, мы за это в обиде на тебя не будем...»
Только тут глянул я в ее полные слез глаза — всплеснулось сердце...
— Да как ты можешь такое говорить... — только и смог я выговорить.
Отец подошел к окну и уже тихо, задумчиво произнес:
— Я сейчас часто вспоминаю свой арест и революцию 1905 года, следствие, суд, каторгу и вечную ссылку в Сибирь. Какое это было трудное для меня и моих товарищей время! Но ведь мы были смертельными врагами царизма и не скрывали этого. А сейчас — кому я враг?..
Можете себе представить, с каким тяжелым сердцем уехал я в тот день к себе в часть. На следующий день я заступил в суточный наряд — караульным начальником по гарнизону. И только 23 февраля, освободившись от наряда, выехал к родителям.
Все самое худшее уже совершилось. Комнаты, кроме од-
107
ной, где находится тетка, — опечатаны, охраны нет, да и охранять некого — пусто. И в квартире, и на душе... Тетка подробно рассказала, как все произошло. Отец и мать сидели в столовой за столом и ждали — может, приеду я. В первом часу ночи раздался долгий, резкий звонок. Охраны отца уже не было, в дверь быстро вошли мужчины, спросили, где Постышев. Она провела их в столовую. Арест производил Фриновский, заместитель Ежова...
Отец встал и сказал: «Я готов». И пошел, как был, в тапочках вместо ботинок...
Мой отец, моя мать и мой старший брат — Валентин Павлович Постышев, 1916 года рождения, были расстреляны. Я был осужден Особым совещанием на 10 лет и свое наказание отбыл. Мой младший брат — Владимир Павлович Постышев был осужден Особым совещанием на 5 лет. Наказание отбыл и уехал из мест заключения. Но вскоре был опять арестован и сослан на 10 лет в Сибирь. Оттуда прислал мне в заключение письмо: освободишься — с севера не уезжай. Оставайся работать там же по вольному найму. Иначе опять попадешь на север. Я так и сделал и до смерти Сталина продолжал работать на севере, там же, где отбывал свой срок.
Но вот умер Сталин. И пришел XX съезд партии. К тому времени я уже получил извещение о реабилитации отца и был в Москве.
Все эти годы я искал хоть какие-нибудь сведения о последних днях жизни родителей. Случай помог познакомиться с племянником Урицкого, он сидел несколько дней в одной камере с отцом. Рассказал, что следствие у Павла Петровича было тяжелым. Каждую ночь водили его на допрос. Приводили оттуда измученным, стиснувшим зубы. Я пытался его как-то утешить, говорил Урицкий:
— «Павел Петрович! Вы не сомневайтесь — они разберутся... Не могут не разобраться! Ведь вы ни в каких оппозициях никогда не состояли, у вас все ясно как на ладони! Разберутся и выпустят.
— Ошибаетесь, дорогой... Они хотят, чтобы я им такое подписал, которого никогда не было и которого придумать-то фантазии не хватит! Подписать я им такое не подпишу, а они будут этого добиваться всеми методами... Так что о том, чтобы разобрались, не может быть и речи.
С каждым днем нажим при допросах усиливался, и настроение Павла Петровича не улучшалось. Но однажды, смотрю:
108
Павел Петрович вскочил с койки, подошел к окну и стал в него внимательно вглядываться. Я тоже встал и подошел к окну.
— Что там! — с удивлением спросил я.
— Тише, — сказал Павел Петрович, — слышите! Самолет летит...
Я прислушался. Действительно, в камеру еле долетел звук летящего самолета. Что же из этого!
— Мой сын летчик, — сказал Постышев, — здесь, под Москвой, служит. Вот я услышал самолет и подумал — может, это сын мой в нем петит... А потом подумал: а может, он здесь, за стенкой где-нибудь сидит!»
...Меня перевели с Лубянки в Лефортовскую тюрьму в начале августа 1942-го. Следователь, допрашивавший меня, обратился к вошедшему начальнику: «Его отца ты знаешь очень хорошо! Это сын Постышева!»
— А, так вот это кто! — начальник следственной части подошел ближе, разглядывая меня: В какой камере ты сидишь?
Я назвал номер моей камеры.
— Смотри ты! Совсем немного не угадал! А твой отец сидел у нас в камере номер, — он назвал этот номер... И — к следователю: — Да что ты возишься с этим молчуном! (И тут он грязно выругался). Кончать надо! Кончать!
— Слушаюсь, будем кончать... — И следователь раздраженно бросил мне: — Не хочешь по-хорошему, можно и по-другому — тебе же хуже будет!
Он был прав — дальше следствие шло все хуже и хуже для меня. Но у меня не было выбора — наговаривать на себя я не имел права. Я помнил слова отца, что рано или поздно, а правда все равно выйдет наружу. Так эту правду надо было сохранить, предавать ее было никак нельзя ни при каких обстоятельствах. А жалеть себя — как в революцию, как тогда, так и сегодня, когда революция продолжается, — коммунистам никак нельзя — иначе действительно можно загубить все наше правое дело.
109
«Сельская жизнь», 23 июня 1988
Владимир Синицын
Шемахинская трагедия, или Похоронка, пришедшая не с войны...
Похоронка. На отца... Мужа... Сына... Пожелтевшая от времени, стертая на сгибах, с выцветшими чернилами, она и через четыре с лишним десятка лет обжигает болью: «Ваш муж (сын, отец) пал смертью храбрых...» Трагическая строчка Великой Отечественной...
Другая, на белом пока листке, прошитая бойкой пишущей машинкой, — дни наши. Афганистан.
А недавно в небольшом селении Текле, что под Шемахой, я прочитал третью — к извещению о гибели Валеха Джебраилова, «павшего в боях за свободу и независимость нашей Родины», был подшит листочек на отца: «Приговор военной коллегии от 3 января 1938 года в отношении Джебраилова Закарен Нагдали оглы по вновь открывшимся обстоятельствам отменен. Дело за отсутствием состава преступления прекращено, и он посмертно реабилитирован. 23 июля 1956 года. Председатель судебного состава Военной коллегии Верховного Суда СССР полковник юстиции Лихачев».
Сорок два крестьянина из Текле не вернулись с войны. Три воина-интернационалиста — из Афганистана. И шесть десятков — из тюрем и лагерей времен сталинских репрессий. На каждого — своя похоронка. На всех — наша вечная память и боль.
* * *
В жаркий июньский полдень 1937-го председатель колхоза им. Молотова, в недалеком прошлом бакинский нефтяник, создатель первой в районе сельхозартели Закарен Джебраилов получил предписание. Подписанное почему-то начальником райотдела НКВД Гамзатом Шабанбековым, оно указыва-
110
ло: к 20.00 выдвинуть, утвердить на колхозном собрании «70 передовых колхозников для участия в республиканском слете стахановцев-новаторов полей и ферм».
Впрочем, «почему-то» — вопрос из дня нынешнего. Тогда, в 37-м, он казался закономерным: органы внутренних дел решали многое. На всю страну грохотали процессы над организаторами «террористических актов», над уклонистами, шовинистами, националистами-пантюркистами. Над вредителями, шпионами, диверсантами...
Враги народа были всюду. Мы, мальчишки тридцатых годов, и то легко находили следы их грязных лап. В рисунке по знаменитому пушкинскому «У лукоморья дуб зеленый» явно просматривался фашистский знак. На чернильнице-непроливайке, если глядеть на нее под углом, можно было прочитать: «Долой СССР»...
Ночами из нашего дома увозили людей, и мать, как в лихорадке, бросала на патефон первую попавшуюся под руку пластинку, чтобы мы с братом не слышали надсадного крика: «Я ни в чем не виноват, товарищи!»
И все же поверить, что начальник Бакинской милиции Янош Цинцар — враг, мы не могли. Мы знали, что в 1917-м он был организатором восстания венгерских пленных на острове Наргене, дрался с турками в дни Бакинской коммуны, был дружен с Сергеем Мироновичем Кировым. Носил на старенькой гимнастерке орден Красного Знамени, а под ней, возле сердца, две пули. Человек-легенда, он катал нас, мальчишек, на велосипеде. И чтобы — враг?
Ошибка, исправят, скоро вернется, говорили старшие. Мы верили. Очень верили. А когда застрелилась его жена Зарифа Мамедовна, член партии с 1920 года, когда увезли в спецдетдом его сыновей, наших школьных товарищей, даже мы поняли, каким он был ловким шпионом.
Это сейчас я понимаю, что обрубались нити, связывающие нас с теми, кто делал революцию, дышал, жил ею. А тогда, в 37-м, уводили «врагов».
Все более крутыми и злыми волнами перекатывались тревожные слухи: разоблачен еще один заговор против Сталина, Ворошилова, Буденного, заговор против Багирова. В Каспийском пароходстве, в Бакинском комитете комсомола, в «Азнефти». Подлые убийцы целились в самое сердце народа — в первого секретаря ЦК АКП(б) Мир Джафара Багирова.
Так что предписание Шемахинского НКВД председатель
111
колхоза воспринял так, как положено. И хотя в тот трудный год впервые уродился хлеб, в пять часов дня, бросив конные косилки да серпы, колхозники собрались возле здания правления, одного из двух каменных строений, доставшихся от моллы-диверсанта и бывшего царского старосты. Больше домов в селении не было. Крестьяне, пережив коллективизацию, так и не поняв, почему пяток несушек и две овцы на семью создают «предпосылки для реставрации капитализма», безропотно сдали живность и, свободные от нее, по-прежнему ютились в палатках-алачыгах, вязанных из задымленной шерсти. Как их деды и прадеды-кочевники.
Но, конечно, они ушли намного вперед своих предков, а потому сначала обсудили на собрании, одобрили и приняли социалистические обязательства в честь статьи Молотова «Наши задачи в борьбе с троцкистами и иными вредителями, диверсантами и шпионами» (три полные газетные страницы содержали инструктаж, где искать и как карать врагов народа), а потом и второй вопрос — о гражданской войне в Испании. Удивительное дело, пастухи, не видавшие Баку, никогда не покидавшие горных пастбищ, знали о легендарном республиканском генерале Листере, наверное, больше, чем он о себе, говорили о боях под Эбро, с надеждой следили за наступлением «наших» под Гвадалахарой, за обороной Мадрида. Говорили об испанских детях, которых каждый готов был взять в свою семью. И хотя гасли, как угольки, собственные дети, испанские были их, крестьян, болью.
Ну, а главный вопрос прошел между прочим. Председатель включил в список участников слета почти всех мужчин, кому тридцать и поболее. На том и разошлись. А ближе к ночи крики отчаяния рванулись к горам. Точно по списку из семидесяти задымленных палаток выводили тех, кому за тридцать. И только одного, Сафара Сафарова, чабана, ушедшего с отарой в горы, не застали дома. «Не беда, — равнодушно бросил Шабанбеков, — будем брать похожего». И взяли, тоже чабана, Сафарали Сафаралиева. В ту же ночь все 70 были доставлены в Баку, во внутреннюю тюрьму НКВД.
Это был сигнал. Каждый день из Маразов, Чухур-юрда, Сагиян, Хильмили, других селений Шемахинского и других районов спешили в Баку полуторки, крытые брезентом. Людей брали в поле, на токах, у арыков, на пастбищах, поднимали с кислой овчины... Быстро, широко, с размахом фабриковалось в Азербайджане громкое, страшное, грязное шемахинское дело.
112
* * *
Собственно, дела такого рода сколачивались и разрубались топорами на Смоленщине, в Зауралье, на Вологодчине, Полтавщине, в Кахетии, Фергане, на Алтае... Если на карте страны пометить красным карандашом города и села, которые придавила, как катком, ежовщина и бериевщина, то и сейчас вспыхнет она костром людских страданий «от Москвы до самых до окраин». Знаю, это хорошие слова из дорогой всем нам песни. И все же после миллионов жертв коллективизации, когда, как сказано сегодня, крестьян ломали через колено, вторым эшелоном к тем самым окраинам брели колонны «врагов народа» — рабочих, крестьян, старых специалистов и их молодой смены. Безвестных, безымянных... Людей с именем, революционеров-ленинцев, героев гражданской войны, оболганных, обесчещенных ставили к стенке.
Каждая область, край, республика подносила Сталину собственные, с национальной окраской процессы. Он это ценил, бывший нарком национальностей, так извративший национальную политику, что ссылка отверженных народов становилась ее постыдно печальной практикой. И если сегодня мы хотим по-настоящему, глубоко разобраться в причинах нагорно-карабахского взрыва и сумгаитской трагедии, то динамит надо искать в идейном наследии наркомнаца.
А бикфордов шнур от взрывчатки уходит в 37-й, к Мир Джафару Багирову, особенно рьяно служившему «отцу народов». Умный, жестокий, искушенный политический интриган, он, пожалуй, один из немногих, кого опасался сам Берия. Бывший платный агент муссаватской разведки, работая в начале двадцатых годов начальником СОЧ (секретно-оперативной части Азчека), Берия только рвался к должности первого палача, Багиров же успел оклеветать Орджоникидзе, Косарева, Рудзутака, Варейкиса, Серебровского, всех, кого знал и любил Ленин...
Но искал другого, большего, что, во-первых, должно было его самого обезопасить от тюремной камеры, во-вторых, укрепить балдахин своего самодержавия в Азербайджане. Это знали, с этим боролись азербайджанские большевики. Легендарный Гамид Султанов, тот самый, кто в ночь на 28 апреля 1920 года по поручению ЦК Компартии Азербайджана под свист и улюлюканье зала невозмутимо поднялся на трибуну муссаватского парламента и предъявил ультиматум: немедленно сдать власть Советам. Султан Меджид Эфендиев,
113
опытный пропагандист, обладавший энциклопедическими знаниями марксизма и необыкновенным организаторским талантом. Дадаш Буниатзаде, удивительный по нынешним меркам чудак. Будучи наркомом, он написал заявление в Совнарком республики с просьбой выделить гимнастерку и кавалерийское галифе. Потом каким-то образом заявление попало к его автору, и он наложил резолюцию: «Как не стыдно, Дадаш! Такое время. Штаны можно, рубаху — нет...»
Смешно? Не очень. Если вспомнить, что «под крышей» комбината общественного питания (КОПа) три года по указанию Г. Алиева и под его контролем возводился в Баку дворец «лично для товарища Брежнева», где тот ночевал две ночи.
Солдатские брюки — и сотни тысяч рублей «за отеческую заботу» и золотую звезду. Больно, стыдно... Но это так, к слову, чтобы понять, что время застоя сложилось вовсе не из-за того, что все голосовали «за», разумеется, «стоя». А потому, что были выбиты из жизни большевики.
Нужно было обладать действительным мужеством, чтобы подняться в июне 1937 года на XIII съезде Компартии Азербайджана и сказать правду о Багирове. В лицо!
Знали ли они, чем обернется для них эта правда? Да, знали. Уже был убит Киров, с которым работали они рука об руку. Расстрелян Зиновьев, бывший вместе с Нариманом Наримановым, — сопредседателем Первого съезда народов Востока в Баку. В феврале покончил жизнь самоубийством Серго Орджоникидзе... Большевики знали, на что идут.
Сразу же после съезда было объявлено о том, что «раскрыта антисоветская, контрреволюционная, повстанческая шпионско-террористическая, диверсионно-вредительская, буржуазно-националистическая организация Шемахинского района во главе с Гамидом Султановым».
Я хотел бы обратить внимание читателя на два нестандартных определения, сфабрикованных Багировым. Первое: повстанческая. Значит, не группка, а массы. Ну, а на селе — читай «крестьяне». Второе: буржуазно-националистическая. Спустя месяц, одобренная Сталиным, находка Багирова будет тиражироваться в Узбекистане, Грузии, Армении, на Украине, в Таджикистане... И все же авторство принадлежит палачу Багирову.
Вовсе не для взвинчивания страстей написал я это слово — палач. Каким садистским истязаниям по его указанию должен был быть и был подвергнут Гамид Султанов, чтобы подписать самооговор: «Мы стали на путь грязной измены нашей Родине,
114
на путь закабаления счастливого и свободного азербайджанского народа...»
Через неделю по постановлению «тройки» Г. Султанов, С. М. Эфендиев, Д. Буниатзаде, а также их товарищи были казнены.
А ранее, до начала процесса, были уведены за порог жизни 60 из семидесяти крестьян селения Текле, никогда не слышавшие, что такое повстанцы. Да их и не спрашивали. Ни Закарена Джебраилова, ни Ибада Атали оглы, ни братьев Ахмеда и Мамеда Ханкиши оглы, ни одного из стахановцев, призванных НКВД на несостоявшийся слет. И что они могли ответить, если в ведомости о трудоднях оставляли отпечатки большого пальца? Скудные протоколы допросов содержат нелепейшие признания... А вместо приговора — жесткое, как зубовный скрежет: ВМ. Что значит — высшая мера. И все...
В середине 70-х годов старейший бакинский журналист Александр Алексеевич Боркин, коммунист ленинского призыва, бережно хранивший собственную «похоронку», рассказывал, как в начале 1938 года вместе с партией крестьян повезли его расстреливать на остров Буллу. «Выводили десятками. Один, другой, двенадцатый... Потом тишина, Наверное, слишком уж большая, незапланированная, — так он и сказал, — была партия заключенных, если у карателей просто не хватило патронов на всех, кто проходил тогда по Шемахинскому делу».
Отправили морем в Красноводск. Там снова неожиданный сбой в обкатанной машине террора. «Словом, Колыма. Семнадцать лет... Я ведь с сельской кузницы начинал. Пригодилось ремесло».
Спустя два десятилетия он снова побывал на острове гибели. «Черепа. Простреленные черепа моих товарищей...» Там-то и полегли шемахинские крестьяне, бесконечно далекие от политических страстей, но ставшие их жертвами. Полегли за несколько месяцев до того, как неправый приговор был утвержден «тройкой».
В тот год колхоз остался без хлеба.
По одним подсчетам по этапам ушло в лагеря около 70 тысяч, по другим — за сто. По одним выкладкам винтовочные залпы унесли свыше трех тысяч крестьянских жизней. По другим — за пять тысяч. Багирову нужна была «антисоветская, буржуазно-националистическая организация». Ее выдумали, а выдумав, прошлись по ней огненным смерчем. Только в одном из отчетов, отправленных Багировым в 1937 году в Москву,
115
докладывали, что в Азербайджане арестованы 32 секретаря райкомов партии, 28 председателей райисполкомов, 18 наркомов и их заместителей, 88 командиров и политработников Красной Армии.
* * *
Свидетель обвинения, седобородый, крепко сбитый старик, бойко говорил по-русски, пересыпал речь характерными сибирскими «однако», «надо же». Спасибо величайшему теоретику языкознания: 17-летняя языковая практика азербайджанца-пастуха за ржавой лагерной проволокой пригодилась в 1956 году. В процессе над Багировым и его приспешниками, бывшими руководителями республиканского НКВД — Атакишиевым, Борщевым, Григоряном, Емельяновым, Маркаряном. Тогда, после XX съезда партии, осудившего культ Сталина, после писем ЦК КПСС к коммунистам страны, раскрывших далеко не все, как сейчас известно, преступления тирана вот уж действительно «всех времен и народов», Военной коллегии Верховного Суда СССР давал показания шемахинский крестьянин Габиб Джебраил оглы. Из села Текле, ставшего Ленинабадом.
Он выучился не только русскому языку. В одном из лагерей встретил Зинаиду Гавриловну Орджоникидзе, вдову Серго. Прямого обвинения в участии в Шемахинском деле ей не предъявляли. Однако столько знала она о бакинском периоде деятельности Сталина, об интригах и провокациях Берии, что не мог Багиров не завести и на нее досье. Чтобы было что доложить Кремлю. Она-то в 39-м и дала Габибу первый урок политграмоты — об обострении классовой «борьбы» в период социалистических побед. Так что уже сам вывел Габиб: на пороге самого светлого будущего просто должна была вспыхнуть братоубийственная война.
Через пятнадцать лет они встретились в Баку, свидетели обвинения. Помню, слышу горький стон зала, когда Зинаида Гавриловна сняла кофточку и показала суду исполосованную горячим железом спину... После нее давал показания Габиб:
— Мы сами все гадали: почему нас, однако, не расстреляли, товарищ прокурор? Стыдно перед мертвыми. Пытали поровну. По горло стояли в моче по двенадцать часов. Надо же, камера была сделана под гроб — высота метр двадцать, ни распрямиться, ни лечь, стой день-деньской полусогнутый. Ноги — как столбы. Двое скончались в том гробу... Пыток поровну. Расстреляли, однако, шестьдесят. Почему? А вы вро-
116
де не знаете? В тюрьме негде было яблоку упасть. Вот и спешили они, — взгляд в сторону скамьи подсудимых, — освободить нары. Однако уводили на расстрел десятками. Шесть наших увели, седьмая угодила с острова Буллы в Туруханский край. Где проходил ссылку сам товарищ Сталин!
Тогда, «в период оттепели», Бакинский горком партии рассылал пропуска на судебные заседания на заводы, в колхозы, в первичные парторганизации. Несколько раз довелось послушать свидетелей и мне, молодому корреспонденту комсомольской газеты. Многое ушло, стерлось в памяти. А это — «в Туруханском крае» — врезалось намертво. Почему? Да потому, что судили-то не Сталина, а Багирова, которого, сколько помню себя, называли хозяином. А в Сталина мы продолжали верить истово.
Тогда мы думали: виноват, конечно, Иосиф Виссарионович, слишком уж доверял мерзавцам Ягоде, Ежову, Берии, Багирову... За то и вынесен из Мавзолея.
Мы так думали, это понятно. Но он?! На которого, вернувшегося с того света, пришла в семью «похоронка»? «Ваш муж Габиб Джебраил оглы посмертно реабилитирован». А он, вот он, — жив. И с нескрываемой гордостью рассказывает об избе, где проходил ссылку вождь, об избе под стеклянным саркофагом?! А я, если честно, завидовал бывшему зеку. Тот дважды видел! За семнадцать лет... Нет, обманывали товарища Сталина.
Сейчас приходит прозрение. Не Сталина — нас обманывал Сталин. Крестьянина, осужденного по 58-й статье «врага-вредителя, буржуазного националиста». Его сына фронтовика, упавшего в снег под Москвой, ЧСИРа — члена семьи изменника Родины. Сын имел в войну единственное право: лечь костьми в штрафной роте на минном поле. За изменника отца. За мать, младших сестер и братьев, кому жить. Их тоже обманывал.
Да, это правда, что на всех фронтах солдаты поднимались в атаку с яростным: «За Родину! За Сталина!». Но это не вся правда о войне. И если хлеб — хоть ломоть, хоть корка — все равно хлеб, то «не вся правда» — это всегда ложь.
Сегодня мы знаем: Сталин не только знал, он планировал репрессии, дирижировал террором, тридцать лет вел истребительную войну против своего народа. И в этом безбрежном море крови всех невинных есть кровь и участников шемахинской трагедии.
...Недавно в Ленинабаде, давно сдавшем имя Молотова
117
в архив, в совхозе «Советская Украина», хозяйстве сильном и авторитетном, я повстречал правнука Закарена Джебраилова. Совхозный шофер, он годы держал за лобовым стеклом своего грузовика фотографию гения с прищуренным взглядом стрелка и тяжелыми усами тюремного надзирателя. Немало таких, а то и семейных портретов, то с сыном-алкоголиком, то дочерью-перебежчицей, колесит по сельским дорогам Закавказья. И только ли в наших краях-весях!
А в бывшем Текле их не стало. Последнюю сорвал со стекла правнук расстрелянного председателя. Хотел, говорит, порвать, но подумал да и положил рядом с такими разными семейными похоронками. На пахаря, на слегшего под Москвой штрафника, не давших угаснуть крестьянскому роду. Этого он не говорил. Он сказал совсем другое.
— Тоже похоронка, — парень угрюмо отодвинул в сторону фотокарточку. — Буду знать, кому обязан этими — на прадеда, деда. И мои внуки будут знать...
А я вспомнил услышанное недавно: Сталин умер вчера...
118
«Собеседник», 1987 № 23
Марина Ширшова
«Пусть никогда в жизни тебе не придется испытать этого»
Петр Петрович Ширшов родился 25 декабря 1905 года в городе Днепропетровске. Гидробиолог. Начиная с 1930 года работал в Арктике: участвовал в экспедициях на «Сибирякове», «Челюскине», «Красине». После гибели «Челюскина» работал в ледовом лагере О. Ю. Шмидта. В 1937 году дрейфовал в составе папанинской четверки на станции «Северный полюс-1». В 1939 году избран действительным членом Академии наук СССР. С 1942 по 1946 год — нарком Морского флота СССР. Основатель и первый директор Института океанологии АН СССР. Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета СССР двух созывов. Умер в 1953 году в возрасте 48 лет. Евгения Александровна Гаркуша-Ширшова родилась 8 марта 1915 года в Киеве. Актриса театра и кино. Снялась в 1939 году в фильме «Пятый океан», в 1943 году в фильме «Неуловимый Ян». Последние годы жизни работала в Театре им. Моссовета. Умерла в 1948 году в Магаданской области в возрасте 33 лет.
Эти два человека — мои отец и мать. Отец и мать по всем законам жизни должны быть у каждого человека. Отец был моим другом, собеседником, наставником до моих восьми лет, когда его не стало. Я хорошо помню совсем седого, улыбчивого человека с молодым лицом. От него я узнавала много интересного. Он научил меня любить стихи. С ним можно было отправиться по Москве-реке на байдарке. С ним было весело и не страшно. Правда, времени у него всегда было мало. Была какая-то загадочная страна «работа», куда он все время от меня исчезал. А я ждала и ждала тех его часов, которые мои.
У всех детей, окружавших меня, были матери, мамы.
119
У меня — нет. Была ее фотография, с которой мне задорно улыбалась молодая женщина. Я не помню ее, так как, когда ее арестовали, мне было немногим больше года. Подрастая, я спрашивала, где она? Мне отвечали, что она уехала на гастроли с театром. Кроме фотографии, были красивые концертные платья, коробки с гримом и всякой театральной мишурой. Это был мамин волшебный мир театра, в который, как мне тогда казалось, она от меня спряталась.
Потом, не дома, а во дворе, мне объяснили, что ждать мне некого. Я узнала о ее смерти очень рано, но еще долго продолжала подыгрывать взрослым. Только удивлялась их наивности на мой счет.
Я становилась старше. По мере того как я взрослела, трагедия моих родителей по-иному представлялась мне. С тем, что произошло с ними в 1946 году, я живу всю жизнь и буду жить до конца моих дней. От этого никуда не деться.
В 1956 году, когда отца уже не было в живых, маму реабилитировали. О ней стало можно говорить вслух. На экране кинотеатра повторного фильма появились картины с ее участием. Я впервые увидела ее как бы живой. Спасибо кино за это чудо! Мне очень хотелось стать актрисой, как мама. Но судьбе было угодно иное. Я работаю в Институте океанологии, который основал мой отец. Я сталкиваюсь с очень многими людьми, в той или иной мере знавшими его или знавшими о нем. Всегда одни и те же вопросы: «Почему он умер таким молодым? Почему о нем так мало написано?»
На первый вопрос ответила одна из старейших сотрудниц нашего института: «Мы все понимали, что, когда погибла Женечка, погиб и Петр Петрович!» Он пытался жить, работать, любить... Но, начиная с 1949 года, его жизнь — это борьба с тяжелейшей формой рака, который тогда не умели лечить. Три операции за четыре года, постоянные боли. А нужно было работать, и он работал. Я это знаю точно.
Ответ на второй вопрос. Я всеми силами сопротивлялась написанию и изданию книги о моем отце. Я ни разу не разрешила это. Вышла только одна небольшая книжка — лакированная и лживая. Это нечестно и неблагородно — писать подстриженную биографию «национального героя», замазывая те страницы его судьбы, где перед нами человеческая трагедия. Я счастлива, что дожила до того времени, когда можно говорить правду. И если появится книжка о Петре Петровиче Ширшове, то это должен быть рассказ о человеке ярком, талантливом, наделенном сполна всем, что может быть отпу-
120
щено человеку. Это должен быть рассказ о судьбе большой и необычной во всем — и в счастье, и в человеческом горе. Записки, которые вы прочтете ниже, были написаны после ареста моей матери, но до ее гибели. Евгению Александровну Гаркушу-Ширшову арестовали в 1946 году. Ордера на арест не было. Отец год не знал, где она и что с ней. Мне известно, как он искал ее, пытался спасти. Даже до Сталина достучались. Тогда была произнесена знаменитая фраза Сталина, попавшая впоследствии в западную прессу: «Мы найдем ему другую жену». Через год тюрьмы моя мать была выслана на 8 лет в Магаданскую область, где умерла в августе 1948 года.
Мне говорили, что в Магадане до сих пор помнят красивую актрису, работавшую на золотых приисках. Она домывала золотые шлихи бромоформом. Работа, на которую из-за ее вредности женщин обычно не ставили. Говорят, что сохранилась ее могила. Может быть, эта публикация поможет мне, наконец, найти мою мать? В заключение я хотела бы сказать, что понимаю: история моих родителей не исключительна для тех лет культа личности, которые пережила наша страна. Эта трагедия исключительна для меня, для моих близких.
К сожалению, те страшные годы — были. Их не вычесть из истории нашей страны. Этого нельзя забывать. История все расставит на свои места, как ни лакируй действительность. Надо иметь мужество признать это.
МАРИНА ШИРШОВА.
Скоро утро 29-й годовщины Октября...
Три месяца, зная, что дело очень плохо, что ничего хорошего ожидать нельзя, я все-таки на что-то надеялся... на чудо? на большое великодушие? не знаю... Не признаваясь себе, я ждал: вернется Женя!.. и праздник почему-то казался тем днем, который нужно только дождаться, как бы тяжко ни было бы ждать, и Женя будет с нами, будет дома, и весь этот ужас останется только страшным кошмаром позади.
Сколько раз, в часы самого отчаянного состояния, когда только ценой невероятного усилия воли удавалось сохранять внешне спокойный вид, ибо так надо было, сколько раз очередной звонок вертушки тревогой предчувствия сжимал сердце: «Женя! Женя звонит из дому... отпустили...»
Сколько раз, вернувшись ночью домой, осторожно входил в спальню: «А вдруг чудо?! Вдруг она дома, просто мне не сказали...» И снова одинокая комната, где каждая вещь помнит
121
и молчит о Жене, и снова безысходная тоска, такая, что не знаешь, куда броситься, что сделать, чтобы хоть на минуту уйти от нее, хоть минуту не думать, не чувствовать ничего... И снова страшные мысли все о том же, снова во власти ужаса, который давно понял и осознал, но поверить в который не могу и сейчас. Три месяца я добивался, чтобы мне хоть что-нибудь сказали о ней, о ее судьбе, и каждый раз натыкался на стену молчания. Никто ничего не говорит и, видимо, не скажет...
Как голодный роется в мусорной яме, чтобы найти гнилую корку хлеба, рылся я в невероятной грязи московских сплетен, щедро вылитых московскими святошами на наши головы, чтобы найти хоть какое-нибудь зерно правды о Жене. И, кажется, я нашел... Еще в начале сентября поползли слухи о восьми годах за спекуляцию. (Версия о «спекуляции» была выдумкой. На самом деле, по достоверным свидетельствам, Е. А. Гаркуша-Ширшова стала жертвой беззакония, поплатилась за то, что без оглядки отстояла свое человеческое достоинство перед домогательствами одного высокопоставленного лица. — Ред.) Не мог я поверить, что это правда, не укладывалось в сознании, что могли так решить. Я понимал, что не дадут ей вернуться в дом, не дадут быть вместе, но ждал, что вышлют ее куда-нибудь, в другой город, и отпустят с запрещением возврата в Москву. Как ни тяжко думать об этом, но это был бы какой-то выход... Я мог бы заботиться о ней, мог бы чем-то помочь ей, и если бы даже мне не дали права переписки с нею, все-таки я знал бы, где она, здорова ли, и, самое главное, она была бы на свободе, с ней были бы близкие люди, сначала мать, а потом и Маринка бы поехала к ней. И пусть разлука была бы на годы, она знала бы, что никогда еще не любил я ее так, как люблю сейчас, когда столько «заботливых ртов» поливают ее грязью, чтобы очернить ее в моих глазах.
Я ждал, что до праздника решится ее судьба и мне скажут об этом.
И мне сказали... Когда секретарь принесла конверт с билетами на Красную площадь, я не решился сразу открыть его. И только оставшись один, получил ответ: ее уже вычеркнули из жизни — в конверте были билеты только для меня.
С праздником вас, товарищ Ширшов, с тюрьмой для любимого человека, для вашей Жени!..
Зачем я все это пишу? Не знаю... Времени у меня впереди более чем достаточно... За восемь лет «Войну и мир» можно написать, даже не имея никаких к тому данных. Лишу, чтобы сжечь эти листки. Пишу потому, что стук машинки разгоняет
122
проклятую тишину ночи, когда после четырнадцати часов работы остаешься один и не знаешь, куда деваться от самого себя, когда пуля в голову кажется самым желанном, самым простым и бесспорным выходом из кошмара, воплотившегося в словах: Женя в тюрьме... А может быть, я сохраню эти листки, чтобы прочитала их Маринка через много лет, когда будет большой, и, если меня не хватит до того времени, пусть эти листки расскажут ей правду. Через восемь лет, если Женя выдержит и не погибнет раньше, ей будет 38 лет. Лучшие годы, надежды на успех в работе, оставшиеся годы молодости — все погибло. Впереди страшные годы одиночества, унижения, собачьей жизни среди чужих и враждебных людей, одной, без близких людей, не зная даже, что с ними, помнят ли они о ней...
Восемь лет для меня — восемь лет тоски по любимому человеку, восемь лет страха за ее жизнь, восемь лет изо всех сил держать себя в руках и не пустить себе от отчаяния пулю в голову, не выброситься из окна, не разбиться «нечаянно» на машине. За что? Я не могу сейчас говорить об этом. Не имею права... Времени впереди еще очень много, и пусть будущее поможет мне правдиво ответить на этот вопрос.
Но один итог мне хочется подвести уже сейчас, и, пожалуй, он мне даже нужен именно сейчас, когда надо начинать какую-то новую страницу жизни.
29 лет существует Советская власть, и 29 лет своей сознательной жизни, с тех пор, когда одиннадцатилетним мальчиком, захлебываясь от восторга, я бегал в семнадцатом году по всем митингам послушать большевиков-ораторов с Брянского завода, я всегда был безупречно честен. Мне не за что краснеть перед Советской властью!..
В пятнадцать лет я твердо определил cboio жизненную дорогу, и даже завидно сейчас вспоминать, с какой страстью мечтал тогда о научной работе, сколько пыла было в стремлении скорее добиться права работать в лаборатории.
22 июня 1941 года... В половине девятого настойчиво-требовательный звонок телефона: «Товарищ Щиршов! Говорит дежурный. Приезжайте немедленно в Управление. Папанин звонил с дачи, едет в город и велел немедленно разыскать вас и других замов!» Быстро одевшись, сунул голову под кран, выбежал во двор и, не попадая сразу ключом, завел мотор машины. Так началась для меня война... Очень скоро стало ясно, что делать мне в Главсевморпути нечего. Уже через не-
123
делю после начала войны крупный разговор с Папаниным, кончившийся честным предупреждением с моей стороны, что я все равно добьюсь ухода в армию, сколько б Папанин не мешал мне в этом.
Почти разругавшись с Папаниным, ухватился за первый подвернувшийся случай выскочить из Москвы «поближе к фронту»: 3 июля Косыгин подписал короткий мандат, гласивший: «Выдан настоящий мандат Уполномоченному Совета по эвакуации тов. Ширшову П. П. на предмет проведения эвакуации Мурманского судоремонтного завода Главсевморпути».
Месяц в Мурманске. Красная Армия отстояла подступы к городу, и доки взрывать не пришлось. Переключился на вывод ледоколов «Сталина» и «Ленина» из Кольского залива. Две недели прожил на «Сталине», три раза пытались выйти из залива, но редкая в тех краях ясная погода так и не дала выйти в море. Две недели пришлось маяться по заливу, укрываясь от зорких глаз немецких летчиков да стреляя из четырех старинных 76-миллиметровок по «Юнкерсам», регулярно летавшим на бомбежку Ваенги и других пунктов.
Потом Иван Дмитрич вытащил меня в Москву и послал на Диксон спасать суда от подводных лодок, появившихся в Карском море... Снова началась торговля с Папаниным, кому раньше уходить в армию.
Наконец мне это надоело, и я написал письмо Маленкову с просьбой отпустить меня из Главсевморпути, где мне просто нечего делать, и направить в армию, комиссаром в какую-либо формирующуюся танковую дивизию.
Ответа я так и не дождался.
15-го октября, около восьми вечера, Папанин вернулся из Совнаркома и, взволнованный, сообщил, что дано указание немедленно приступить к эвакуации центральных учреждений. По его словам, тов. Молотов велел первых заместителей направить немедленно в пункты, избранные для эвакуации, чтобы на новом месте развернуть работу наркоматов и других учреждений. Это означало: вместо фронта оказаться в самом глубоком тылу, в Красноярске! Но мне помог всеобщий переполох: в тот же вечер отправил в Красноярск Рябчикова и Кренкеля, а сам остался в Москве. Вспоминать об этих днях не любят некоторые москвичи — куда приятнее, получив три года спустя медаль на муаровой ленте с тремя зелеными и двумя красными полосками, забыть о некоторых деталях своего поведения в эти дни... Но мне нечего краснеть за себя
124
в эту страшную осень, и всю жизнь буду помнить: в эти тяжкие дни, когда враг был у самой Москвы и над Арбатом дрались истребители, когда все привокзальные площади были забиты паническими толпами людей и машин, а по центральным улицам, по Садовому кольцу уныло брели голодные стада эвакуированного скота, когда одна тревога сменяла другую, а по городу ползли черные слухи, что немец уже перерезал Северную дорогу и скоро обойдет кругом Москву, когда на окраинах города начались грабежи, когда Микоян, Косыгин и другие члены правительства выезжали на заводы, чтобы убедились рабочие, брошенные своими директорами, что правительство в Москве, что Сталин вовсе не собирается отдавать немцам Москву, вот в эти суровые дни, когда с предельной ясностью обнажилось подлинное существо многих людей, в эти дни я полюбил Женю, с которой уже встречался почти каждый день. Полюбил за то, что плакала она от негодования, рассказывая, до какой низости потеряли облик человеческий некоторые знакомые от страха за свою благородную шкуру, полюбил за то, что беззаботно щебетала она, когда над головой все небо расцвечивалось огоньками разрывов, смеясь над моим желанием поскорее закончить не вовремя затянувшуюся прогулку, полюбил за то, что на мои настойчивые уговоры уехать из Москвы, она отвечала: «А мне с вами хорошо и не страшно, и я поеду с вами!» Полюбил за то, что ей единственной показал, перед тем как отправить, записку товарищу Сталину, в которой снова просил направить меня в армию, полюбил за то, что не уехала она в Алма-Ату сниматься в новой картине, но осталась со мною, чтобы вместе уйти на фронт, полюбил за то, что под изящной внешностью избалованной «фифки», как сама себя называла она в шутку, я встретил настоящего друга, смелого, жизнерадостного и любящего... 18-го октября я позвонил Микояну, сообщил ему, что эвакуацию Главсевморпути заканчиваю и в Красноярск не собираюсь. Он согласился со мной, что ехать в Красноярск не нужно, и посоветовал написать товарищу Сталину.
В тот же день я отправил записку, о которой только что говорил.
19 октября схлынула «драповая волна» с московских улиц и площадей. Строгой и чистой стала Москва в эти дни, словно гроза пронеслась над ней и прочь унесла все трусливое, омерзительно дрожащее за свою шкуру. Выпроводив на восток остатки Главсевморпути, я не выдержал и позвонил Поскребы-
125
шеву и, видно, попал под горячую руку: «Ну чего звоните, записку вашу получили, сидите и ждите! Скажут, когда надо будет...» 21-го днем мне позвонили, и через полчаса я расписался в получении мандата за подписью товарища Сталина: «Выдан сей мандат тов. Ширшову П. П. в том, что он назначен Уполномоченным Государственного Комитета Обороны на Горьковской железной дороге по делам эвакуации. Тов. Ширшову поручается обеспечить бесперебойное продвижение маршрутов по Горьковской железной дороге и срочную разгрузку вагонов в пунктах назначения грузов. Все партийные, советские и хозяйственные организации должны оказывать т. Ширшову необходимую помощь и содействие в выполнении возложенного на него поручения».
Не дописал я это письмо, и не хочется дальше писать... Зачем писать? Разве это кому-нибудь нужно?
И все-таки я пишу... Пишу потому, что нет больше сил терпеть этот ужас, пишу потому, что кончилась очередная суббота, и в четыре часа ночи я просто не могу придумать себе работу в Наркомате и поневоле иду домой, зная, что заснуть я все равно не могу... Я держусь изо всех сил. 13—14 часов на работе, притом честных часов, за вычетом времени на дорогу, на обед... Ну, а дальше что? Куда мне деться, когда остаюсь один, куда мне деться от самого себя? Силы мои что-то начали сдавать... Вначале думал, что удастся заполнить время наукой, и даже архивы свои привел в порядок. Но не лезет ничего в голову, как только останусь один, вне работы... Женя, моя бедная Женя! Ну, что я ною? Что стоит мое горе? Только ничтожная песчинка перед тем, что свалилось на твою бедную головку, моя любимая...
Как и сейчас, было воскресенье... Последнее счастливое воскресенье... Какой хорошенькой, веселой и жизнерадостной ты вернулась со мной из города ласковым июльским вечером, когда ни одним листочком, словно боясь спугнуть тишину, не смели пошевелить березки, тесно обступившие дачу. И стремительно выбежав на балкон, ты вдруг притихла, прижавшись ко мне, и только озорным весельем искрились твои глаза в надвигавшихся сумерках. И долго еще над верхушками заснувшего леса догорали последние лучи заката, словно не хотел уходить этот день, словно боялся он уступить место страшной ночи, уже вползавшей в дом, в нашу жизнь, в мое счастье. Но не поняли мы, почему так медлил закат, почему так не хотелось ему прощаться с нами, и, провожая глазами его
126
гаснувшие лучи, в задушевной тишине я слушал твои неторопливые слова о большом человеческом счастье жить и работать, любить и быть любимым и радоваться ясному летнему дню, звонкому смеху над тихой рекой, нежному лепету Маринки, безмятежно заснувшей внизу, в своей коляске, уже становившейся для нее короткой. И с ласковой улыбкой ты уже шептала мне: «Ширш! Мы скоро заведем себе еще одну Маринку. Только пусть это будет мальчик!» И целуя твои встрепенувшиеся вверх ресницы, я возражал: «Нет! пусть это будет вторая Маринка. Маринки у нас хорошо получаются!»
А потом ты говорила, как чудесно будет нам вдвоем на юге, в отпуске, когда не нужно будет провожать с грустью каждое воскресенье, прощаясь с ним на целую неделю. И от избытка радости у тебя не хватало дыхания, когда ты снова и снова говорила: «Ширш! Ты только подумай! Целый месяц вдвоем, на юге, на море... И тебе никуда не надо спешить, ни о чем беспокоиться, ни о чем не думать... Нет! Не могу даже представить себе, что это правда, что скоро мы поедем с тобой! Давай поедем поездом, не самолетом, самолетом слишком скоро, а я очень люблю ехать вместе с тобой, куда-нибудь далеко». А потом я говорил тебе, с какой энергией буду работать после отпуска, говорил о своей мечте построить эту пятилетку на морском флоте, строить не жалея сил и создать умное и образцовое хозяйство, чтобы не краснеть больше торговому флоту за свою многолетнюю отсталость. И, слушая меня, о вещах, казалось бы, далеких тебе, ты верила в романтику механизированных причалов, стройных очертаний корпусов новых заводов, огромных доков, верила в романтику широких морских просторов, покоренных творческим трудом человека.
Уже совсем стемнело, когда мы поднялись с балкона, и, уходя, ты доверчиво прижалась ко мне и, подняв глаза, от темноты ставшие особенно большими и глубокими, ты сказала: «Ширш, если бы ты знал, как хорошо мне с тобой!» Так ушел этот последний день...
С утра снова обыденная горячка рабочего дня. Звонки телефонов, люди, бумаги, опять звонки, опять люди, опять шифровки, телеграммы.
Половина пятого... До перерыва еще далеко, еще много нужно успеть сделать. Но безотчетной тоской и тревогой заполнился просторный кабинет. Не понимая, в чем дело, выругал распустившиеся нервы, пытался взять себя в руки.
127
И не сумел. Бросил работу, чего никогда не бывало, и поехал домой. Позвонил на дачу, но телефон упорно был занят. Полчаса спустя заставил себя вернуться на работу.
А в семь вечера меня вызвали, и я узнал: Женя арестована и уже находится в городе...
Веселую, смеющуюся, ее ждали на берегу реки. И такой же оживленной и веселой она села в машину, в одном легоньком летнем платье. Среди чужих и враждебных людей... Такой ее запомнил Ролик (сын П. П. Ширшова. — Ред.), в недоумении оставшийся один на берегу реки...
Словно осатанев, свистит ветер за окном. Когда-то, на льдине, в палатке, затерявшейся в пурге и полярной ночи, прислушиваясь к завываниям ветра, я мечтал о большой научной работе и большой любви, которую я рано или поздно найду; я всегда верил в это и всегда ждал ее... Вот и домечтался, седой дурак, в сорок с лишним лет сохранивший наивность пятнадцатилетнего мальчишки!..
Слушай же теперь, как свистит ветер в тюремных решетках, как беснуется он, налетев на забор из колючей проволоки, опутавшей безвестный лагерь, где-то в бескрайних просторах Сибири. Слушай же, как воет он над крышей тесного барака, куда заперли твою Женю, верившую в справедливость и в тебя. Слушай же теперь, какими проклятиями на твою голову стонет ветер Жене, за то, что не сумел ты уберечь ее от этого ужаса... Беги же прочь из дома, туда, где беснуется снежный буран, по кривым московским улицам... Беги от самого себя, беги, пока есть еще силы держать себя в руках... Беги, потому что ты не имеешь права убить себя, пока еще есть надежда хоть чем-то помочь Жене, пока есть вера, что она жива и будет на свободе...
Мне хочется ответить на этих страницах на один вопрос, который с такой страшной беспощадностью задала мне жизнь: неужели нельзя работать изо всех сил, отдавая работе всю свою энергию, все способности, и наряду с этим любить женщину, любить большой настоящей любовью, лелея эту любовь, как большую драгоценность, данную тебе судьбой, любить всей душой, без оглядки, нравится ли это другим или нет?
16 декабря... Маринке два года, и в день рождения дочери разрешили отправить матери в тюрьму продуктовую посылку... Лучший подарок к семейному торжеству! От этого совпадения места себе не нахожу... Все мои планы продержаться,
128
заполнить время, помимо работы, наукой, все пошло насмарку, и, боюсь, что это письмо останется недописанным: меня уже не хватает даже для работы... Только бы продержаться, не сойти с ума... А я, кажется, на пути к этому... Не могу я писать о главном, но когда на страницах «Огонька» веселые, улыбающиеся коллеги Жени распинаются о блестящих победах советского кино на кинофестивалях и меньше всего думают о том, что в судьбе Жени они сыграли известную роль, когда я слышу, что в доме модной московской портнихи Елены Алексеевны почтенные жены министров и их заместителей обсуждают «преступления» Гаркуши и аккуратно расплачиваются за туалеты продуктами из «государственного лимита», когда сталкиваешься с десятками подобных «мелочей», я не знаю, надолго ли хватит моих нервов...
Не знаю, Ролик, не знаю, Маринка, допишу ли эти страницы, одно только хочу сказать: что бы вам ни говорили о Жене, как бы ни расписывали ее грехи, все это чепуха по сравнению с тем ужасом, который свалился на нее, и, как бы ни кончилось все это, тебе, Марина, стыдиться своей матери нечего... И нечего вам стыдиться своего отца, чем бы все ни кончилось. Святым я никогда не был, тем более до встречи с Женей. Но я всегда много работал, и краснеть за работу во время войны мне нечего. Сейчас я не верю в себя, в то, что я гожусь для работы в министерстве, и работаю только потому, что иного выхода у меня нет, и буду работать изо всех сил до тех пор, пока не подохну, потому что не могу быть трусом. Но брался я за эту работу, потому что встреча с Женей, любовь к ней дали мне веру в себя, в свои силы, и с этой верой я работал всю войну, собирался строить четвертую пятилетку...
Не дай бог, если эти странички попадутся по неосторожности в чужие руки! Сколько умных слов будет сказано по моему адресу! Каким дураком и мальчишкой меня постараются сделать: не понимает, мол, человек простых вещей и носится со своими переживаниями. Спорить я не буду. Одно только скажу: всю жизнь к делу я относился честнее, чем многие вполне нормальные люди, у которых и любовь, и чувство ответственности за близкого человека, и все прочее разложено по полочкам в строгом порядке и в размерах, положенных по штату, не больше и не меньше... Постарайтесь хоть вы быть умнее своего отца...
Я пишу эти страницы только для того, чтобы уйти хотя бы
129
на несколько часов от кошмара, от которого уже не спасает ничто. Пишу потому, что самому себе я могу сказать, не боясь встретить иронически-сочувствующего взгляда: свое настоящее счастье нашел я осенью 41-го года, большая настоящая любовь вошла в мою жизнь в ту суровую зиму. И чем бы все это ни кончилось, до самой смерти буду, как святыню, хранить в душе каждый день, каждый час, проведенный вместе с нею, полный ею... Мы часто ссорились с Женей. Нередко ссоры были очень бурные, но всегда кончались так же быстро и неожиданно, как и начинались. Первое время я не понимал, в чем дело: было ясно, что оба любим друг друга, дорожим любовью, и все-таки ссорились из-за таких пустяков, что на другой день не могли даже толком вспомнить, из-за чего сыр-бор загорелся. Недоумевала и Женя: «Ширш! Почему мы с вами так легко цепляемся друг к другу? Видимо, вы мало любите меня...»
В том-то и дело, ссорились мы потому часто, что любили по-настоящему.
Долгое время, хотя уже не могли быть один без другого, мы не решались сказать окончательное «да». Твердо рассчитывая уйти в армию, я боялся за Женю, зная, что она пойдет вместе со мною.
И только в конце декабря мы решили, что будем мужем и женой, решили сказать об этом окружающим.
Еще одна неделя осталась позади... И в два часа ночи, в субботу, уже нечего делать... Завтра снова привычная колея работы со всеми ее треволнениями. Но это завтра... А куда деться сегодня, куда деться от этого ужаса, с которым остаешься один, каждую ночь?
Свистит над высоким обрывом западный ветер, быстро несутся рваные клочья черных облаков, и заунывно шелестят внизу, под ногами, голые сучья деревьев. За замерзшей рекой широко раскинулись огни огромного города. Ровной цепочкой ярких фонарей вытянулся мост через реку. Блестят огни на улицах, площадях, и высоко над ними, то там, то здесь темнеют громады новых домов, приветливо светясь окнами москвичей, засидевшихся в субботний вечер. И вдали, в городской дымке, мерцают алыми рубинами Кремлевские звезды...
Сотни тысяч людей в этом Великом Городе, честных, хороших и очень плохих... Для всех есть в нем место... Не нашлось в нем только места для моей Жени, для моего счастья...
130
И снова глухие переулки Замоскворечья вьются под ногами...
Маринка моя! Маленькая щебетунья моя! Я знаю, что нет у меня другого выхода, что должен я жить ради тебя, ради твоей мамы, ради своей чести... Я держусь изо всех сил, я буду держаться, чего бы мне это ни стоило. Но пусть никогда в жизни тебе не придется узнать, какой муки может стоить удержаться от самого простого, самого желанного выхода, такого быстрого и ясного... Пусть никогда не узнаешь ты, как трудно оторвать руку от пистолета, ставшего горячим в кармане твоей шинели...
Помоги же мне, моя маленькая, удержаться на ногах.
131
«Комсомольская правда», 1988 21 февраля
С. Микоян, доктор исторических наук
Слуга
Он властвовал над судьбами многих, страхом внушая покорность. Но не уважение. Спустя годы суд народной памяти вынес Берии свой приговор.
Вряд ли бы стоило возвращаться к этой фигуре, если бы нами двигало нетерпеливое желание еще раз разоблачить давным-давно разоблаченное зло. Цель иная: попытаться исследовать механизм, складывавшийся исподволь, и роль, которую в нем исполняли личности типа Берии. Здесь не все очевидно. Палач! Инструмент произвола и устрашения! Это правда. Но другие без усилия менялись, как несвежие перчатки. А этот протянул целых 15 лет... Как творились мифы: о «неведении», о «невесть откуда» взявшихся злодеях (Ежов), о мнимом восстановлении справедливости и торжестве законности (1938 год), о «созидательной» деятельности и «организаторском таланте» преступников (Берия в годы войны)! Из чего складывался механизм взаимопревращения черного в белое и белого в черное: невинных людей в «извергов», палачей в благодетелей (Берия в 38-м и 53-м), будущих жертв в пособников и даже соучастников преступлений! Как воплощалась на практике идея «расширенного соучастия», когда стремились не только убрать противников, но и вовлечь, заклеймить и замарать сотни и тысячи посторонних, дабы виновными сегодня (и завтра!) чувствовали себя все! Несмываемые казенные клейма история смывает. И приходит время, когда клейма
132
должны быть возвращены по назначению. Ими следует клеймить тех, чей лживый ум эти клейма придумал. Тогда
все будет поставлено на свои места. Не просто преступник. А вредитель. Не просто злодей. А враг народа. После очерка «Победитель» читатели требовательно настаивают на рассказе о Берии. Среди подлинных врагов народа в первом ряду — он, Берия. Это его действительная роль...
Об этих подлинных вредителях и врагах народа, равно как и о их жертвах и противниках, нам предстоит восстановить всю правду. Важны документы. Но не менее важны свидетельства очевидцев, участников событий, уже ушедших и живых. Окрашенные личным отношением, не являясь истиной в последней ее инстанции, они несут в себе тем не менее информацию, которую трудно переоценить... Одно из таких свидетельств мы публикуем сегодня.
А. АФАНАСЬЕВ,
обозреватель «Комсомольской правды».
«Самый ценный наш капитал — кадры! Учти, Лаврентий...»— такой печальный анекдот появился во второй половине 1950-х годов, когда на XX съезде партии была сказана суровая правда о беззакониях «периода культа личности» — как в ту пору именовали годы авторитарного правления. Первая фраза произносилась с пафосом, как бы с трибуны в зал, а вторая — вполголоса, кому-то, кто находился недалеко.
Действительно, он, Лаврентий, лысоватый, невысокий человек в пенсне, был всегда поблизости. Всегда, с тех пор, как в начале 1930-х годов сумел продемонстрировать личную преданность и готовность выполнять любые поручения, какого бы они ни были деликатного свойства. (Все, что я рассказываю здесь, мне известно от отца и других участников и очевидцев событий).
Лаврентий Павлович Берия возглавлял ГПУ Грузии (Грузия вместе с Азербайджаном и Арменией входила тогда в Закавказскую Федерацию). Сталин приехал в 1931 г. на отдых в Цхалтубо. Туда и направился Берия, формально — обеспечить
133
безопасность, а на деле — втереться в доверие и таким путем сделать карьеру. Берия пробыл в Цхалтубо до самого отъезда Сталина. Они поняли друг друга хорошо, хотя раньше никогда не виделись. Настолько хорошо, что прямо из Цхалтубо в Москву было передано распоряжение подготовить заслушивание в ЦК — вне всякого плана — докладов партийного и советского руководства Заккрайкома и всех трех республик. Никто не мог понять — почему? В связи с чем? Даже, скажем, секретарь ЦК Каганович, судя по всему, не владел иной информацией, кроме лаконичного текста телеграммы из Цхалтубо. Само заседание началось без всякой подготовки. Вел его Каганович. Приехавшие в Москву — Картвелишвили (первый секретарь Заккрайкома), Яковлев (второй секретарь), Орахелашвили (председатель Совнаркома Федерации), а также другие руководители: Буниат-Заде, Девдариани, Ханджян, Полонский, Тер-Габриэлян, Мусабеков, Догадов — были в недоумении.
Как вспоминает участник заседания, член партии с 1917 г. А. В. Снегов, тогда — зав. орг. отделом Заккрайкома, все обратили внимание на отсутствие Серго Орджоникидзе. «Улучив удобную минуту, — пишет в своих воспоминаниях А. В. Снегов, — я спросил сидевшего рядом Микояна: «Почему нет Серго?» Тот ответил мне на ухо: «Да с какой стати Серго будет участвовать в коронации Берии? Он его хорошо знает». Так вот в чем дело! Я, таким образом, первым из приехавших узнал, что нам предстоит».
Само заседание было рядовым, обсуждались разные вопросы. Главное Сталин высказал в конце своего выступления,— практически уже закончив его. Набивая табаком трубку, ставшую потом знаменитой, он вдруг сказал: «А что если мы так сформируем новое руководство крайкома: первый секретарь Картвелишвили, второй секретарь — Берия?» Любопытно, что в эту пору, оказывается, еще могло иметь место несогласие. Пока не перевелись оппоненты, способные открыто возражать и отстаивать иные точки зрения.
Картвелишвили среагировал сразу и по-кавказски эмоционально: «Я с этим шарлатаном работать не буду!» Орахелашвили спросил: «Коба, что ты сказал, может, я ослышался?» «Мы не можем привезти такой сюрприз парторганизациям», — бросил Тер-Габриэлян. Никто не поддержал предложения. Тогда «демократическое обсуждение» было мгновенно скомкано. Сталин гневно сказал: «Ну что ж, значит, будем решать вопрос в рабочем порядке».
134
В течение нескольких месяцев руководство края было перетасовано. Картвелишвили был направлен к Эйхе в Западно-Сибирский крайком, Яковлева сделали руководителем «Востокзолота», Догадова послали на Урал. Первым секретарем Заккрайкома стал Мамия Орахелашвили, а вторым, естественно, Берия. Но ненадолго: вскоре Орахелашвили вызвали в Москву и назначили заместителем директора Института Маркса — Энгельса — Ленина. И первым секретарем остался Берия. После реорганизации Закавказской Федерации он стал первым секретарем ЦК КП Грузии. Далее еще более крутой и недвусмысленный поворот. «Через 2 месяца после этого в 32 районах Грузии появились новые первые секретари райкомов, — рассказывает Снегов. — Они до этого занимали посты начальников районных отделов НКВД. Мне кажется, это очень характерно. Не менее характерно, чем тот факт, что никто из тех, кто был вызван в Москву, не умер естественной смертью. Я один выжил после 18 лет в лагерях...»
Вскоре Берия становится и «историком». Выходит книга «К вопросу об истории большевистских организаций Закавказья». Текст составлен грузинскими историками в качестве доклада, зачитанного Берией на активе. Разумеется, авторы вскоре были расстреляны, а книга благополучно вышла в свет за подписью Л. П. Берии. Роль Сталина — он, конечно, изо всех сил постарался «высветить».
Светлана Аллилуева в своей первой книге, вышедшей за границей, пыталась создать «розовую легенду», согласно которой Берия, этот «злой гений», обманывал, сбивал с толку Сталина, используя его доверчивость. Такая легенда, между прочим, еще до Берии имела хождение в связи со зловещей фигурой Ежова. По этому поводу тот же Снегов, вплоть до своего ареста занимавший видные посты в партии, писал: «Надо не знать тогдашней обстановки в ЦК, степени концентрации власти в руках Сталина, когда члены Политбюро не имели права защищать своих заместителей, боевых друзей, в верности которых они были убеждены, своих жен и даже детей; надо не знать Сталина, чтобы, не кривя совестью, всерьез валить на Ежова ответственность за уничтожение многих членов ЦК, делегатов XVII съезда партии, секретарей ЦК, членов Политбюро».
И все же на эту тему не прочь порассуждать даже и сегодня кое-кто из плохо информированных людей, у которых
135
недостает либо желания, либо сил принять историческую правду такой, какой она была.
А правда предельно проста: до Берии его роль уже играли поочередно Ягода, Ежов, но управлял этими марионетками неизменно один человек. После Берии и параллельно с ним были Меркулов, Абакумов и многие другие подручные меньшего калибра.
Без понимания этого не разобраться во многих парадоксах. Почему, скажем, в 1938 году Берия, заменив Ежова на посту наркома внутренних дел, поставил на Политбюро ошеломляющий вопрос, звучавший примерно так: может, пора уж поменьше сажать, а то скоро вообще некого будет сажать? Люди старшего поколения помнят некоторое затухание волны арестов. Кое-кого даже начали выпускать. Это дало Берии определенную поддержку тех, кто, оставаясь формально в составе руководства, не мог и пальцем пошевелить, чтобы остановить запущенную машину репрессий.
Как же Берия осмелился высказаться подобным образом? Причина очевидная: требовалось для разрядки слегка выпустить пар из котла, сказать что-то о «перегибах», взвалить вину на кого-то (в данном случае — на Ежова). А потом? А потом спокойно продолжать делать «нужное» дело.
Берия не гнушался личным участием в допросах. У себя в кабинете в Тбилиси, по свидетельству современников, он собственноручно застрелил первого секретаря ЦК КП Армении Ханджяна. Он безжалостно расправлялся не только с теми, кто долго работал со Сталиным и знал ему цену, но и с теми, кто хотя бы более или менее знал его, Берию, до невиданного возвышения. Поэтому Компартия Грузии пострадала, наверное, больше, чем компартии соседних республик.
Выделялся Берия хитростью, ловкостью, умением внушать «хозяину», что он не вышел и не выйдет в тираж, а еще долгие годы останется полезен. И он оставался полезным...
К числу качеств Берии относилось и наличие определенных организаторских способностей. Во время войны это помогло ему показать себя не только в НКВД, но и в делах, касавшихся обороны. Правда, ему помогало и то, что он свободно распоряжался огромной рабочей силой, сосредоточенной в лагерях. Да и одна лишь ссылка типа «Берия приказал...» действовала абсолютно безотказно.
Но одновременно он старался не ослабить и свое наблюдение за работой нового наркома внутренних дел Меркулова. Это ему разрешалось. Если, правда, не противоречило ос-
136
новному правилу режима «культа личности»: репрессивный аппарат должен напрямую подчиняться первому человеку и контролироваться в конечном итоге только им. Судьба людей, известных Сталину, вообще могла решаться только им самим и никем больше. Никакой Берия ничего не мог тут поделать. Берия, например, ненавидел академика П. Л. Капицу. Сославшись на то, что Капица не занимается проблемой расщепления атома, а сосредоточился на новейшем, простом и дешевом производстве кислорода (что, кстати, было чрезвычайно важно для всей промышленности!), Берия сумел добиться снятия его с должности директора Института физических проблем АН СССР, а затем и начальника Главкислорода. Капица был вынужден сам создать небольшую лабораторию на своей даче и жить там безвыездно. Но разрешения на арест его Берия от Сталина так и не получил, а следовательно, не мог тронуть его и пальцем.
Люди, знающие слишком много, обычно бывают неудобными. Талант Берии заключался еще и вот в чем. Он предельно долго не допускал, чтобы у Сталина возникла подобная мысль в отношении к нему, к Берии. И все же наступал и его час... Министру госбезопасности Абакумову в начале 1950-х годов было поручено произвести аресты ближайших сподвижников Берии, например, министра госбезопасности Белоруссии Цанавы и некоторых других. Создавалось так называемое «мингрельское дело» (многих подручных Берия подбирал из своих земляков). Когда Сталину докладывали о продвижении дела, он комментировал: ищите большого мингрела. Он, вероятно, посчитал, что и Абакумов «много знает», а может быть, к тому же слишком связан с Берией, — в результате министра заменил...
Но тут как раз в 1952 году внимание его отвлекло более срочное и эффектное «дело врачей-отравителей». Новый министр, бывший партийный работник Игнатьев оказался человеком наивным. Он не находил улик против группы арестованных врачей самой высокой квалификации, вообще никаких данных об их вредительской деятельности, кроме письма некоей Тимашук, работавшей в Лечебно-санитарном управлении Кремля. Да и никто из врачей не признается! — докладывал он Сталину в присутствии нескольких членов Политбюро (регулярных заседаний Политбюро обычно не проводилось. Те, что приглашались к Сталину на дачу, на ужин, тем самым участвовали и в заседаниях). И услышал ответ: если вы не найдете улик, а они не признаются, вы будете там же.
137
где они... Последовали «признания», улики фабриковались следователями, менее наивными и более опытными в таких делах, чем их новый министр.
Первые числа марта 1953 года. Ночь. Сталин, имевший повышенное кровяное давление, идет в баню. Его оставляют одного в комнате, где на диване приготовлена постель. Вставал он не раньше 12, а то и часа дня, никто не мог зайти к нему без вызова. Два часа, три, четыре, пять. Встревоженные работники охраны не знают, как им быть. Наконец зовут кухарку, простую русскую женщину, пожилую, давно уже работающую у «хозяина» (может быть, одного из немногих людей, которым он пока еще доверяет). Она стучит в дверь. Нет ответа. Стучат все громче. Наконец решаются взломать дверь. На полу, недалеко от дивана лежит «хозяин». Сильнейший инсульт, полный паралич, в том числе речи. Лишь смотрит сердито на окружающих, на прибывших врачей (уже новых!). На членов Политбюро, что оповещены Маленковым и съезжаются на дачу. Проходит три-четыре дня.
Кончается эпоха...
Но Берия этого еще не понимает. Он откровенно не огорчен. По его расчетам, все складывается как нельзя лучше. Официальный «наследник» Маленков — ведь это он делал только что отчетный доклад на XIX съезде в конце 1952 года — слабый человек, находящийся под его влиянием. Теперь он, Берия, не только не должен бояться Сталина, теперь он сам станет фактически у руля всей страны.
Эйфория Берии, человека наглого, не считающего нужным скрывать свои чувства, становится заметной для сына Сталина, Василия. С его легкой руки рождается легенда, что отца его «залечили», а возможно, даже отравили (легенду эту начинает потом «обосновывать» известный за рубежом «советолог» Авторханов, вторя Василию, который страстно хотел, чтобы к отцу его вернулась хотя бы речь — тогда бы отец сумел приказать расстрелять всех в Политбюро, кто осмелился его пережить).
Берия между тем «набирает очки». Вспомнив, вероятно, 1938 год, он пересматривает «дело врачей». Сразу же после смерти «хозяина» врачей реабилитируют, освобождают, а нескольких следователей во главе с Рюминым приговаривают к расстрелу. Следователей не просто делают «козлами отпущения». Вполне заслуженной карой, их постигшей, надо показать всем, что времена меняются к лучшему — причем благодаря Берии.
138
Времена действительно меняются, но этому человеку, вскормленному интригами и преступлениями, не дано разобраться: в каком направлении. По его понятию, партия давно уже морально раздавлена репрессивным аппаратом, она никогда не сможет восстановить свою роль в обществе. Он не в силах уяснить, что его подсчеты, кто чего стоит, сами по себе мало что стоят, ибо основаны на знании лишь механики «дворцовых переворотов», а не законов развития социалистического общества. Это общество отторгнет его самого, его аппарат, жуткую машину, создававшуюся два десятка лет.
И вот летом 1953 года в ходе одного из заседаний Политбюро (переименованного перед смертью Сталиным в Президиум) в Кремль вызывается группа маршалов и генералов Советской Армии. Им поручается арестовать Берию и препроводить его в штаб Московского гарнизона.
Суд над Берией был скорым. Может быть, слишком скорым. Пожалуй, следовало бы заставить его рассказать многое, что облегчило бы работу сегодняшних историков... Пожалуй, следовало бы хорошенько разобраться прежде, чем записывать его в чьи-либо «агенты» — как это сделали под горячую руку (даже если его работа агентом мусава-тистской разведки в 1919 году в Баку и не была действительно выполнением партийного задания, как Берия пытался утверждать).
Но дело, конечно, не только и не столько в этом. Дело в том, что кончилась целая эпоха...
История высоко оценивает значение XX съезда партии. Руководители КПСС во главе с Н. С. Хрущевым положили конец тем безобразным явлениям, которые на время исказили облик нашего общества, привели к неоправданным жертвам.
Сейчас речь идет о создании подлинной, объективной истории партии и советского общества. На последнем Пленуме ЦК партии подчеркивалось: вопрос в том, чтобы написать правдивую и полную историю, которая была бы историей жизни и борьбы народа. Со всеми победами и неудачами, светлым и трагическим, революционным энтузиазмом масс и нарушениями социалистической законности, а подчас и преступлениями...
Порой задают вопрос: зачем трогать призраки, зачем будоражить прошлое? Ответ однозначен: прошлое надо знать. В том числе и для того, чтобы будущее стало окончательно свободным от прошлого.
139
«Труд», 1988 26 мая
Н. Попов, доктор исторических наук, профессор, руководитель кафедры истории КПСС Свердловской высшей партийной школы
Николай Крестинский: был и остаюсь коммунистом
Второго марта 1938 года начался процесс так называемого «антисоветского право-троцкистского блока». Но еще за несколько дней до этого, даже не дожидаясь суда, газеты начали кампанию по разоблачению «троцкистско-бухаринских бандитов», призывая к беспощадной расправе с подсудимыми. В то время это означало одно: судьба людей, зачисленных в преступники, предрешена... Из дневника утреннего заседания суда: «После оглашения обвинительного заключения председательствующий тов. Ульрих опрашивает каждого в отдельности подсудимого, признает ли он себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Все подсудимые, за исключением подсудимого Крестинского, полностью признают себя виновными...».
Кто же он, этот человек, имевший мужество, вопреки страшной силе, заставлявшей даже самых стойких большевиков признать свою несуществующую вину, стать единственным исключением -— сказать грозному обвинению тихое, но твердое — «нет»?
Из анкеты:
Фамилия, имя и отчество — Крестинский Николай Николаевич.
Родился 13(25) октября 1883 г. в Могилеве.
Интеллигент, служащий.
Образование высшее.
До революции — присяжный поверенный, теперь — работник НКИД.
Вступил в партию в 1903 г. в Вильно, перерывов не было.
Как большевик определился в начале 1905 г.
В других партиях не был.
140
Арестовывали за революционную деятельность в Вильно в 1904 г., 1905 г. (2 раза), 1906 г. (2 раза), в Витебске — в 1905 г., в Петербурге — в 1905 г., 1907 и в 1914... Административно высылали в 1905 г. из Петербурга, в 1906 г. из Витебска, в 1914 г. по Питеру на Урал.
В эмиграции не был.
Во время гражданской войны был секретарем ЦК и наркомом финансов в Москве.
Последнюю партпроверку прошел без замечаний.
После Октябрьской революции партийному и советскому суду не подвергался.
Работаю замнаркоминдел.
«В чем нуждаетесь? Чем можно улучшить не только Ваше здоровье, но и Вашу способность к борьбе за каши идеалы?» Прочерк.
Место службы — НКИД — Кремль.
Дом. Адрес — Кремль.
Дата заполнения анкеты — 11.07.31 г.
Внимание не только историков, но и всех советских людей привлекло опубликованное в газетах в феврале 1988 г. сообщение «В Комиссии Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х годов».
Миллионы советских людей восприняли это сообщение как еще один реальный факт перестройки, как возвращение к правде, попиравшейся в темные, бесчеловечные годы сталинского культа, замалчивавшейся во времена застоя. Зоны умолчания, искусственно созданные вокруг целого ряда событий и имен, привели к тому, что наши современники мало знают или не знают совсем многих видных революционеров, чьи дела достойны светлой памяти, а идеи сегодня не утратили актуальности. Одним из них является и Николай Николаевич Крестинский...
О том, насколько близко смыкалось в жизни Крестинского — как, впрочем, и всякого профессионального революционера — личное с революционной борьбой, по-своему говорит интересный эпизод, рассказанный дочерью Николая Николаевича. В 1905 году, когда Крестинский был арестован в очередной раз и находился в виленской тюрьме, товарищи по партии посылали к нему связную под видом «невесты». Задача этой молодой симпатичной девушки заключалась в том, чтобы передавать арестованному информацию о деятельности органи-
141
зации, узнавать мнение Крестинского по тому или иному вопросу. А после освобождения Николая Николаевича связная действительно стала его невестой, и вскоре они поженились... Особая «глава» в жизни Н. Н. Крестинского связана с газетой «Правда», в которой он проработал с момента ее возникновения в апреле 1912 года до закрытия перед войной в июле 1914 года. Работая в «Правде», Николай Николаевич одновременно являлся юрисконсультом большевистской фракции IV Государственной думы. В начале мировой империалистической войны Крестинский вновь — в который уже раз — подвергается аресту, а еще через несколько месяцев его отправляют в административную ссылку на Урал...
Из документов царской охранки:
«Сообщение Екатеринбургскому полицмейстеру
А. С. Нецветаеву.
Секретно.
Милостивый государь, Александр Семенович! В городе Екатеринбурге состоят под гласным надзором полиции несколько лиц: Крестинский, Авсеев, Поляков, Гвоздев, Болтаева, коим воспрещено пребывание в некоторых местностях за принадлежностью к революционным организациям, партиям социал-демократов или социал-революционеров.
Лица эти, пользуясь предоставленным им правом, обычно избирают для жительства или большие города, или рабочие районы... в новом местожительстве проявляют попытки войти в сношения с рабочими или завязать связи с членами революционных организаций с целью оживить деятельность последних. Поэтому за подобными личностями необходимо иметь особо пристальное и умело организованное наблюдение.
М. Лозина-Лозинский.
9 ноября 1915 года».
Несмотря на «особо пристальное и умело организованное наблюдение» охранки, Крестинский с первых дней своей жизни на Урале развертывает активную революционную деятельность.
Из донесения агента начальнику Пермского жандармского управления:
142
«...На состоявшемся собрании социал-демократов Крестинский говорил, что Екатеринбургская организация социал-демократов не имеет достаточных денежных средств и что последней предлагается срочно заняться сбором денег на нужды организации. Когда средств будет достаточно, Крестинский примет все меры к тому, чтобы «Уральский Комитет» был в городе Екатеринбурге и имел собственную типографию, а пока предложил обзавестись гектографом, на котором и отпечатать имеющуюся у него прокламацию...»
На Урале Н. Н. Крестинский встретил февральскую революцию 1917 года. Сразу после нее перед большевистскими организациями встал целый ряд вопросов: об отношении к войне, Временному правительству, о тактике партии... В середине апреля Н. Н. Крестинский вместе с Я. М. Свердловым подготовил и провел в Екатеринбурге Первую (Свободную) Уральскую социал-демократическую конференцию. В страстной речи на ней Николай Николаевич дал достойную отповедь «оборонцам», заявив: «Мы выступим против буржуазного правительства и вырвем власть из его рук, чтобы передать ее в руки пролетариата и крестьянства». Конференция избрала Крестинского председателем областного комитета РСДРП(б). На VI съезде РСДРП(б) Крестинский заочно избирается членом ЦК партии.
Из воспоминаний ветерана партии К. Наумова:
«На Коковинской площади (там сейчас находится Центральный рынок) состоялся солдатский митинг. А к концу дня представители фабрик, заводов, воинских частей непрерывным потоком потянулись к оперному театру, традиционному месту для больших сборов.
Собрание открыл Н. Н. Крестинский. Он торжественно объявил о провозглашении Советской власти и об избрании Вторым съездом Советов нового правительства — Совета Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичем Лениным».
После установления Советской власти на Урале Крестинский переводится на работу в Петроград, занимает должности члена коллегии Наркомата финансов, заместителя главного комиссара Народного банка. При его непосредственном участии идет национализация банков, создаются основы финансовой и юридической систем Советского государства.
143
В августе 1918 года Н. Н. Крестинский назначается наркомом финансов. Занимая эту должность, Николай Николаевич одновременно с ноября 1919 года становится ответственным секретарем Центрального Комитета партии. Именно Крестинский выступал с орготчетами ЦК на IX и X съездах РКП(б).
На X съезде произошел любопытный эпизод, на мой взгляд, ярко характеризующий личность Крестинского. Один из ораторов в своем выступлении назвал Николая Николаевича генеральным секретарем ЦК партии. Крестинский обратил на это внимание и в заключительном слове по орготчету заявил, что должности генерального секретаря не существует, все три секретаря ЦК (в то время — Крестинский, Преображенский и Серебряков) — равноправны. Как человек кристально честный и чистый, демократ до мозга костей, Николай Николаевич ни в коем случае не мог допустить «возвеличивания» собственной персоны даже в такой, казалось бы, безобидной форме. Что касается должности генерального секретаря ЦК партии, то она была введена через год после X съезда, и занял ее Сталин...
Крестинский был не только замечательным организатором, но и теоретиком, разрабатывавшим, в частности, вопросы кооперативного движения. На IX съезде РКП(б) он сделал доклад о политике партии по отношению к кооперации. Резко критикуя бюрократические методы работы тогдашних руководителей Центросоюза, он выступал против жесткого подчинения кооперативного движения государственному аппарату, призвал осуществлять партийное влияние на кооперативы не с помощью приказов и инструкций, а через работающих в кооперации коммунистов.
Легко заметить, насколько перекликаются взгляды Крестинского с нашими сегодняшними представлениями о подлинной кооперации, с той перестройкой, которая идет нынче в кооперативном движении... Но тогда большинство делегатов съезда не поддержало Крестинского, и в основу проекта резолюции о кооперации поначалу были положены тезисы другого выступающего — В. Милютина, который ратовал за жесткое подчинение кооперативного движения государственному аппарату. И тем не менее по предложению Ленина съезд в конце концов принял по этому вопросу «резолюцию меньшинства», подготовленную Крестинским.
Вообще Ленин очень высоко ценил деловые, моральные качества Н. Н. Крестинского. Ильич хорошо знал семью Крестинских. Со своей маленькой дочкой Наташей Николай
144
Николаевич навещал Ленина в Горках в период тяжелой болезни, когда врачи резко ограничили его контакты даже с близкими людьми. Ранее жена Крестинского — врач по профессии — дежурила у постели раненого вождя.
С 1921 года Н. Н. Крестинский находился на дипломатической работе. Был советским представителем в Германии, принимал непосредственное участие в подготовке Рапалльского договора 1922 года, ставшего выдающимся успехом советской дипломатии в борьбе за установление равноправных отношений молодого Советского государства с капиталистическими странами.
С 1930 года Николай Николаевич являлся заместителем наркома иностранных дел СССР.
Рассказывает его дочь — ныне заслуженный врач РСФСР Н. Н. Крестинская:
— Отец был интеллигентом «старой школы», что, наверное, в те годы было немаловажно во внешних контактах. Он знал французский, немецкий, латынь. Обладал уникальной памятью. Ленин, кстати сказать, ценил эту особенность и нередко, затрудняясь ответить на какой-то вопрос, говорил: «Спросите у Крестинского...».
Работа составляла главный смысл жизни отца. Тогда, в 30-е годы, люди его ранга трудились и ночами: раньше трех редко когда возвращался. Но вот ко мне в школу на родительские собрания, несмотря на огромную занятость, всегда ходил сам. С ним я даже чаще, чем с мамой, делилась своими секретами.
Помимо работы, только одно увлечение — книги. Покупал отец их постоянно, где только мог, за что его порой журила мама: оклад в то время у замнаркоминдела был такой, что хватало лишь от зарплаты до зарплаты. Никаких сбережений семья не имела.
Были ли у Николая Николаевича Крестинского ошибки? Были. Например, он не соглашался с ленинской позицией в период заключения Брестского мира. Ошибочную позицию занял поначалу Крестинский и во время развернувшейся в партии дискуссии о профсоюзах, хотя потом, на X съезде партии, проголосовал за ленинские резолюции. Допуская ошибки по тем или иным вопросам, вступая порой в жаркие споры со своими товарищами по партии, Крестинский в то же время во всей своей деятельности всегда придерживался ленинской линии. Любому непредвзятому исследователю
145
должно быть ясно, что в то время, когда перед партией, страной встали принципиально новые, «первопроходческие», ни в каком виде до того не решавшиеся вопросы, — ошибки, колебания были неизбежны. Именно поэтому Ленин никогда не ставил в вину своим товарищам по партии наличие у них иных, даже неверных взглядов.
Положение в партии изменилось с приходом к власти Сталина. Человек принципиальный, демократичный, Крестинский не «вписывался» в атмосферу лживых, противоречащих природе социализма восхвалений сталинского «гения», не мог принять «новый» стиль отношений между товарищами по партии.
Не поступился своими принципами Николай Николаевич и в середине тридцатых годов, когда всевластие Сталина было абсолютным, а любые попытки пойти против его мнения стали равносильны самоубийству. О характере Крестинского говорит такой эпизод. Однажды в 1935 году он вместе с семьей пошел в театр. Был там и Бухарин, уже находившийся в опале. Вокруг него создавалась атмосфера отчуждения, многие бывшие друзья и знакомые не рисковали поддерживать с ним отношения. Отлично знал об этом, разумеется, и Крестинский. И тем не менее в фойе театра он подошел к Бухарину и долго разговаривал с ним. Жене потом сказал:
— Надо поддержать человека в трудную минуту...
Тогда Николай Николаевич еще не знал, что трудные дни уже наступали и для него самого. Весной 1937 года он был арестован и привлечен к уголовной ответственности как участник «антисоветского правотроцкистского блока». Возможно, Сталин не забыл тех случаев, когда мнение Крестинского противоречило его, «гения всех времен и народов», позиции. А такое бывало не раз. Когда дебатировался вопрос об отношении к Временному правительству, Крестинский заявил: «Разногласий в практических шагах между Сталиным и Войтинским нет». А Войтинский, между прочим, был правым меньшевиком!
Рассказывает Н. Н. Крестинская:
— За два месяца до ареста отца он подошел ко мне и сказал, что его вызывал Сталин, предложил ему должность заместителя наркома юстиции. Мотивировал тем, что прошлые «ошибки» Крестинского не позволяют ему представлять страну на международной арене. Мне показалось, что отец остался спокоен, работал, как обычно.
146
Пришли за ним 20 мая 1937 года. Поздно вечером. Мы жили тогда в Кремле. Матери не было дома, она работала главным врачом больницы и возвращалась очень поздно. Меня разбудил звонок в дверь. Вошли люди в форме — человек восемь, стали производить обыск. Мне хотелось спать, и я все думала: хоть бы скорее ушли, не отдавая себе отчета в том, что уйдут они не одни.
Отец ничем волнения не выдавал. Вскоре пришла с работы мать. С порога поняла, что происходит, страшно закричала... Когда все двинулись к выходу, отец надел пальто, шляпу, так же спокойно, как делал это всегда, собираясь на работу, подошел ко мне, поцеловал и произнес: «Учись, дочка. Я ни в чем не виноват...» Через несколько дней после ареста отца мою мать, участвовавшую в революционном движении с 1903 года, исключили из партии. Из кремлевской квартиры все вещи перевезли в маленькую комнату в другом районе. А в феврале 1938 года арестовали и мать. Приговор: 8 лет лагерей. В июне 1939 года пришла моя очередь. Полгода в тюрьме, 35 допросов, ссылка. Была и такая категория «ЧСИР» — член семьи изменника Родины. Мы с матерью носили это клеймо долгие годы.
Во время постыдного суда ответы Крестинского то и дело срывали разработанный загодя «сценарий». Не находя аргументов (которых попросту не было), судебная коллегия несколько раз удалялась на совещание.
...Помните: «... За исключением подсудимого Крестинского»? Скупая фраза эта — все, что попало в печать. А вот как это было.
ИЗ СУДЕБНОГО ОТЧЕТА:
«Председательствующий В. В. УЛЬРИХ:
— Подсудимый Крестииский, вы признаете себя виновным в предъявленных вам обвинениях!
КРЕСТИНСКИЙ:
— Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником «правотроцкистского блока», о существовании которого я не знал. Я не совершал также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности, я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.
147
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
— Повторяю вопрос: вы признаете себя виновным!
КРЕСТИНСКИЙ:
— Я до ареста был членом ВКП(б) и сейчас остаюсь таковым».
Так было в первый день суда, 2 марта. А на следующий день, на вечернем заседании Крестинский заявил: «Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем обвинениям, предъявленным лично мне...» (цитируется по «Правде» за 4 марта 1938 года), вслед за чем последовала удовлетворенная реплика Вышинского: «У меня вопросов к подсудимому Крестинскому пока нет»...
Что же произошло за время с утреннего заседания второго марта до вечернего — следующего дня? Каким путем добились обвинители такой метаморфозы, какую поистине смертную муку пришлось принять «строптивому» подсудимому? Методы «восстанавливания» подобных упрямцев теперь уже достаточно известны. Вот показания бывшего начальника санчасти Лефортовской тюрьмы НКВД СССР Розенблюма, данные им в 1956 году:
«Крестинского с допроса доставили к нам в санчасть в бессознательном состоянии. Он был тяжело избит, вся спина представляла из себя сплошную рану, на ней не было ни одного живого места...»
Нетрудно представить себе, как постарались палачи, выбивая из Крестинского (в буквальном смысле слова!) мучительное для него лжепризнание.
Но история запомнила другое — гордые его слова, сказанные накануне: был и остаюсь коммунистом. Именно эти слова могли бы стать своего рода эпиграфом ко всей трагически оборванной светлой жизни Николая Николаевича Крестинского.
148
«Сельская жизнь», 1988 5 марта
О. Акулова
Нарком Чернов
За последние годы мы узнали о нашей истории едва ли не больше, чем за предыдущие десятилетия. Причем о тех ее страницах, которые долго оставались «белыми пятнами». Этот трудный и откровенный разговор повела партия. Путь первой страны, строящей социализм, был полон сложностей и противоречий, героизма и драматизма.
Как известно, в тридцатые — сороковые годы были допущены грубейшие нарушения принципов социализма, массовым репрессиям подверглись невинные люди. Партия дала принципиальную оценку этим фактам. Многие обвинения — в особенности после XX съезда КПСС — были сняты. Но процесс не был доведен до конца. Сейчас в соответствии с решениями XXVII съезда партии, октябрьского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС он продолжен. Работает Комиссия Политбюро Центрального Комитета партии по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40 и начала 50-х годов.
Недавно Пленум Верховного Суда СССР, рассмотрев протест Генерального прокурора СССР, отменил приговор в отношении лиц, привлеченных в 1938 году к уголовной ответственности по делу так называемого «антисоветского право-троцкистского блока». Среди тех, с кого тяжкое обвинение теперь снято, Михаил Александрович Чернов — нарком земледелия СССР.
Кто был этот человек? Какой путь прошел, многое ли успел сделать в свои 47 лет? Как трудно теперь, спустя полвека забвения, ответить на эти вопросы!
«Чернов М. А. 1891 года рождения, уроженец Костром-
149
ской губернии, русский, гражданин СССР, с 1916 по 1920 год член партии меньшевиков, с 1920 года — член ВКП(б), с 1925 года нарком торговли Украины, член коллегии Наркомторга СССР, с 1934 года нарком земледелия СССР».
Эта небольшая справка из материалов следствия, пожалуй, то немногое, что сохранилось о нем. Уничтожены многие документы, изъяты выступления и статьи, не осталось в живых соратников по революционной борьбе. Круг журналистского поиска, очерченный поначалу широко, сужался, казалось, с каждым днем. «Нет, сожалеем, не сохранилось». — В голосе людей, откликнувшихся на телефонные звонки, слышалось чувство вины. Да, в пору репрессий правду прятали, тщательно убирая то, что могло ее открыть. Но проходят десятилетия, меняются поколения, и правда все равно торжествует — таков закон нашей жизни.
Неожиданно в ответ на наш запрос позвонили из библиотеки ВАСХНИЛ.
— Приезжайте, — радостно сообщила заведующая библиографическим отделом Т. И. Шейнина, — мы нашли несколько работ М. А. Чернова.
С волнением листаем рыжие от времени страницы брошюры «Организация хлебозаготовок и развертывание колхозной торговли», вышедшей в 1932 году. И оживает напряженный пульс той эпохи — первые успехи колхозов, радости и трудности коллективного труда, поиск путей социалистического хозяйствования.
«Почва, на которой только и может быть развита широкая активность колхозных масс и масс единоличников в борьбе за выполнение плана хлебозаготовок и все методы массовой работы — это широкая информация колхозных бригад, групп и отдельных колхозников обо всем, что касается хлебозаготовительной кампании, о постановлении партии и правительства, о ходе выполнения заданий...»
Касаясь стимулов ударного труда, М. А. Чернов пишет: «Социалистическое соревнование и премирование уже признаны всеми. Но беда в том, что о премировании либо забывают через некоторое время после обещания или постановления, либо премируют через такой срок, когда эффект и влияние такого премирования наполовину теряют силу. Надо премировать... ТОТЧАС ЖЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫЯВИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ, тотчас после того, как выполнена та работа, которая заслуживает премирования».
150
Как актуально звучат эти слова и сегодня! Близки и понятны нам и другие разработки М. А. Чернова — о необходимости выдвигать в актив рядовых колхозников, «умеющих драться за выполнение плана, беречь колхозное добро», о порочной практике уравниловки в планировании заготовок, о широкой гласности в работе, для которой «должны быть использованы печать, специальные собрания, производственные совещания, отчеты по распределению доходов, полевые газеты...»
Несомненно, Михаил Александрович Чернов был незаурядной личностью. Но все же печатные труды — немногие из сохранившихся — не дают полного представления о человеке, его характере. Судьба наркома земледелия оказалась жестокой. Достаточно привести вот эти лживые, сфальсифицированные обвинения судебного процесса 1938 года, прозвучавшие в речи государственного обвинителя А. Я. Вышинского:
«... 25.000 лошадей погублено по его заданию. В таких краях, как Сибирь, было уничтожено большое количество лошадей. Они специально подвивали рожу и чуму свиньям. Делали это в Воронежской области, и в Азово-Черноморском крае, и в Ленинградской области.
Задача поставлена просто — ослабить обороноспособность Красной Армии».
Отменой приговора Пленум Верховного Суда СССР 4 февраля 1988 года перечеркнул это чудовищное обвинение. Но восстановление доброго имени М. А. Чернова еще потребует немалых усилий ученых, историков. И тут, как и в правосудии, важен каждый документ, каждый факт. Поистине бесценными могут стать свидетельства очевидцев.
...Ниточку в поиске дал член Верховного Суда СССР М. А. Маров.
— Жива сестра Чернова, — сообщил он, — живет под Можайском, в совхозе «Александрово».
Зоя Александровна Очкина оказалась милой, приветливой женщиной, с живыми, совсем не старческими глазами. Но самое удивительное — это память человека, отмерившего 86 лет жизни, но сохранившего имена и фамилии, события и даты, будто все это было вчера.
— В нашей семье было шестеро детей, — начала рассказ Зоя Александровна. — Миша был старший, я самая младшая. Родители работали на Кинешемской ткацкой фабрике, мать в прядильном цехе, отец был мелкий служащий. Он так рано
151
умер, что я его почти не помню. Мать умерла сразу после революции.
Думаю, что революционное сознание Миши складывалось в нашей рабочей семье. В ней сызмальства трудились, а жили впроголодь, ютились в фабричной казарме, спали вповалку. Мать подрабатывала тем, что ходила доить коров к богатым фабричным служащим, а Миша, способный к наукам, много читавший, давал за плату уроки их закормленным сынкам.
Зоя Александровна говорила так, будто повторяла много раз рассказанное. Легкость и складность ее речи порою удивляли, ведь я знала, что пока никому из сторонних душу свою она не открывала. Видимо, говорилось и повторялось все это не вслух: годами память возвращала ее к тем дням, к тому человеку, имя которого полагалось забыть, а прошлое вытравить.
Михаил Александрович поступил в духовную семинарию, но через два года бросил учебу, не чувствуя никакой общности с религией. Поселился в Иванове, где, как можно предполагать, и приобщился к революционной работе. Именно в Иванове он был арестован царской охранкой.
Михаил жил своей жизнью. Не сразу узнали в семье, что он женился. Кто-то из друзей сказал, что экстерном сдал экзамены на физико-математический факультет Московского университета.
— После революции виделись мы редко, — продолжала Зоя Александровна, — но когда не стало матери, Михаил забрал меня и сестру к себе в Иваново. Мы сразу полюбили его жену Надежду Николаевну, фельдшера земской больницы. Дом был тесный, всегда много народу, но жили дружно. Помню в гости к брату приходили Фрунзе, Фурманов, но вот только о чем говорили, не вспомню теперь.
Вместе прожили недолго. Мария вскоре вышла замуж за человека много старше себя, революционера-подпольщика, друга Чернова, Якова Александровича Осипова. А вскоре и Зоя — за фабричного счетовода, комсомольца, отчаянного парня и непоседу Николая Очкина. Николай закончил курсы бухгалтеров и вскоре вместе с женой и дочкой укатили в Сибирь, стали работать в совхозе «Голышмановский» Тюменской области, он — бухгалтером, она — библиотекарем.
Вскоре узнали, что брат переехал на Украину, работает наркомом торговли республики. Связь между ними не преры-
152
валась. Была переписка. Зоя Александровна ездила навестить его в Харьков. У брата подрастали дети — Миша и Маша, сам он был счастлив, работа занимала его целиком, семья была дружной, любящей. Порадовалась Зоя Александровна и новому назначению брата — наркомом земледелия СССР.
— Помню, как внимательно читали мы его выступление на втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников, — говорит Зоя Александровна.
Здесь ее рассказ можно дополнить. Сохранилась стенограмма этого съезда, состоявшегося в феврале 1935 года. Доклад наркома земледелия СССР был посвящен работе комиссии по выработке примерного Устава сельскохозяйственной артели. Проект Устава был существенно изменен и дополнен, в частности, в вопросах более четкого раздела земли между колхозами, недопустимости чересполосицы, организации и оплаты труда, премирования и взыскания в зависимости от качества труда, предоставления больших льгот и возможностей для выдвижения на руководящие посты в колхозах женщинам.
Много говорилось в докладе о сочетании пользования приусадебным участком колхозника с его честной работой а общественном производстве. «Здесь могут быть два крайних пути, — сказал М. А. Чернов — один путь — ликвидировать приусадебные участки колхозников, другой путь — дать колхозникам такие приусадебные участки, что обработка этого участка отнимет у колхозника большую часть времени и тем самым будет мешать ему честно работать в обобществленном производстве колхоза. Тот и другой путь является неправильным, вредным... Нужно найти другую линию — линию, которая содействовала бы в первую очередь росту колхоза и вместе с тем удовлетворяла бы личные интересы колхозника».
— На местах тогда гнули свою линию — ничего на подворье не оставлять, — вспоминает Зоя Александровна. — Поэтому доклад наркома на съезде колхозников-ударников приняли с радостью.
— А сами-то вы как жили!
— По-разному. Дом у нас был, хозяйство держали, но, бывало, и голодали.
— Брат — нарком земледелия, — неловко пытаюсь объяснить я, — а вы в таких тяжелых условиях, в Сибири...
— Просить брата!! — Она в недоумении вскинула брови. —
153
У нас не было принято искать каких-то поблажек. Я даже знакомым не говорила, что брат нарком.
Михаил заезжал к сестре, когда ездил по Сибири «с комиссией», как говорит Зоя Александровна. Они долго говорили о деревне, о том, как «загоняют» людей в колхозы, как прибывают в Сибирь «ссыльные» кулаки, работящие, впрочем, люди. Брат больше слушал, хмурился, говорил, что ошибки в коллективизации будут исправлены.
— Это была ваша последняя встреча с братом?
— Нет, была еще одна. Совхоз наградил меня путевкой в Крым, я возвращалась из Алупки в августе 1937 года и заехала в Москву, погостить у Миши. Жили они в доме правительства на набережной. Трехкомнатная квартира, казенная мебель. Ни ковров, ни хрусталя. На Наде обручальное кольцо да золотые часики — вот и все украшения. Ютились все тесно — дети, внуки, племянники, вечно проезжавшие через Москву родственники и знакомые. Но, как всегда, жили дружно и согласно. Помню «пиршества» в доме Миши — картошка с селедкой и крепкий чай.
Из протокола допроса М. А. Чернова 2 марта 1938 года.
«ВЫШИНСКИЙ: А не припомните ли вы, сколько получили от немецкой разведки!
ЧЕРНОВ: Около 30 тысяч немецких марок и 150 тысяч советскими деньгами. Значительная часть была использована на мои личные нужды».
Пленум Верховного Суда СССР на своем заседании 4 февраля 1988 года отметил: путем угроз, насилия и обмана обвиняемых принуждали давать ложные показания на себя и других лиц.
В тот приезд Михаил Александрович отвез сестру на дачу в Барвиху, где проводил редкие часы отдыха, копаясь в земле, занимаясь с ульями.
— Мне он показался тогда усталым и озабоченным, — вспоминает Зоя Александровна, — а жена сказала, что у него «много врагов».
Это было время, когда Сталин выдвинул «теорию» обострения классовой борьбы в процессе строительства социализма. В стране создавалась атмосфера нетерпимости, вражды, подозрительности. Время ломало людей, даже очень сильных, очень волевых.
В 1937 году вышла брошюра М. А. Чернова «О введении
154
правильных севооборотов» — пожалуй, последняя из его работ.
«Наркомзем Союза ССР и его местные органы, — пишет М. А. Чернов явно под влиянием того времени, — не организовали соответствующего контроля за выполнением директив партии и правительства, проявили недопустимую для большевиков беспечность, которой воспользовались враги».
А речь шла всего лишь о том, что треть колхозов пока не освоила севообороты! Кто знает, что испытывал в те годы Чернов, какие переносил муки, усматривая под прессом того времени личную вину в происходивших негативных сдвигах?
...Мы выпили чаю, я засобиралась домой, видя, что Зоя Александровна устала.
— Подождите, мы не дошли до главного, — резко остановила она. — В 1938 году состоялся процесс. Я ему не верила. Миша не мог быть шпионом и изменником Родины, это клевета.
Когда арестовывали Михаила Александровича Чернова, в доме была его сестра Мария. Она рассказывала, что, уходя, он сказал жене: «Верь мне, я ни в чем не виноват. Береги детей». Надежда Николаевна бросила тем, кто уводил мужа: «Берите и меня!»
Вскоре арестовали и ее, последнее письмо от Надежды Николаевны было из Горьковской колонии. Арестовали и выслали по спецпереселению и детей Черновых — Марию и Михаила, зятя и невестку. Наташе, дочке Марии, исполнилось тогда всего девять месяцев, ее разлучили с матерью, девочку взял на воспитание кто-то из родственников мужа. Где она теперь?
Когда материал готовился к печати, она вдруг позвонила в редакцию — внучка М. А. Чернова Наталья Юрьевна, та самая Наташа. Живет в Москве, историк балета. «Недавно меня разыскала двоюродная сестра Надежда Михайловна Королева, дочь сына М. А. Чернова, — сообщила она. — Надежда живет в Харькове, она инженер. После стольких лет неизвестности узнать правду о дедушке, обрести сестру — это еще надо пережить...»
Внучки М. А. Чернова рассказали о судьбе своих родителей — его детей. Сын Михаил, актер Театра Красной Армии, был арестован в 1937 году в Хабаровске. Погиб в Магадане в 1942 году. Дочь Мария в 1938 году провела 3 месяца в тюрьме, на суде заявила, что все показания она дала «под давлением»,
155
ее отец, она сама оклеветаны, и в тот же день была расстреляна. Ей было 23 года.
Второй раз в жизни, спустя полвека, Надежда и Наталья встретились в Москве в тот самый день, когда для них неожиданно было объявлено о реабилитации их деда. У них выросли дети — тезка бывшего наркома Михаил и Татьяна. Род Черновых не иссяк.
— У вас осталось что-нибудь из переписки с братом, может быть, фотографии? — я снова обращаюсь к Зое Александровне.
— Ничего, — говорит она сквозь слезы. — Я все сожгла. Вы счастливее, что не знаете страха того времени.
4 марта 1938 года. Из газетной публикации: «Чернов и Зубарев использовали свое положение для массового отравления скота. Всеми средствами эти злые двуногие крысы портили урожай, отравляли клещом собранное зерно, губили хлеб в амбарах. Как воры, они пытались ограбить колхозника и превратить его трудодень в гроши».
13 марта 1938 года по делу был вынесен приговор. «За измену Родине в форме шпионажа, вредительство, диверсии и террористические акты» М. А. Чернов вместе с другими членами «антисоветского право-троцкистского блока» был присужден к расстрелу с конфискацией имущества.
...Зоя Александровна извинилась, что не может проводить — ноги отказывают, в последнее время передвигается только с палочкой.
— Поклонитесь от меня тем, кто добился правды, — говорит она на прощание. — Я верила, что такой день придет.
Горькую правду узнаем мы о нашей истории. Правдивый анализ должен помочь нам решить сегодняшние наши проблемы — всестороннего развития демократизации, законности, гласности, преодоления бюрократизма — словом, насущные задачи перестройки.
Иногда и в нашей редакционной почте встречаются письма с вопросом: «Стоит ли ворошить прошлое?» Стоит! Чтобы непоколебимой была наша вера в правду и справедливость. Чтобы каждый пострадавший от произвола и беззакония получил не только юридическую защиту, но и чисто человеческое уважение, признание, любовь. Чтобы все мы, а не только близкие невинно осужденных, сказав и услышав правду, вздохнули облегченно.
156
1988, «Неделя» № 7
Олег Темушкин, доктор юридических наук, заслуженный юрист РСФСР
Голос времени — голос истины
Заметки с Пленума Верховного Суда СССР
Перед глазами участников Пленумов Верховного Суда СССР проходят жизни и судьбы людей. И каждый раз, словно впервые, сжимается сердце, когда речь идет о людях, незаконно репрессированных во времена культа личности Сталина. Будто их тени входят в зал заседаний, чтобы увидеть, как потомки оценят их дела и свершения. Приходит, кажется, и сама История, интересуясь, возвращается ли справедливость, торжествует ли гуманизм. Тысячи «реабилитационных» дел рассмотрены за последние тридцать лет Верховным Судом СССР. И вот на заседании, открывшем последний Пленум, единогласно принято Постановление об отмене приговора и прекращении дела за отсутствием состава преступления в отношении Николая Ивановича Бухарина, Алексея Ивановича Рыкова, Аркадия Павловича Розенгольца, Михаила Александровича Чернова, Павла Петровича Буланова, Льва Григорьевича Левина, Игнатия Николаевича Казакова, Вениамина Адамовича Максимова-Диковского, Христиана Георгиевича Раковского, Петра Петровича Крючкова — членов так называемого «право-троцкистского блока». Ранее, на прошлых пленарных заседаниях, были реабилитированы еще 10 человек, осужденных по этому же делу.
Многие газеты уже рассказали и о процессе рассмотрения протеста Генерального прокурора по этому делу, и о людях, чьи честные имена вновь возвращены народу... Я же, как юрист, остановлюсь на правовой стороне этого процесса, на тех уроках, которые необходимо извлечь из него.
Рассматривая протест по делу «право-троцкистского блока», Пленум Верховного Суда СССР выполнил роль суда истории, и это не будет преувеличением. А раз это так, то да-
157
вайте спокойно разберемся: кто, как и за что судил Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и других?
Военную коллегию Верховного Суда СССР, слушавшую с 2 по 13 марта 1938 года это дело, возглавлял ее председатель — Ульрих В. В. Он носил в то время звание «армвоенюрист», что соответствует нынешнему званию генерал-полковника юстиции. В состав коллегии входили также И. О. Матулевич и Б. И. Иевлев. Фигура Ульриха, естественно, вызывает особый интерес.
Прямо говоря, назвать Ульриха судьей можно лишь со ссылкой на штатное расписание — так разнузданно он попирал самые простые нравственные и законодательные принципы правосудия.
Василий Ульрих занял пост председателя Военной коллегии Верховного Суда СССР в 1926 году после Валентина Андреевича Трифонова, старого большевика, честнейшего ленинца (кстати, отца писателя Юрия Трифонова).
Чрезвычайно замкнутый, необщительный человек, он не имел друзей, не общался с людьми. Его подпись «освящала» смертные приговоры практически по всем «делам» того трагического времени. До конца своих дней он не получал квартиры, занимая роскошный номер в «Метрополе». В 1948 году, видимо, наступило время, когда человек, столько знавший, должен был разделить судьбу своих жертв. Его переместили из Военной коллегии на незначительный пост в одном из военных учебных заведений... От расправы его спасла смерть в 1950 году.
Послушными, безгласными пешками выглядели рядом с Ульрихом два других члена Военной коллегии: во всем огромном томе стенографического отчета о процессе не найти их вопросов к обвиняемым, свидетелям, нет ни одного свидетельства их реакции на ход судебного заседания.
За прокурорской трибуной восседал А. Я. Вышинский. Его имя так же тесно связано со сталинскими репрессиями, как и имена Ежова, Берии, Ульриха. В прошлом — меньшевик, подписавший при Временном правительстве ордер на арест Ленина как немецкого шпиона, он в 1938 году изобличал как немецких же шпионов друзей и соратников Ильича... Вот какая это была последовательная в своей беспринципности личность.
Следствие по делу «право-троцкистского блока» вели органы НКВД. Им лично руководил новоиспеченный нарком — Н. И. Ежов, сменивший на этом посту Г. Г. Ягоду, арестован-
158
ного за «принадлежность» к тому же «право-троцкистскому блоку».
Воистину чудеса превращения: Ягода, под руководством которого сфабриковано множество провокационных дел, унесших жизни тысяч честных людей, теперь оказался причисленным к «вражескому» блоку. Очень уж нужна была постановщикам этого судебного фарса видимость чудовищной разветвленности преступной антисоветской организации.
Но причисление к этому «делу» Ягоды имело, как нетрудно догадаться, и другой смысл. Он уже исчерпал себя в организации прошлых процессов. Настало время заменить его другим «творцом» провокаций. Для этой цели был избран Ежов... Но вскоре и он стал «неугоден».
Наверное, стоит пояснить, почему же в отношении Ягоды «протест не приносился». Конечно, он не шпион, не диверсант, но его вина перед народом, партией в фабрикации многих дел неоспоримо доказана. Именно он превратил НКВД в инквизиторский карательный аппарат, именно он — одна из центральных фигур в организации убийства С. М. Кирова...
На чем основывалось следствие, что вменял подсудимым в вину прокурор? На этот вопрос можно ответить двумя цитатами. Первая — из обвинительного заключения, написанного 50 лет назад:
«...следствие считает, что... в 1932-33 годах по заданию разведок враждебных СССР иностранных государств обвиняемыми была создана заговорщицкая группа под названием «право-троцкистский блок», поставившая своей целью шпионаж в пользу иностранных государств, вредительство, диверсии, террор, подрыв военной мощи СССР, провокацию военного нападения на СССР, расчленение СССР и отрыв от него Украины, Белоруссии, Средне-Азиатских республик, Грузии, Армении, Азербайджана и Приморья на Дальнем Востоке... свержение существующего... общественного и государственного строя... «Право-троцкистский блок» организовал ряд террористических актов против руководителей ВКП(б) и Советского правительства и осуществил террористические акты против С. М. Кирова, В. Р. Менжинского, В. В. Куйбышева, А. М. Горького...».
Обвинительное заключение 1938 года практически слово в слово было переписано в приговор. Вторая цитата — из Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 4 февраля 1988 года:
159
«В деле отсутствуют доказательства вины X. Г. Раковского, М. А. Чернова и А. П. Розенгольца в шпионаже, а Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова в руководстве шпионской деятельностью указанных выше лиц. Проведенными компетентными органами проверками установлено, что сведений о связи кого-либо из осужденных с иностранными спецслужбами не имеется... Обвинение Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова в создании на Северном Кавказе... и других местах преступных групп для борьбы с Советской властью также ничем не подтверждено. По выводам суда эту деятельность Н. И. Бухарин и А. И. Рыков осуществляли якобы при участии бывших первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии В. Ф. Шаранговича, первого секретаря ЦК КП(б) Узбекистана А. Икрамова, председателя СНК Узбекской ССР Ф. Ходжаева, которые были осуждены по этому же делу. Все указанные лица осуждены были необоснованно и Верховным Судом СССР полностью реабилитированы...
Вывод о виновности осужденных в организации диверсионных и вредительских актов противоречит фактическим обстоятельствам дела и поэтому является необоснованным... Не содержится каких-либо объективных доказательств обвинения осужденных, в отношении которых внесен протест, в террористических актах. Причастность кого-либо из них к убийству С. М. Кирова не установлена, равно как не установлена причастность Н. И. Бухарина к подготовке в 1918 году убийства Ленина, Сталина и Свердлова, а также к покушению эсерки Каплан на жизнь В. И. Ленина».
Как видим, судить было не за что. Но были люди, которых надо было осудить. Почему именно их? Ответ на этот вопрос можно найти, если исходить из политической роли, которую играли в нашей революции ключевые фигуры процесса — Николай Иванович Бухарин и Алексей Иванович Рыков.
Николай Иванович Бухарин назван в энциклопедии 1929 года «одним из вождей и теоретиков ВКП, членом ее ЦК и Политбюро... членом Исполкома Коминтерна». Революционную деятельность начал еще в гимназии, а в 1906 году уже стал членом РСДРП. Неоднократно арестовывался царской охранкой, сослан... Редактор «Правды», «Известий», серьезнейший партийный идеолог и публицист, литератор, академик.
Бухарин не раз вступал в теоретические споры с Лениным, но всегда, убедившись в правильности идей и действий Владимира Ильича, признавал свои ошибки.
«Важную роль в идейном разгроме троцкизма, — отме-
160
тил в своем докладе «Октябрь и перестройка: революция продолжается» М. С. Горбачев, — сыграли Н. И. Бухарин, ф, Э. Дзержинский, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, Я. Э. Рудзутак и другие».
Многое из того, что сказано о Бухарине, можно отнести и к Алексею Ивановичу Рыкову. Один из старейших (с 1898 года) членов партии, соратник и заместитель В. И. Ленина по СНК РСФСР, впоследствии заменивший Владимира Ильича на посту председателя СНК СССР. Вступив на путь революционной борьбы в начале XX века, А. И. Рыков тоже не раз оказывался в различных оппозициях, но затем всегда возвращался на ленинскую платформу. Неизменно член ленинского ЦК с 1917 года, член Политбюро с 1919 по 1929 год; в момент ареста Алексей Иванович занимал пост наркома связи СССР...
Так за что же именно им выпал роковой жребий?
Ответ дает еще один абзац из Постановления Пленума Верховного Суда СССР:
«На разных этапах революционного обновления страны Н. И. Бухарин и А. И. Рыков занимали иногда ОСОБЫЕ ПОЗИЦИИ в оценке политического момента, расстановки классовых сил, путей строительства социализма в СССР. Некоторые из их взглядов, а в ряде случаев и практическая деятельность были расценены руководящими органами ВКП(б) как ошибочные и неправильные. Однако эти ошибки, признанные в свое время Н. И. Бухариным и его сторонниками, сами по себе не образуют состава преступления».
«Особые позиции» выделены мною в тексте не случайно. Конечно, не за участие в дискуссии о профсоюзах судили Бухарина. Не за выход из СНК 4 ноября (по старому стилю) 1917 года и несогласие с Лениным по вопросу об «однородном социалистическом правительстве» судили Рыкова.
Процесс над виднейшими деятелями партии и правительства, какими были в сознании многих людей и Н. И. Бухарин, и А. И. Рыков, нужен был И. В. Сталину для окончательного утверждения своей безграничной власти в партии. Ведь Бухарин и Рыков выражали несогласие по ряду позиций со Сталиным; они, немногие из оставшихся к тому времени деятелей ленинской гвардии, имели смелость «свое суждение иметь», в чем-то перечили «отцу народов».
Но вернемся к вопросам правовым.
«Военная коллегия Верховного Суда СССР в нарушение закона в приговоре по данному делу не привела конкретных
161
доказательств виновности Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова.., — говорится в Постановлении Пленума Верховного Суда, — в совершении особо опасных государственных преступлений, сочтя достаточными их показания на предварительном следствии и в суде, в которых они в общей форме признавали свою вину в преступной деятельности. При оценке этих показаний органами следствия и судом игнорировано важнейшее требование закона о том, что никакие доказательства, в том числе и признание обвиняемым вины, не имеют заранее установленной силы и могут быть положены в основу обвинительного приговора лишь при подтверждении совокупностью других доказательств. По данному делу показания обвиняемых... противоречивы, не соответствуют фактическим обстоятельствам и получены в результате грубых нарушений законности в процессе предварительного следствия и судебного разбирательства».
Да, Военная коллегия под председательством Ульриха твердо придерживалась принципа «признание обвиняемого — царица доказательств». Этот принцип славно действовал во времена средневековья и был надежным орудием инквизиторов в борьбе с ведьмами. Теперь его оживил Вышинский (в книжке Вышинского «Теория судебных доказательств в советском уголовном процессе», удостоенной Сталинской премии, содержалось теоретическое обоснование этого принципа).
О том, как велось следствие, говорят показания, данные в 1956 году бывшим начальником санчасти Лефортовской тюрьмы НКВД СССР Розенблюм:
«Крестинского (Николай Николаевич Крестинский — на момент ареста первый заместитель наркома иностранных дел СССР; осужден по этому же процессу, реабилитирован Верховным Судом СССР в 70-е годы. — Авт.) с допроса доставили к нам в санчасть в бессознательном состоянии. Он был тяжело избит, вся спина представляла из себя сплошную рану, на ней не было ни одного живого места. Пролежал, как я помню, он в санчасти три дня в очень тяжелом состоянии».
В протесте Генерального прокурора СССР так говорится о нарушениях социалистической законности в ходе предварительного следствия по делу «блока»:
«После ареста Н. И. Бухарину, А. И. Рыкову и другим в
162
течение нескольких месяцев обвинение не предъявлялось, срок следствия и содержания под стражей не продлевался.
Проверкой... установлено, что многие протоколы допросов обвиняемых, очных ставок и другие процессуальные документы фальсифицированы. Путем угроз, насилия и обмана обвиняемых принуждали давать ложные показания.
На первоначальных допросах Н. И. Бухарин виновным себя не признал, поясняя, что имел разногласия с И. В. Сталиным по конкретным политическим и экономическим вопросам, однако ни террористической, ни шпионской, ни иной противозаконной деятельностью не занимался. Протоколы этих допросов к делу не приобщались, находились в специальном хранилище и были обнаружены лишь в 1961 году...
К делу же приобщались заранее напечатанные протоколы допросов лишь в тех случаях, когда обвиняемые признавали вину и подписывали такие протоколы. В том случае, если обвиняемый... отказывался от ранее данных угодных следствию... показаний, применялись угрозы, запугивание, зачастую — прямое насилие и иные незаконные меры».
Тяжко читать такое, ведь за скупыми строчками — боль, кровь и нестерпимое унижение многих невинных людей.
Осужденный в 1940 году за фальсификацию уголовных дел подручный Ежова, бывший замнаркома внутренних дел Фриновский всего через 13 месяцев после смерти многих осужденных по делу «блока» заявил, что работники НКВД готовили арестованных к очным ставкам, обсуждая возможные вопросы и ответы на них. После такого «обсуждения» арестованного вызывал сам Ежов, чтобы получить подтверждение данных показаний и обещание не менять их в процессе очной ставки... Если же арестованный отказывался от прежних показаний, то Ежов «возвращал» его следователю с указанием «восстановить», что означало — добиться прежних, ложных, показаний.
Под стать следствию был и суд.
Сама форма его ведения нарушала установленный Уголовно-процессуальным кодексом порядок.
Председательствующий Ульрих начинал допрос каждого подсудимого с фразы: «Вы подтверждаете свои показания на предварительном следствии?», хотя закон предписывал, что судья должен в начале допроса спросить у обвиняемого, признает ли он свою вину в тех преступлениях, за которые привлекается к уголовной ответственности, а затем предо-
163
ставить возможность рассказать об обстоятельствах дела... Видно, тому суду это было не нужно — сотня с лишним томов «дела» состояла сплошь из «признаний»...
Из Постановления Пленума Верховного Суда СССР:
«При рассмотрении дела было нарушено право обвиняемых на защиту. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, А. П. Розенгольц, М. А. Чернов, X. Г. Раковский, П. П. Буланов, В. А. Максимов-Диковский, П. А. Крючков были лишены квалифицированной юридической помощи и вынуждены взять защиту своих интересов на себя. Все они не принимали участия в судебных прениях, поскольку им было предложено совместить защитительную речь с последним словом».
Право подсудимого на защиту в суде — незыблемое, установленное еще древнеримскими юристами — здесь было нарушено. То самое право, что гарантировала Конституция СССР 1936 года. Да, внешне все выглядело «пристойно» — обвиняемые вроде бы сами отказались от адвокатов. Постановщики судебного фарса, видимо, позаботились об этом заранее. Зачем рисковать? Ведь сам факт, что у государственного обвинителя может появиться соперник, что хоть одно слово обвинения может быть поставлено под сомнение, что «грязная вода» следствия станет для всех очевидной, — пугал организаторов процесса.
Защитительные речи обвиняемых, совмещенные с последним словом, звучали беспомощно. Тем более после того, как Вышинский в самых диких выражениях потребовал смертной казни для всех обвиняемых.
И все-таки. Н. И. Бухарин нашел в себе мужество постараться разоблачить беззаконие, жертвой которого стал. В последнем своем слове он, как говорится в Постановлении Пленума, «заявив в общей форме о признании своей вины, фактически так изложил обстоятельства дела, что они свидетельствовали как о его невиновности, так и о невиновности всех остальных...»
Вот некоторые строки из этого выступления. Они дают представление обо всей речи.
«Мы, подсудимые, сидим по другую сторону барьера, и этот барьер отделяет нас от вас, граждане судьи. Мы очутились в проклятых рядах контрреволюции, стали изменниками социалистической Родины.
Тем не менее, я считаю себя вправе опровергнуть некоторые обвинения...
164
Я признаю себя ответственным, и политически, и юридически за пораженческую ориентацию, ибо она господствовала в вправо-троцкистском блоке», хотя я утверждаю: ...лично я на этой позиции не стоял...
Гражданин Прокурор разъяснил в своей обвинительной речи, что члены шайки разбойников могут грабить в разных местах и все же ответственны друг за друга. Последнее справедливо, но члены шайки разбойников должны знать друг друга, чтобы быть шайкой, и быть друг с другом в более или менее тесной связи. Между тем, я впервые из обвинительного заключения узнал фамилию Шаранговича... Впервые узнал о существовании Максимова. Никогда не был знаком с Плетневым, никогда не был знаком с Казаковым...
...Я категорически отрицаю, что был связан с иностранными разведками, что они были хозяевами надо мной и я действовал, выполняя их волю.
Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова.
Я отвергаю обвинение в покушении на Владимира Ильича...
Дело, конечно, не в этих раскаяниях, и в том числе, не в моих личных раскаяниях. И без них суд может вынести свой приговор. Признания обвиняемых необязательны. Признания обвиняемых есть средневековый юридический принцип.
С этим сознанием я жду приговора».
Нельзя не сказать и о том, как готовилось к процессу общественное мнение.
В день начала процесса — 2 марта — центральные газеты вышли с передовыми, где перечислялись «преступления» «право-троцкистского блока» и содержался призыв к физическому уничтожению «банды кровавых собак» (это из лексикона А. Я. Вышинского). На следующий день три четверти газетной площади было отдано призывам типа «Одного обвинительного заключения достаточно, чтобы расстрелять гадов!». Публиковались письма рабочих, колхозников, видных ученых и военных, в которых содержались не менее решительные предложения...
Военная коллегия в ходе судебного следствия, в приговоре, нарушив требования закона, вышла за пределы обвинения. Что это значит?
Многих «эпизодов», составивших немалую часть приговора, в обвинительном заключении попросту нет. Они «вскрылись»
165
в ходе так называемого судебного следствия, когда подсудимые, загнанные иезуитскими вопросами Вышинского в угол, начинали оговаривать себя, своих товарищей — живых и уже мертвых — в новых преступлениях. По закону в таких случаях суд обязан был вернуть дело на доследование. Но для Ульриха, Вышинского и тех, кто стоял за их спиной, «условностей», содержащихся в законе, не существовало. Упомянув о том, что был некто, стоявший за спинами судей, я должен сделать отступление.
Мне не раз приходилось сталкиваться с мнением, что в массовых репрессиях 30—50-х годов виновны Ягода, Ежов, Берия, Абакумов, Мехлис, Вышинский, Каганович, Шкирятов, словом — кто угодно, только не Сталин. Это мнение держится стойко.
«Иногда утверждают, что Сталин не знал о фактах беззакония. Документы, которыми мы располагаем, говорят, что это не так. Вина Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные массовые репрессии и беззакония огромна и непростительна. Это урок для всех поколений», — так ответил на этот вопрос М. С. Горбачев в докладе, посвященном 70-летию Октября.
Пленум Верховного Суда СССР подвел черту под «делом» Бухарина.
«В связи с грубейшими нарушениями закона на предварительном следствии и в процессе судебного разбирательства, показания осужденных не могут быть положены в основу вывода об их виновности. Других же доказательств... в деле не содержится».
Никто из осужденных по делу «право-троцкистского блока» не дожил до сегодняшнего дня. 18 человек, приговоренные Военной коллегией к смертной казни, были расстреляны через два дня после оглашения приговора. Трое же, осужденных к длительным срокам тюремного заключения — Плетнев, Раковский и Бессонов, — погибли позже.
Находясь в тюрьме, в мае 1941 года, Христиан Георгиевич Раковский, выдающийся советский дипломат, перед арестом — начальник управления Наркомздрава РСФСР, сказал работнику НКВД Аронсону:
«До сих пор я просил лишь о помиловании, но не писал о самом деле. Теперь я напишу заявление с требованием о пересмотре моего дела, с описанием всех «тайн мадридского
166
двора»... Пусть хоть народ, через чьи руки проходят всякие заявления, знает, как «стряпают» дутые дела и процессы из-за личной политической мести. Пусть я скоро умру, пусть я труп, но помните... когда-нибудь и трупы заговорят».
* * *
Возвращаясь, теперь уже мысленно, к «делу «право-троцкистского блока», я всерьез задумывался — так для кого же принято последнее решение по этому «делу»?
И отвечал себе: для жен и детей, до последнего дня носивших страшное, хотя и поистершееся за пятьдесят лет клеймо «родственников врагов народа». Для тех, кто долгие годы заблуждался, поддавшись гипнозу культа личности. Но, главное, не «для», а «ради» — РАДИ ИСТИНЫ, РАДИ ТОРЖЕСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Справедливости, которая восстановлена теперь навечно.
167
«Огонек», 1988 № 17
Н. Бухарин
Будущему поколению руководителей партии1
Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно.
Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК, когда революционная идея руководила всеми ее действиями, оправдывала жестокость к врагам, охраняла государство от всяческой контрреволюции. Поэтому органы ЧК заслужили особое доверие, особый почет, авторитет и уважение. В настоящее время, в своем большинстве, так называемые органы НКВД, эта переродившаяся организация безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников, которые, пользуясь былым авторитетом ЧК, в угоду болезненной подозрительности Сталина, боюсь сказать больше, в погоне за орденами и славой, творят гнусные дела, кстати, не понимая, что одновременно уничтожают самих себя — история не терпит свидетелей грязных дел!
Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные органы» могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, диверсанта, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно.
Грозовые тучи нависли над партией. Одна моя, ни в чем не повинная голова потянет еще тысячи невиновных. Ведь нужно же создать организацию, «бухаринскую организацию», в действительности не существующую не только теперь, когда вот
____________________
1 Текст письма-завещания, продиктованного Н. И. Бухариным своей жене А. М. Лариной перед арестом.
168
уже седьмой год у меня нет и тени разногласия с партией, но и не существовавшую тогда, в годы правой оппозиции. О тайных организациях Рютина, Угланова мне ничего известно не было. Я свои взгляды излагал вместе с Рыковым, Томским открыто.
С восемнадцатилетнего возраста я в партии, и всегда целью моей жизни была борьба за интересы рабочего класса, за победу социализма. В эти дни газета со святым названием «Правда» печатает гнуснейшую ложь, что якобы я, Николай Бухарин, хотел уничтожить завоевания Октября, реставрировать капитализм. Это неслыханная наглость, это — ложь, адекватна которой по наглости, по безответственности перед народом была бы только такая: обнаружилось, что Николай Романов всю свою жизнь посвятил борьбе с капитализмом и монархией, борьбе за осуществление пролетарской революции.
Если в методах построения социализма я не раз ошибался, пусть потомки не судят меня строже, чем это делал Владимир Ильич. Мы шли к единой цели впервые, еще непроторенным путем. Другое было время, другие нравы. В «Правде» печатался дискуссионный листок, все спорили, искали пути, ссорились и мирились, и шли дальше вперед вместе.
Обращаюсь к вам, будущее поколение руководителей партии, на исторической миссии которых лежит обязанность распутать чудовищный клубок преступлений, который в эти страшные дни становится все грандиознее, разгорается, как пламя, и душит партию.
КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПАРТИИ ОБРАЩАЮСЬ.
В эти, может быть, последние дни моей жизни, я уверен, что фильтр истории, рано или поздно, неизбежно смоет грязь с моей головы.
Никогда я не был предателем, за жизнь Ленина без колебаний заплатил бы собственной. Любил Кирова, ничего не затевал против Сталина.
Прошу новое, молодое и честное поколение руководителей партии зачитать мое письмо на Пленуме ЦК, оправдать и восстановить меня в партии.
Знайте товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови.
169
«Комсомольская правда», 1988, 14 мая
З. Ерошок
Отцы и дети
31 мая 1937 года Вета Гамарник
узнала о смерти отца.
Ей, дочери «врага народа»,
предстоит прожить нелегкую жизнь
С Викторией Яновной Гамарник, в замужестве Кочневой, меня познакомил Григорий Устинович Дольников, прославленный летчик, Герой Советского Союза, генерал-полковник в отставке.
Однажды генерал мне сказал:
«Что касается исторической осведомленности, то мы в своем прошлом до недавнего времени видели только блистательные победы и сияющие вершины, а от всего горчайшего, что выпало на долю народа, стыдливо отворачивались. Народ воспринимался фоном истории, безликим и однообразным. Понадобились десятки лет, прежде чем средь этого фона стали различать отдельных людей, лица».
Меня встречает красивая седая женщина.
Рассказать об отце? Раньше его знала вся страна. Сейчас есть уже необходимость в биографической справке.
В 1916 году вступает в партию большевиков. В марте 1917 года возглавляет легальный комитет большевиков в Киеве. Ему в ту пору 23 года. В 25 лет — член Реввоенсовета Южной группы войск 12-й армии. Есть документ, свидетельствующий о высокой оценке действий и побед Южной группы Владимиром Ильичем Лениным. За личное мужество и умелое руководство войсками в этом походе командующий И. Э. Якир, член Реввоенсовета Я. Б. Гамарник и другие были награждены орденом Красного Знамени. Тридцатилетним он возглавил
170
Дальневосточный райком партии. Впоследствии — секретарь ЦК Белоруссии. С октября 1929 года — начальник Главного политического управления Красной Армии.
По решению ЦК партии и Совнаркома Ян Борисович ежегодно на 4—6 месяцев оставлял свой служебный кабинет в ПУРе и отправлялся в поездку по Дальнему Востоку. На нем, уполномоченном ЦК ВКП(б), лежало руководство промышленным и оборонным строительством на Дальнем Востоке. У писателя П. А. Павленко в романе «На Востоке» есть такое место: «В декабре прошлого года приехал из Москвы невысокий бородатый человек с мрачным лицом и добрыми глазами. Он приказал снарядить самолет на север и, посмотрев планы закладки города, сказал твердо: «Город начнем вот здесь, в тайге на Нижнем Амуре». Это о Яне Борисовиче, об основании Комсомольска-на-Амуре. С июля 1930 года — зам. председателя Реввоенсовета СССР и первый зам. наркома обороны по военным и морским делам. Член ЦК партии. Воинское звание: армейский комиссар первого ранга. Его называют «совестью армии».
Все стены небольшой комнаты Виктории Яновны — в портретах отца.
Портреты Яна Борисовича Гамарника пересняты по просьбе Виктории Яновны в 1956 году с лент кинохроники. В 1937 году все настоящие фотографии были изъяты при обыске и пропали безвозвратно.
Моя собеседница вспоминает, я записываю. «Мы отдыхали с папой в Сочи. Я сидела на террасе дачи и читала. Неожиданно в дверях появился Сталин. Я, не поднявшись, протянула ему руку. Пришел папа, и они уединились в кабинете. Когда Сталин ушел, папа сказал: дело не в том, что это Сталин, вошел человек во много раз старше тебя, а ты не соизволила встать. Шел тридцать шестой год. Папа мог бы сказать: сам Сталин зашел, а ты! Но сказал: дело не в том, что это Сталин...».
«На похоронах Серго Орджоникидзе папа стоял в почетном карауле, а я за стульями, где сидели Зинаида Гавриловна и Этери, жена и дочь Орджоникидзе. Помню, я очень плакала. Мама ругала папу, что он взял меня с собой. «Серго был такой человек, такой большевик, о котором нужно и можно плакать», — сказал папа. Серго Орджоникидзе застрелился 18 февраля 1937 года. Мой папа — 31 мая 1937 года».
За два дня до смерти Гамарника на вокзале в поезде на глазах у встречающей жены арестовали Иеронима Петровича
171
Уборевича, командующего войсками Белорусского военного округа. Его дочь Мира и Вета были молочными сестрами. Мама Веты после родов заболела, и кормила Вету Нина Владимировна Уборевич, Мирина мама. Мира и Вета были одногодки, учились в одном классе, жили в одном доме по Большому Ржевскому, 11. О том, что Мирин папа арестован, сообщения в газетах не было, и в классе об этом знали только Мира и Вета. А о Гамарнике прочитали, конечно, все. Однако в школе Вету встретили как ни в чем не бывало.
Хоронили Яна Борисовича Гамарника 2 июня 1937 года. Хоронили втроем — Вета, ее мама и шофер Семен Федорович Панов.
Наступила минута прощания, Вета подошла к отцу. Он будто спал. В военной форме (но без орденов, ордена уже отобрали), лицо совершенно спокойное, прекрасное бледное лицо.
2 июня был день рождения Яна Борисовича. Ему исполнилось бы 43 года.
Никакого места праху Гамарника в крематории определено не было. Гамарник (как и многие люди в то время) должен был исчезнуть с лица земли бесследно, в никуда. Без права на память.
10 июня 1937 года жену Яна Борисовича и дочь сослали в Астрахань. Вместе с ними в Астрахань были сосланы жены и дети Уборевича, Тухачевского и других военных.
1 сентября 1937 года дети пошли в астраханскую школу. Через пять дней арестовали их мам, а самих детей отправили в астраханский детприемник. Потом — в детдом. Мира Уборевич, Вета Гамарник и Света Тухачевская попали в один детдом. Нижне-Иссетский, что в восьми километрах от Свердловска.
В течение года Вета, Мира и Света переписывались с мамами, которые сидели в это время в Темниковских лагерях (Мордовия). Через год переписка оборвалась навсегда. Спустя восемнадцать лет стало известно: мамы были расстреляны.
Друзья поддерживали издалека. Ира Голямина, Игорь Купцов, Габор Рааб, Гриша Родин, Виринея Каминская, Ноля Митлянский, Юра Дивильковский — писали из Москвы, из дома.
Над столом у каждого висела карта Испании. Все они рвались в Испанию, чтобы сражаться с фашизмом и победить его.
О многом друзья из Москвы в своих письмах писали, но, наверное, о стольком же и молчали. Молчали о том, что у Габора Рааба арестовали отца (Габор был сыном политическо-
172
го эмигранта венгерского коммуниста, племянником Мате Залка), и Габор ходил потерянный и не хотел жить; директор 110-й школы Иван Кузьмич Новиков назначил тогда Габора председателем учкома школы, заставлял его много работать, гонял, хвалил, ругал, тормошил. И спас: ожил Габор. Молчали ребята и о свинцовой тяжести страха, который навис почти над каждым домом, каждой семьей.
Иван Кузьмич Новиков вел в 110-й школе «Час газеты». Он учил ребят читать «между строк»: за словами слышать и видеть многое — жизнь! Когда Новиков вдруг пропадал, в школе говорили: «Кузьмич дочитался «между строк»...».
Однажды Нолька Митлянский прислал Вете в детдом письмо, где сообщил следующее: «Был на параде. Генералам выдали сабли». Сказались уроки Ивана Кузьмича! Вета должна была прочитать «между строками»: Тухачевский, Уборевич, Гамарник и т. д. среди прочего призывали в подготовке к будущей войне не уповать во всем на конницу. Но за конницу — «не замай!» — стояли Ворошилов и Буденный. Точку зрения последних разделял и Сталин.
Даниэль Митлянский, известный скульптор, средь вороха стихов, рисунков, пожелтевших писем времен войны и до войны пытается найти для меня школьную фотографию Веты Гамарник.
«Нет, мы от Ветки отказаться никак не могли. Это было бы безобразие. Черт знает, что такое. А спас нас от этого безобразия Новиков. Конечно, он был гениальным директором. Пройдет много времени, и мы узнаем о категорических указаниях Новикову из роно: «прорабатывать детей «врагов народа», и о не менее категорических отказах Новикова, мотивированных очень просто: «Это непедагогично, и я это делать не собираюсь», а тогда, в тридцать седьмом, помню, он собрал наш класс и рассказал о «деле военных». К детям их мы должны быть предельно внимательны и добры; дети невинны, сказал он».
Фотографии Веты Гамарник школьного возраста неожиданно находятся в доме у Ирины Голяминой, ныне кандидата физико-математических наук, физика-акустика.
«Ветка была нашим другом. С первого класса. Мы ее знали, любили. Это нормально, что мы не отвернулись. Ненормальностей и без нас в то время хватало. Когда Ветка со своей мамой была сослана в Астрахань, мы тут же взялись усердно переписываться. Мы писали друг другу очень нежные письма. Это, значит, было лето тридцать седьмого года. Так
173
вот мою маму вызвали на Лубянку и сказали, что переписываться мне и Вете нельзя. Я, конечно, переписывалась с Веткой, все восемнадцать лет, что не было ее в Москве. Мама моя знала об этом. Но слова мне против не сказала».
Мешал ли им страх? Мешал. Но! «Против страха надо сразу принимать меры, едва он в тебе завелся».
«Однажды нас с Мирой пригласили в райком комсомола,— вспоминает Виктория Яновна. — Ясноглазый, розовощекий секретарь без всяких слов забрал наши комсомольские билеты и положил себе в стол. В явном замешательстве мы спросили: за что? «Как — за что? Какое право вы, дочки врагов народа, имеете носить комсомольские билеты?» Не помню, как дошли до детдома, от слез не разбирали дороги. В детдоме на комитете комсомола ребята нам заявили: все будет по-прежнему, с вами ничего не произошло, вы будете комсомольцами для нас и для себя всегда. Так и было. Мы по-прежнему выполняли свои поручения, были вожатыми в пионерских отрядах, ходили мы на собрания. Кто был в том комитете комсомола? Ваня Лощановский, Миша Примак, Миша Юрьев. Они потом на войне погибли».
Стихотворение семнадцатилетнего Григория Родина, написанное им в сорок первом году:
«Я вышел на улицу.
Лето
Навстречу мне выслало
зной,
Я думал, сегодня
в газете
Прочту я про новый
разбой.
Война, как огромная
птица,
Полёт над землей
начала,
И в тысячах жертв
отразится
Дыханье стального
крыла.
Все то, что ум
человечий
Веками придумать
сумел,
174
Сметет кровавой
картечью
И грохотом пушечных
жерл.
А кто подсчитает
потери?
Кто горе людское
учтет?
Откройтесь, небесные
двери,
В вас много народу
войдет».
Света Тухачевская, Мира Уборевич, Вета Гамарник очень просились на фронт. Не пустили. Дочкам «врагов народа» не было доверия.
Когда началась война, Вета пошла работать в Свердловский госпиталь. Там и познакомилась с лейтенантом Валентином Кочневым.
«Везде были люди. Потому мы и выжили. В войну архитектурный институт, где я училась, эвакуировали в Ташкент, — говорит Владимира Иеронимовна Уборевич. — В Ташкенте я год жила у Елены Сергеевны Булпековой. Елена Сергеевна была дружна с моей мамой. Елене Сергеевне самой практически не на что было жить, с нею был ее младший сын Сережа. А тут еще я. Но она меня приняла, как родную».
Даниэль Митлянский на войне остался жив и невредим. Смерть его миновала, хотя воевал он исправно и мог бы быть убит в любую минуту, но такова была его судьба: уцелеть. Спустя двадцать шесть лет скульптор Даниэль Митлянский в бронзе вернет жизнь своим одноклассникам Игорю Купцову, Габору Раабу, Грише Родину, Юре Дивильковскому, и будут мальчики во дворе своей 110-й школы стоять вечно, юные, с цыплячьими шеями, в шинелях, со штыками за спиной.
В семьи к погибшим одноклассникам ходили все, кто остался жив, кто был в Москве.
Валентина Кочнева исключили из партии: «за потерю бдительности», то есть за то, что женат на дочери «врага народа». Вета, написав несколько писем, повезла их в Москву. Одно из писем было «лично товарищу Сталину». Это письмо Вета вместе с Ирой Голяминой отнесли к Спасским воротам Кремля, отдали в комендатуру. Шел сорок девятый год. В письме «лично
175
товарищу Сталину» Вета писала: «Надо — сажайте меня, но при чем тут мой муж? Он воевал, он имеет семнадцать благодарностей лично от Вас, товарищ Сталин, он награжден орденами и медалями, он потерял на войне отца и брата, в чем же он провинился перед Отечеством?» Через две недели в Пензенском обкоме партии Валентину Кочневу вернули партбилет. А еще через две недели пришли за Ветой.
Ее письмо было «услышано»: мужа в партии восстановили, ее посадили.
В сорок девятом у них уже было две дочки — двух и шести лет.
За Ветой пришли и спросили: «Оружие есть?» — «Есть. Пулемет в подполе». Кинулись в подпол. Взбешенные вернулись: «Издеваться изволишь?» Вета улыбнулась. Потом надела свое детдомовское пальто и направилась к двери. «Вета, — сказал муж, — давай хоть попрощаемся». Вернулась, поцеловала. На войне, за форсирование Днепра, лейтенанта Кочнева представили к Звезде Героя, но не дали эту награду. Из-за нее, Веты. После войны, в сорок шестом, Валентин Кочнев поступал в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, в Москве. Сдал все экзамены на «отлично». В академию его не приняли. Не пропустила мандатная комиссия. Из-за нее, Веты. Когда Вета была уже арестована, муж Валиной сестры пришел и стал уговаривать Валентина отречься от Веты: «Сколько она горя тебе принесла, а сколько еще принесет?» Мария Ивановна Кочнева, Ветина свекровь, услышав эти слова вытолкала зятя вон. «Валька! — сказала она потом сыну. — Держись за Ветку. Она — твое счастье».
А «счастье» в это время уже год как сидела во внутренней тюрьме в Пензе. Три с половиной месяца одиночки, бесконечные ночные допросы. Кому — отбой, спать, а ей — на допрос. Приводят в камеру утром. Лежать нельзя, ходить, сидеть — но только так, чтобы в глазок было видно твое лицо, и — не дремать, не положено! И вот решение Особого совещания. Десять лет ссылки в Красноярский край. Статья расшифровывалась так: социально опасный элемент. Речь шла о девицах легкого поведения. С этими девицами она и ехала в «столыпинском вагоне», где двери отсутствовали, вместо них были решетки. В обычном купе помещалось 19 человек, 18 девушек, что осаждали «Метрополь», и она, Вета Гамарник. В дороге — ржавая селедка, и совсем мало воды. Одна женщина была в положении. Она мучилась ужасно. На перронах ставили на колени. И конвоиры с собаками.
176
Приехали в село Тассеево, что в 150 километрах от Канска, Красноярского края.
Для работы два места: леспромхоз и кирпичный завод. Обрубка сучьев по пояс в снегу или тяжеленные носилки с кирпичами.
Ира Голямина, Виринея Каминская, Даниэль Митлянский из Москвы слали Вете письма и посылки с едой и теплыми вещами.
...В Красноярске родилась Лена. Жили в отгороженном фанерой закутке. По ту сторону фанеры — бочки с помоями для хозяйских свиней и коровы. Дважды Лена там умирала...
...Мы с Викторией Яновной едем к дому № 11 в Большом Ржевском переулке.
«Папе много раз предлагали переехать в Дом на набережной. «Та, его миновавшая чаша...» Никого ничто не миновало. Папа застрелился. Из окон Дома на набережной каждую ночь люди выбрасывались», — тихо говорит Виктория Яновна.
...Мы возвращаемся на квартиру Виктории Яновны. Говорим до вечера. Приходит с работы Лена. Я вижу, как она похожа на деда.
Звонит Владимира Иеронимовна Уборевич. Вечером они с Викторией Яновной идут на тридцатилетие Нины Тухачевской, дочери Светланы Михайловны. Светлана Михайловна умерла несколько лет назад.
«По возвращении из ссылки, — вспоминает Виктория Яновна, — мне очень помог Анастас Иванович Микоян. До 31 мая 1937 года мы жили на одной даче с семьей Микояна. У него было пять сыновей, пять моих закадычных друзей. Мой ровесник Володя Микоян погиб на войне. Степан, Серго, Ваня, Алеша — были и остаются мне дорогими людьми. Умер недавно Алексей Микоян, генерал-лейтенант, заслуженный летчик, человек, который всю жизнь делал людям добро, и даже, будучи уже тяжело больным, перед самой смертью, он поднимался и шел помогать: привозил лекарства, «выбивал» квартиру, устанавливал телефоны, а скольких молодых летчиков выручал!... Анастас Иванович после ссылки помог мне и Мире деньгами, квартирой, заботой. Никита Сергеевич Хрущев, знаю, обогрел семью Якира. Не думайте, что, мол, ну, тогда уже было можно... Не все, далеко не все кидались к нам на помощь даже когда стало можно. Климент Ефремович Ворошилов в то же время отказался принять Светлану Тухачевскую. Не знаю уж, почему. Может, не хватило мужества посмотреть Светлане в глаза?..»
177
Из приказа народного комиссара обороны СССР № 96 от 12 июня 1937 года:
«...11 июня перед Специальным Присутствием Верховного Суда Союза ССР предстали главные предатели и главари этой отвратительной изменнической банды: Тухачевский М. Н., Якир И. Э., Уборевич И. П., Корк А. И., Эйдемэн Р. П., Фельдман Б. М., Примаков В. М. и Путна В. К.
Верховный Суд вынес свой справедливый приговор! Смерть врагам народа!
...Бывший заместитель Народного Комиссара Обороны Гамарник, предатель и трус, побоявшийся предстать перед судом советского народа, покончил самоубийством.
...Конечной целью этой шайки было — ликвидировать во что бы то ни стало и какими угодно средствами Советский строй в нашей стране, уничтожить в ней Советскую власть, свергнуть рабоче-крестьянское правительство и восстановить в СССР ярмо помещиков и фабрикантов.
...Мировой фашизм и на этот раз узнает, что его верные агенты гамарники и Тухачевские, якиры и уборевичи и прочая предательская падаль, лакейски служившие капитализму, стерты с лица земли и память о них будет проклята и забыта.
Народный Комиссар Обороны СССР,
Маршал Советского Союза
К. Ворошилов».
Из очерка «Товарищ в борьбе», входящего в сборник воспоминаний друзей и соратников «Ян Гамарник», Военное издательство Министерства обороны СССР, Москва.
«Вся сравнительно короткая жизнь Яна Борисовича Гамарника — это трудовой и ратный подвиг. От рядового коммуниста до крупного партийного руководителя — таков его путь. Ян Гамарник на любом посту работал с полной энергией. Он показывал пример простоты и скромности, органически не терпел кичливости и зазнайства. Он был настоящим большевиком-ленинцем. Таким он и останется в сердцах тех, кто знал его лично, в памяти всех трудящихся».
Написан очерк в 1967 году. Год издания сборника — 1978-й. Автор вышеупомянутых пламенных строк — Климент Ефремович Ворошилов...
Сегодня то громче, то тише раздаются голоса: хватит 37-го года! тяжело все это! лучше не знать! Откуда это в
178
нас — «лучше не знать»? Не оттуда ли, из 37-го, не оттуда ли, из,67-го, из 78-го, когда наше дело, чего ни коснись, было маленькое? Почему «лучше» не думать, не читать, не слышать, не вспоминать, не сострадать? Что еще можно поставить в этот ряд — не быть?..
Что касается частностей, то, наверное, не случайно именно во времена застойных явлений в сборнике «Ян Гамарник» не было внятно сказано о причине, по которой прервал свою жизнь «активный участник Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны, советский, партийный и военный деятель» (об этом в своем стихотворении «После реабилитации» прямо и недвусмысленно заявит Борис Слуцкий: «Гамарник был подтянут и высок, и знаменит умом и бородою. Ему ли встать казанской сиротою перед судом? Он выстрелил в висок». «...Он был острей, толковей очень многих...»), и ни слова — о трагической участи, постигшей всю комиссарскую семью (кроме жены и дочери, пострадали также мама и сестры Яна Борисовича; мама, старая больная женщина, была сослана в Башкирию и брошена на произвол судьбы, ей негде и не на что было жить, она просила милостыню; сестры Гамарника в это время были заключены в тюрьмы и лагеря). Почему так? Может быть, потому, что во времена застойных явлений как раз и победили те, кто решил, что хватит разоблачать 37-й год, лучше сделать вид, что его не было вообще?
...«Сын за отца не отвечает». Сталинские слова. Не сразу дошел до людей кощунственный, иезуитский смысл фразы... Что это было, как не нарушение кровного родства, как не толкание в спину, — к предательству сыном отца, что это было, как не требование отречься, отшатнуться, отпрянуть, если с близким случилась беда? Что это было, как не «двойная мораль», если отвечали дети за отцов и матерей, и еще как отвечали!
«Постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года Положение о преступлениях государственных было дополнено статьями об измене Родине... Закон не только устанавливал ответственность изменников Родины, но в противоречии с основными принципами советского уголовного права предусматривал наказание для членов семьи изменника, совместно с ним проживающих, даже при условии, что они не только не способствовали готовящейся или совершенной измене, но и не знали о ней». Какую же опасность для государства, лично для Сталина могли представлять дети «врага народа»? Боялся ли
179
вождь возмездия, мести? Не исключено, что боялся. Но тут действительно, наверное, тот случай, когда важно было уничтожить не только грибы, но и грибницу.
«Яблоко от яблони далеко не укатится». По-разному можно трактовать старую пословицу. Необязательно она может иметь негативный оттенок. Ведь «яблоки» от «яблонь» могли унаследовать (и унаследовали!) такие качества, как честь, совесть, память, и могли (в недалеком будущем, а то и в настоящем) противостоять беззакониям и преступлениям сталинского времени.
И все-таки в то жестокое и кровавое время, когда действительно «был установлен рекорд по убийству своих», когда действительно могло (и становилось!) лозунгом «Спасайся, кто может!», люди не были безнадежно разъединены, люди не были разрозненными, они «тулились» друг к другу, друг друга спасая. И благодаря этому невидимому фронту, этой людской солидарности не выпали из жизни все дети «врагов народа». Они уцелели, как люди.
«Грибница» осталась.
Шестилетняя Валя спрашивает Викторию Яновну: «Бабушка, а когда к нам придет деда Ян?» — «Никогда. Но он всегда с нами».
Что касается «врагов народа», то погребенные в небытие, эти люди возвращаются к нам сегодня живыми. По праву памяти.
Тяжелая жизнь была у Веты Гамарник, Миры Уборевич, Светы Тухачевской. Но вырастили они своих детей хорошими людьми. Два сына у Миры Уборевич. Дочка у Светланы Тухачевской. Три дочки у Веты Гамарник. Есть внуки. Володя, Борис, Нина, Таня, Наташа, Лена, Максим, Сережа, Валя.
Нет, не исчезли с земли бесследно Уборевичи, Тухачевские, Гамарники...
И то, что эти люди жили, и то, что живы их дети и внуки, и то, что мы сегодня пристально вглядываемся в их жизнь и хотим быть на них похожими, — разве это не внушает надежду, разве не является гарантией нашего духовного возрождения?
180
«Московская правда», 23 июня 1988
О. Аксенов
С Вышинским не согласен
Улица Серафимовича, дом 2. Большинству он известен из повести Ю. Трифонова как «дом на набережной». На его фасаде множество мемориальных досок, которые могут поведать прохожим о видных деятелях партии и государства, тех, кто жил здесь в 30—50-е годы. Но многих имен не менее известных людей вы здесь не увидите и не найдете, хотя жили они в этом же доме. Часть из них была репрессирована, другая часть — отодвинута от дел. Сейчас их имена возвращаются к нам. Имена тех, кто стоял у истоков государства и революции, кто творил историю. И пусть пока нет на стенах «дома на набережной» мемориальных досок с их фамилиями (будут, обязательно будут!), поспешим рассказать о делах большевиков из ленинской гвардии. Сегодня — рассказ об Ароне Александровиче Сольце.
В августе 1914 года, в самом начале империалистической войны, в разгар шовинистического угара, на призывных пунктах в Москве появились листовки с призывом «Долой войну!» московской организации РСДРП, которые объясняли будущим солдатам ее истинную сущность.
Царской охранке, поднявшей на ноги всю свою агентуру, при помощи провокатора Романова по кличке Пелагея вскоре удалось арестовать автора ненавистной прокламации — крестьянина Пермской губернии Якова Яковлевича Коростылева. Выяснить, кто же это есть на самом деле, уже не составляло большого труда. Достаточно было заглянуть в специальный Циркуляр департамента полиции за № 155029/286 со списками беглых ссыльных. Крестьянином Коростылевым оказался потомственный почетный гражданин города Вильно Арон Александрович Сольц, бежавший накануне из нарымской ссылки.
181
Два года крепости — таков был приговор военного суда автору прокламации.
За плечами Сольца к тому времени нелегкая жизнь—17 лет в партии, знакомство с тюрьмами Петербурга, Вильно, Екатеринослава, Харькова, ссылки в Нижнеудинск, Нарым, Тобольск, побеги, голодовки.
Вступив в партию в год ее основания, он вместе с ней испытал все взлеты и поражения, трудности подпольной борьбы, провалы и предательства, аресты и унижения. А. Сольц был основателем в Екатеринославе подпольной искровской типографии, руководил тюменской партийной организацией и изданием газеты «Тюменский рабочий», участвовал в подготовке первого номера газеты «Правда».
Выйдя из «Таганки» осенью 1916 года на волю, А. Сольц остается в Москве, несмотря на строжайшее предписание покинуть город. Товарищи выбирают его членом Московского бюро РСДРП. В воздухе уже пахло освежающим озоном февральской революции. И как только очищающая гроза разразилась, А. Сольц вместе с М. Ольминским, захватив типографию, начинают издавать газету московской областной партийной организации РСДРП «Социал-демократ».
После перевода в 1918 году «Правды» в Москву он становится членом ее редколлегии. В самые тяжелые и голодные 1919 и 1920 годы его посылают на работу в Продотдел Моссовета, а затем в Центросоюз. На этой работе ему неоднократно приходилось встречаться с В. И. Лениным, сохранилось несколько письменных поручений Владимира Ильича к А. Сольцу.
В 1920 году на IX партконференции Г. Е. Зиновьев предложил, «чтобы в партии был создан особый орган, который можно назвать Контрольной комиссией или судом коммунистической чести. Орган этот должен быть избран из работников с партийным стажем не менее 10 лет и должен иметь задачей — действительно блюсти честь нашей партии...» Так была создана Центральная Контрольная Комиссия РКП(б) — высший контрольный орган партии, который имел своей целью предупреждать появление в партии фракций, группировок, очищать ее от недостойных людей, улучшать работу госаппарата, бороться с бюрократизмом, взяточничеством, волокитой. ЦКК, так же как и ЦК, являлась высшим органом партийной власти, но только с контрольными функциями. Она тоже избиралась на съезде и подчинялась только съезду.
182
По предложению В. И. Ленина в первый ее состав был включен А. А. Сольц — как человек беспристрастный, выдержанный, пользующийся авторитетом и доверием у товарищей по партии. На X и XI съездах А. Сольц выступал с докладами о деятельности Контрольной Комиссии. Именно на этой работе раскрылись все лучшие человеческие и деловые черты А. Сольца как истинного партийца, воспитателя, врага всякого бюрократизма и формализма, человека честного и справедливого.
Эти его качества знал и ценил В. И. Ленин. Во время работы XI съезда партии, полемизируя с Лариным и Рязановым по вопросам экономики, в качестве подтверждения своих доводов Владимир Ильич сказал: «Я знаю это из беседы с товарищем Сольцем, это не слух, а беседа с лицом, которое высшим партийным съездом назначено в ЦКК, то, что он мне сказал, не может вызывать никакого сомнения».
Забегая вперед, хочется отметить, что А. Сольц с 1923 года избирался во все составы Президиума ЦКК вплоть до 1934 года, когда начал укрепляться культ личности, сворачивалась демократия, когда органы контроля, созданные при В. И. Ленине, оказались лишними и ненужными. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 году ЦКК по предложению И. В. Сталина была упразднена, так как «отпала необходимость в предотвращении раскола в партии», а взамен была организована Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б), которая кстати, уже избиралась не съездом, а организовывалась Центральным Комитетом. Примечательно, что возглавил ее Ежов. Надо ли пояснять, к чему все эти преобразования привели через несколько лет?
Но вернемся к А. Сольцу. В двадцатые годы он стоял у истоков советского законодательства. Революция разрушила вместе со старым строем старые законы. Необходимо было новое право, новые социалистические законы. В одной из своих работ, напечатанных в «Правде», А. Сольц писал: «Мы создаем не застывшие формы. Мы должны проверять на реальной жизни, что подходит и что не подходит. Нужное оставляем, ненужное ежегодно отбрасываем. Каждый шаг мы сами проверяем бесконечное количество раз. Мы делаем такие дела, которые никто еще не делал, которыми еще никто не занимался. Мы на работе учимся».
С 1921 года А. Сольц, продолжая работу в ЦКК, является членом Верховного Суда РСФСР, а затем и СССР, членом Интернациональной контрольной комиссии Коминтерна. Кроме
183
того, работал в Партколлегии ЦКК, в комиссии по чистке партии, в комиссии ВЦИК по частным амнистиям, по проверке тюрем.
И здесь проявились отзывчивость, доброта, внимание к человеку, которые были присущи А. Сольцу. По его инициативе была создана специальная комиссия, облеченная правом от имени ВЦИК освобождать из заключения тех, кого посчитает нужным. Позднее ее так и называли: «Комиссия Сольца». Ее члены пересмотрели несколько тысяч дел, причем Арон Александрович лично беседовал с каждым заключенным. Было обнаружено множество вопиющих случаев неправильного применения закона, бюрократического подхода к человеку, бессмысленного осуждения за мелкие дела на длительные сроки заключения. Только за три месяца работы комиссия по проверке московских тюрем освободила из-под стражи 3.110 человек, то есть почти 67 процентов всех осужденных. Подобные комиссии были созданы по всей стране, и вскоре была проведена широкая амнистия.
Наряду с проверкой тюрем были проверены и народные суды. Там тоже вскрыли немало злоупотреблений властью, отменили необоснованные приговоры, прекратили множество мелких и несущественных дел. Выступая на пленуме Московского губсуда в октябре 1924 года, А. Сольц сказал: «Прежде всего в судах вообще было слишком много дел. Ведь мы прекратили 60 процентов дел, какие там имелись. ...Напрасно писались бумаги, напрасно привлекались люди, — вообще напрасно все это имело место.
Лесные дела. Ведь бессмыслица таскать население по судам из-за такого дела, которое нам дает в результате 15— 20 копеек за порубку... Запрещено ругаться. Ну, что будет, если мы станем за каждую ругань таскать человека в суд? При нашей некультурности мы должны будем перетаскать в суд все население. ...А у нас, например, было такое дело: один мужик обругал на сенокосе другого. Это дело разбирается в суде через четыре месяца. За это время он еще, вероятно, пятьсот раз обругался, а вы его теперь судите. Да ведь этим дискредитируется Советская власть».
Случалось, что, освободив человека из заключения, А. Сольц приводил его к себе домой, помогал деньгами, устраивал на работу. У него была какая-то необыкновенная вера в рабочего человека, в то, что он не может поступать плохо, некая идеализация личности, иногда не оправдывавшаяся, и Сольц очень болезненно это переживал.
184
Но к чему А. Сольц относился совершенно нетерпимо — это к комчванству, «когда некоторые члены нашей партии используют власть не в интересах нашего строительства, не в интересах создания нового, нужного нам порядка, а в своих личных интересах. И мы решили с этим беспощадно бороться». В одном из писем он размышляет: «Коммунист не всегда тот, кто имеет билет, беспартийный не всегда тот, кто не имеет билета. А история в целом, а интересы строительства, в общем, настойчиво требуют, чтобы как можно больше беспартийных действовали бы и жили бы так, как жить и действовать обязан член партии. Они тогда для нас ценнее».
После XVII съезда, когда, как уже говорилось, ЦКК была реорганизована в КПК при ЦК ВКП(б), от таких людей, как А. Сольц, старались постепенно избавляться. В зловещие планы «хозяина» не входило, чтобы честные и принципиальные большевики-ленинцы занимали ответственные посты в органах партийного контроля. Его перевели на работу в судебно-бытовой сектор Прокуратуры СССР. Будучи старшим помощником Генерального прокурора СССР, то есть самого А. Вышинского, Сольц и здесь продолжал отстаивать свои убеждения, не всегда, не во всем соглашаясь с ним, вступая в полемику, что было весьма небезопасно.
С. Фаинблит, много лет проработавший с А. Сольцем в ЦКК, а затем в Прокуратуре Союза, пишет о том, что Арон Александрович не раз возмущался приказами А. Вышинского. Для Сольца, хорошо знавшего подноготную генерального прокурора, как меньшевика и карьериста, тот не был авторитетом. А как вспоминает соратник А. Сольца по подпольной работе А. Пальчик, посланцу, передавшему привет от А. Вышинского, Арон Александрович ответил: «От этого нечестного человека прошу больше не передавать мне приветов. Я не желаю. Так и скажите ему. Мне безразлично, что он член ЦК...».
В период массовых репрессий 1937 года, когда старых большевиков, многих товарищей по каторге и ссылке, проверенных годами совместной работы, стали арестовывать, А. Сольц не молчал. В замечательной документальной повести «Отблеск костра» Ю. Трифонов рассказывает, как после ареста его отца — старого большевика, знакомого с А. Сольцем по нарымской ссылке, Арон Александрович пришел к Вышинскому и потребовал материалы по его делу, «сказав при этом, что не верит в то, что Трифонов — «враг народа». Вышинский ответил: «Если органы взяли, значит враг». Сольц побагровел,
185
закричал: «Врешь! Я знаю Трифонова тридцать лет как настоящего большевика, а тебя знаю как меньшевика!» — бросил свой портфель и ушел».
Не обошли стороной репрессии и племянницу самого Сольца, Анну Григорьевну Зеленскую. Ее арестовали в 1938 году. Дочь Зеленской Елена Исааковна, жившая после ареста матери у Арона Александровича, сохранила копию письма, которое А. Сольц написал В. Ульриху. Важно привести его полностью, чтобы лучше понять характер старого большевика и несомненное мужество, которое он проявил при оценке работы органов правосудия.
«Председателю Верховного Военного Суда
т. Ульриху
Заявление
Было время, когда я работал с Вами в Комиссии по амнистиям ЦИК СССР, и работа была довольно согласная, мы как будто одинаково оценивали дела и людей. Считаю поэтому возможным сейчас обратиться к Вам.
21 апреля 1939 года была осуждена Военной Коллегией Верховного Суда моя племянница Анна Григорьевна Зеленская, разошедшаяся с Зеленским лет 10 тому назад и проживавшая до тех пор у меня на квартире, из которой она была взята в недобрые дни, когда дела сочинялись и обвинения составлялись под руководством Вышинского. Ее осудили на 9 лет с поражением на 5 лет, с конфискацией имущества, и она уже сослана на крайний Север в Норильск. А между тем она ни в чем не повинна. Обвинялась она по работе в НКПС по заготовке леса исключительно по оговору без каких-либо доказательств.
За последнее время в «Правде» часто стали появляться сообщения о судах над клеветниками, благодаря которым были невинно осуждены многие лица. Я полагаю, что вина клеветников не столь велика, если суд таков, что так охотно прислушивается к оговорам и по ним судит. Отвечать крепче гораздо должны судьи неправедные и прокуроры, которые допускают такие приговоры.
5-го июля 1939 года разразился статьей в «Правде» Председатель Верховного Суда СССР Голяков. В ней он разъясняет, что суд должен быть правильный и права подсудимого ограждены. На деле, признает он, это во многих случаях не соблюдается, чему он приводит много примеров. Их, к сожалению,
186
гораздо больше, их многие тысячи, и поздно немного обращается Голяков с призывами улучшить работу суда.
Надо более решительными мерами воздействовать на господ судей. Наибольшую бесцеремонность с подсудимыми позволяют себе военные прокуроры и военные судьи. Я Зеленскую великолепно знаю, во время работы в НКПС она жила у меня. Она не могла совершить преступления, она в худшем случае могла только ошибиться.
Я прошу Вас затребовать дело и сказать свое слово.
Если Вы этого не сделаете, то по существу за это неправое дело будете нести ответственность и Вы.
Сентябрь 1939 г.
А. Сольц».
Знал ли он, что Ульрих не только оставит приговор без изменений, но даже не ответит ему? Наверное, знал. Но молчать не мог. Догадывался ли А. Сольц, что те несколько процессов над клеветниками и оговорщиками — всего лишь показуха и желание «хозяина» замести следы и обеспечить себе у народа надежное алиби? Наверное, догадывался. Думал ли он, чем для него может закончиться такое заявление со столь нелестным отзывом о бывшем генеральном прокуроре, отнюдь не осужденном, как его недавние жертвы, а всего лишь сменившем свой кабинет на более престижный в Совете народных комиссаров? Безусловно. Предполагал ли, какие чувства вызовет оценка работы военных прокуроров и судей у самого Ульриха? Конечно. Уж с ним он знаком был не один год.
И все-таки А. Сольц должен был написать это письмо, чтобы уже в то время, когда глаза советских граждан были закрыты черной пеленой борьбы с «врагами народа», когда многие большевики молчали и предпочитали не вмешиваться, даже если дело касалось их родственников, указать корень зла, который он видел в деформации социалистической законности, в тех судьях и прокурорах, что «так охотно прислушиваются к оговорам и по ним судят». Каково было ему в конце жизни осознавать, что тюрьмы, каторги и ссылки были пройдены не для того, чтобы человек стал счастливым и богатым, а для того, чтобы невинного могли спокойно осудить по оговору. И кто? Те самые судьи и прокуроры, за чистоту и качество работы которых он столько лет боролся, положил столько сил и здоровья. Мог ли предполагать, что на двадцатом году Советской власти так извратится советское законодательство.
187
Наверное, он чувствовал виновным в этом и себя, потому что, будучи у истоков зарождения советского законодательства, постоянно участвуя в его совершенствовании, не смог поставить на пути таких людей, как Вышинский, Ежов, Ягода, надежный заслон.
В феврале 1938 года, когда его уволили с работы, он объявил голодовку, пытаясь добиться справедливости старыми, проверенными большевистскими методами. Первую свою голодовку он объявил в 1902 году, и тогда она закончилась успешно: не дожидаясь окончания следствия, строптивого революционера побыстрее отправили в ссылку, чего он и добивался. На этот раз все было иначе. Два санитара пришли в его квартиру и повезли «полечить зубы» в психиатрическую больницу. Главный врач этой больницы М. Кубанцева узнала А. Сольца, с которым не раз сталкивалась раньше по совместной работе при проверке тюрем, создала для него по возможности благоприятные условия и не стала пичкать психотропными препаратами. Но все же почти двухмесячное заточение в «психушке» сломило пожилого человека. Вернувшись из больницы, он стал замкнутым, неразговорчивым, практически перестал встречаться со старыми знакомыми.
Несколько месяцев Сольц проработал в Музее народов СССР архивариусом. На одном из вечеров, посвященных кончине В. И. Ленина, его как человека, знавшего Владимира Ильича, попросили выступить. Слово ему предоставили в самом конце. Как вспоминают очевидцы, первые же сказанные им слова поразили и напугали всех присутствующих: «Вот вы все здесь говорили о Сталине, а ведь мы собрались для того, чтобы почтить память Ленина. Про Сталина до революции мало кто знал...»
Выводы были сделаны немедленно. Секретарь партийной организации, допустивший на трибуну такого оратора, был уволен с работы. А. Сольца, правда, не тронули — как «выжившего из ума старика».
Во время войны вместе с группой старых большевиков он эвакуировался в Ташкент. Этот период жизни был особенно тяжелым для Сольца. Неутешительные сводки Совинформбюро, одиночество, возраст, болезни, отстраненность от дел — все это оставляло тяжелый отпечаток. Наступила глубокая депрессия. Он обращается к своим старым товарищам с просьбой вернуться в Москву, в «дом на набережной», но и возвращение не приносит ожидаемого облегчения. Не дожив девять дней до конца войны, он умер.
На похороны пришли несколько старых товарищей по партийной работе. Когда гроб опустили в печь, все разошлись.
Ни одна газета, даже «Правда», у истоков создания которой он стоял, не поместила некролога...
188
«Литературная газета», 1988 № 18
Аркадий Ваксберг
Процессы
Чем жила страна в этот день? Закончился ледовый дрейф легендарных седовцев — капитан Бадигин и помполит Трофимов телеграфировали из Мурманска Сталину и Молотову о прибытии экипажа на родную землю. На советско-финском фронте ничего существенного не произошло. Газеты вот уже шестую неделю кряду продолжали печатать поток приветствий товарищу Сталину по случаю его 60-летия. Опубликованы пространные выдержки из речи Гитлера в связи с годовщиной прихода к власти национал-социалистов, постановление СНК и ЦК «Об обязательной поставке шерсти государству»...
А в каждом учреждении шла своя — будничная, деловая — работа. У юристов, разумеется, тоже. Военной коллегии Верхсуда СССР предстояло заслушать в тот день, 1 февраля 1940 года, очередные дела. График был жесткий: двадцать минут на дело. Любая задержка привела бы к сбою, конвейер требует четкого ритма. Везде!
На этот раз, однако, процесс грозил затянуться: одно из дел, вопреки обыкновению (обыкновением стали «дела» по 10—12 страниц в тоненькой папочке), состояло из двух томов. Да и второе — в одном, но увесистом томе. От искусного председателя всецело зависело и при этих условиях соблюсти намеченный график.
«Залом заседаний» Военной коллегии служил кабинет Берии в Лефортовской тюрьме. Его персональные кабинеты имелись во всех тюрьмах, где держали «политических». Едва ли не каждую ночь он лично участвовал в том, что называлось «допросом». То есть, иначе сказать, в истязаниях: уже без всяких кавычек. Под утро уходил отдыхать, и тогда кабинет поступал в распоряжение судей.
Места за столом заняли трое военных. Председательствовал неутомимый Василий Ульрих, уроженец Риги, выходец из культурной семьи (мать его, не чуждая изящной словесности, писала даже рассказы и сказки), «маленький лысый
189
человек с розовым лицом и подстриженными усиками» — так рисует его портрет один очевидец. К тому времени Ульрих пробыл во главе Военной коллегии почти четырнадцать лет. Сколько смертных приговоров подписано им при столь плотном и жестком графике? Боюсь, этого уже никто подсчитать не сможет.
Рядом с ним сидели в тот день двое других, совершенно безвестных судей — Кандыбин и Буканов. Их имена мы найдем в сотнях других приговоров с тем же самым финалом: доверие, стало быть, они оправдали. Молча внимали происходящему и столь же безропотно подписывали заранее заготовленные бумаги.
Человека, которого первым ввели в «зал заседаний», судьи знали отлично. Впрочем, совсем никому не знакомых туда вообще не вводили: Ульрих судил знаменитостей. Но этого подсудимого знали не только судьи — знала страна. И по имени, и в лицо. Его снимки множество раз публиковались на газетных страницах, кинохроника, заменявшая тогда телевидение, из журнала в журнал представляла его — на борту самолетов-гигантов, на испанской земле — под фашистскими бомбами, на полях и в шахтах, на солдатских учениях и театральных премьерах.
Это был Михаил Кольцов, известный публицист, член редколлегии «Правды», депутат Верховного Совета РСФСР, член-корреспондент Академии наук СССР. Бывший, бывший... Ибо теперь он был заурядным шпионом. Агентом трех разведок — германской, французской, американской. Членом антисоветского подполья с двадцать третьего года, «пропагандировавшим троцкистские идеи и популяризировавшим руководителей троцкизма», террористом с тридцать второго, намеревавшимся убить неизвестно кого, как, когда и за что. Признавшимся абсолютно во всем. Так было сказано в обвинительном заключении, уместившемся на двух с половиной страницах.
— Желаете чем-нибудь дополнить? — спросил подсудимого Ульрих.
— Не дополнить, а опровергнуть, — сказал Кольцов. — Все, что здесь написано, — ложь. От начала и до конца.
— Ну как же ложь? Подпись ваша?
— Я поставил ее... После пыток... Ужасных пыток...
— Ну вот, теперь еще вы будете клеветать на органы... Зачем усугублять свою вину? Она и так огромна...
— Я категорически отрицаю... — начал Кольцов, но Ульрих прервал его:
190
— Других дополнений нет?
Он укладывался в двадцать минут. Даже чуть сэкономил.
Когда 14 лет спустя подполковник юстиции Аракчеев проводил проверку этого дела, его поразила не просто полнейшая безосновательность обвинения, но отсутствие малейшей попытки создать даже видимость доказательств. Свести хоть как-то концы с концами. Оставить в деле какие-то признаки следственных поисков.
В постановлении на арест, составленном через сутки после того, как Кольцов уже находился в тюрьме, указана такая причина ареста: его «родной брат, историк Фридляндер, расстрелян как активный враг народа...». Хотя родство с кем бы то ни было само по себе вообще не может быть преступлением, горькая ирония заключается в том, что известный историк, декан исторического факультета МГУ и М. Кольцов, настоящая фамилия которого Фридлянд, не доводились друг другу никем. И нигде ни разу ни словом единым в обоих томах имя профессора, «родство» с которым послужило причиной ареста, больше не было упомянуто. О нем забыли.
Все обвинения рассыпались без всяких усилий, стоило только в них немного вчитаться. Но вчитываться тогда никто не хотел. Никто! Жалкая фантазия следствия интереса не представляла (ведь судьи-то знали, что это фантазия!), а проверка не имела ни малейшего смысла (ведь судьба жертвы была предрешена).
Вчитаемся все же — теперь.
В террористы Кольцова завербовал — так сказано в приговоре — Карл Радек, но самому Радеку эта вербовка почему-то в вину не вменялась.
Вместе с Кольцовым, сказано там же, был завербован полпред в Риме Борис Штейн. Но против Штейна дело не возбуждалось, репрессиям он не подвергался.
Сотрудница «Правды», писательница Тамара Леонтьева, арестованная на несколько месяцев раньше, «призналась» под пыткой следователю Макарову, что вместе с Кольцовым состояла в какой-то троцкистской группе. Но особое совещание НКВД (даже оно!) дело против Леонтьевой прекратило: ей выпал счастливый билет.
Кольцову не выпал. «Расстрел», — привычно произнес Ульрих. Подсудимому не дали вымолвить слова: за дверью ждала уже вызова новая жертва.
Это был человек, чье имя знал весь цивилизованный мир. Великий реформатор театра, которого еще при жизни знатоки
191
называли гением, а невежды — трюкачом, формалистом, исказителем классики. Всеволод Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 г. Сразу же после речи, произнесенной в присутствии Вышинского (см. статью «Царица доказательств»), он выехал в Ленинград, чтобы помочь Институту имени Лесгафта поставить театрализованное зрелище на предстоящем физкультурном параде. Тут его и схватили.
Следствие длилось 7 месяцев. Сначала Мейерхольд признался, что он английский и японский шпион, троцкист с 1923 г.; что в тридцатом году он «возглавил антисоветскую группу «Левый фронт», объединявшую все антисоветские элементы в области искусства» (ЛЕФ, кстати заметим, существовал только до двадцать девятого. — А. В.); что в тридцать третьем «установил организационную связь с... Рыковым, Бухариным и Радеком, по заданию которых проводил подрывную деятельность в области театрального искусства»; что тремя годами позже его завербовал в троцкистскую организацию (еще в одну!) Илья Эренбург, а в английские шпионы — известный поэт, до недавнего времени полпред Литвы в Советском Союзе Юргис Балтрушайтис...
От этого бреда Мейерхольд нашел в себе силы и мужество отказаться еще на стадии следствия. За три недели до суда, 13 января 1940 года, он обратился с письмом к Вышинскому, которого по-прежнему считал прокурором Союза, хотя еще до ареста Мейерхольда Вышинский уже работал в другом качестве. Но истинное место Вышинского, его настоящая роль была Мейерхольду известна...
«...Меня клали на пол лицом вниз, — писал режиссер академику, — жгутом били по пяткам, по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам. Следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места налили крутой кипяток (я кричал и плакал от боли). Руками меня били по лицу... Следователь все время твердил, угрожая: «не будешь писать, будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного окровавленного тела». И я все подписывал до 16 ноября 1939 г.».
Такое же заявление Мейерхольд написал на имя Председателя Совнаркома СССР, почетного академика В. М. Молотова.
От академиков ответ не пришел. Впрочем, «суд» и был ответом.
192
Собкор «Известий» Илья Эренбург жил в это время в Париже и рвался в Москву, не имея понятия о том, что он кого-то куда-то завербовал. О том, что они тоже завербованы Эренбургом — в ту же самую организацию, — не имели представления и другие ее члены: Юрий Олеша и Борис Пастернак. Когда в 1955 г. военный прокурор, старший лейтенант юстиции Ряжский начал проверку «дела Мейерхольда-Райха В. Э.», он безуспешно пытался найти в архиве дела заговорщиков Эренбурга, Олеши и Пастернака. Все трое — живыми и невредимыми — явились по вызову к старшему лейтенанту, но даже от него, по счастью, так и не узнали, что против них затевалось.
Шел, напомню, всего лишь пятьдесят пятый год, до Двадцатого съезда оставалось несколько месяцев, портреты Сталина еще были украшением улиц и кабинетов, к имени его по-прежнему добавлялось: «вождь и учитель». Процесс реабилитации жертв сталинизма только-только еще начинался. Поэтому прокурор решил оснастить свое заключение с максимальной солидностью. Так появились в прокурорском досье свыше пятидесяти отзывов о Мейерхольде, принадлежащих перу крупнейших деятелей советской культуры.
Случай, думаю, беспримерный: самое полное собрание отзывов о вкладе режиссера в мировое искусство находится не в ЦГАЛИ, а в прокуратуре. Имена-то какие!.. Шостакович, Пастернак, Эренбург, Вс. Иванов, Ромм, Назым Хикмет, Охлопков, Ильинский, Царев, Пырьев, Жаров, Гарин, Свердлин, Штраух, Оборин, Софроницкий, Образцов, Вивьен, Кукрыниксы, Завадский, Герман, Олеша, Юткевич, Г. Александров, Экк, Гиацинтова, Меркурьев, Дм. Орлов...
Отзыв И. Эренбурга совсем недавно опубликован («Вопросы литературы», № 12, 1987). Вот другие, еще не известные.
«Военному прокурору Б. В. Ряжскому.
Глубокоуважаемый Борис Всеволодович!
Я до сих пор не сдержал слова и не закрепил для Вас письменно нашего разговора о Мейерхольде, потому что все время очень занят. Вы помните наш разговор. Главное его существо заключалось вот в чем. Так же, как и Маяковский, я был связан с Мейерхольдом поклонением его таланту, удовольствием и честью, которое доставляло мне посещение его Дома или присутствие на его спектаклях, но не общей работой, которой между нами не было, для меня и он, и Маяковский были людьми слишком левыми и революционными, а я для них был недостаточно радикален.
193
Я любил особенно последние по времени постановки Мейерхольда: «Ревизор», «Горе от ума», «Даму с камелиями». Дом Всеволода Эмильевича был собирательной точкой для всего самого передового и выдающегося в художественном отношении среди писателей, музыкантов, артистов и художников, бывавших у него. Наиболее сходной с ним по душевному огню и убеждениям, наиболее близкой ему братской фигурой был, на мой взгляд, Маяковский. Я не знаю, насколько решающим может быть мое мнение на этот счет. Вкратце вот самое живое, что я мог бы об этом сказать и вспомнить.
Будьте здоровы.
Ваш Б. Пастернак.
24 августа 1955 г.»
«Имя гениального Всеволода Мейерхольда, — писал прокурору Шостакович, — его выдающееся творческое наследие должны быть возвращены советскому народу». «...Нельзя вычеркнуть из истории советского и мирового театра творчество В. Э. Мейерхольда, художника огромного таланта, культуры и честности в искусстве», — взывал к правосудию Юткевич. «Обвинение В. Э. Мейерхольда в политическом вредительстве в области театрального искусства представляется всем нам, работникам советского искусства, чудовищной и ничем не обоснованной клеветой», — так начинал свое обращение в прокуратуру Завадский.
Ульрих и его подручные отправили Мейерхольда на казнь за двадцать минут. Их коллегам (в смысле только формальном!) — полковникам юстиции Сенику и Юткину, подполковнику юстиции Шалагинову — понадобилось куда больше времени, чтобы признать для всех очевидное: приговор абсолютно неправосуден! Очевидное с первых же строк: можно представить себе, что знали следователи о подследственном, судьи о подсудимом, если в обвинительном заключении и приговоре Мейерхольд назван главным режиссером Театра имени Станиславского, народным артистом СССР. Между тем, как известно, после разгона ГОСТИМа К. С. Станиславский пристроил опального гения на рядовую работу в своей оперной студии, а звания народного артиста СССР Мейерхольд так и не был никогда удостоен.
Как же стал он шпионом? Почему английским и японским, а не, скажем, цейлонским и гондурасским? Воля случая, прихоть судьбы... Стажироваться у Мейерхольда приехал вместе с женой, актрисой, молодой японский режиссер
194
Иошидо-Иошима: много ли нужно, чтобы психоз разоблачительства протянул сразу нити к японской разведке? (Разумеется, уничтоженные в ежовских подвалах Иошидо-Иошима и его жена давно реабилитированы.) Среди знакомых Мейерхольда был человек с английской фамилией Грей: вот и готов вожделенный повод пристегнуть режиссера к Интеллидженс сервис. Балтрушайтис? Он тоже «агент иностранных разведок». Каких? Прокурор Ряжский решил найти ответ и на этот вопрос. Нашел: французские спецслужбы, к примеру, считали, что «просоветски настроенный» Балтрушайтис «без сомнения, сторонник союза с большевиками» и «скорее всего русский агент...».
В самую пору смеяться, но слишком будет он горьким, этот сегодняшний смех.
2 февраля 1940 г. Мейерхольд и Кольцов были расстреляны. В те минуты, когда их казнили, Ульрих читал приговор Роберту Эйхе — вчерашнему еще кандидату в члены Политбюро, первому секретарю Западно-Сибирского крайкома партии, наркому земледелия СССР: конвейер продолжал работать безостановочно. Вечером, устав от праведных трудов, армвоенюрист пошел немного развлечься, расслабиться: в Кремле принимали седовцев, среди самых почетных гостей, список которых открывает Вышинский, значится и Ульрих. После ужина был концерт — пели Барсова, Лемешев, Рейзен, Козловский, танцевала Лепешинская, свое мастерство демонстрировали ансамбли Александрова и Моисеева, хор Пятницкого...
Кто, кроме Ульриха и еще нескольких человек, знал, что в этот день пуля палача оборвала жизнь гения? Театральная Москва жила по обычному расписанию. Во МХАТе шли «Мертвые души», в Малом — «Лес», в цирке удивлял публику чудесами Кио.
Шестью днями раньше не стало еще одного человека с мировым именем, прочно связанного — и в жизни, и в приговоре — с жертвами этого дня: 27 января был расстрелян Исаак Бабель, приговоренный накануне к смерти все тем же Ульрихом (его ассистентами на этот раз были Кандыбин и Дмитриев). Через 14 лет в заключении военного прокурора, подполковника юстиции Долженко о реабилитации Бабеля будет сказано: «Что послужило основанием для его ареста, из материалов дела не видно, так как постановление на арест было оформлено 23 июня 1939 г., то есть через 35 дней после ареста Бабеля. (Он был арестован 16 мая 1939 г. на даче в Переделкине. — А.В.)».
Мир знал его как большого писателя, судьи — как члена антисоветской троцкистской организации с 1927 года, агента
195
французской и австрийской разведок — с 1934-го. Догадаться о том, что послужило не основанием, но поводом для его ареста, как раз несложно. Только что отправился вслед за своими жертвами державший в страхе страну кошмарный Ежов — Бабель (об этом пишет и Эренбург в своих мемуарах) был знаком с женой Ежова и даже, сознавая, чем он рискует, с нею встречался. Это нашло отражение в приговоре: «Будучи организационно связанным по антисоветской деятельности с женой врага народа Ежова — Гладун-Хаютиной, последней Бабель был вовлечен в антисоветскую заговорщическую террористическую деятельность, разделял цели и задачи этой антисоветской организации, в том числе и террористические акты... в отношении руководителей ВКП(б) и Советского правительства».
На допросе, продолжавшемся трое суток без перерыва — с 29 по 31 мая 1939 г., — Бабель сначала отверг все обвинения, а потом — по не отраженной протоколом причине — внезапно круто изменил «линию поведения» и показал, что был членом шпионской троцкистской группы, куда его завербовал опять-таки Эренбург, а шпионом-связником был Андре Мальро, известный французский писатель, впоследствии министр в правительстве де Голля. Что продавал ему Бабель? Каламбуры и шутки? Застольные тосты? Нет, секреты военной авиации. Ни больше ни меньше...
Представит, наверное, интерес и состав группы террористов-троцкистов, в которую входил Бабель: кроме Эренбурга, мы встречаем там писателей Леонида Леонова, Валентина Катаева, Всеволода Иванова, Юрия Олешу, Лидию Сейфуллину, Владимира Лидина, кинорежиссеров С. Эйзенштейна и Г. Александрова, артистов С. Михоэлса и Л. Утесова, академика О. Ю. Шмидта и многих других.
Сегодня, кажется, уже никакая, даже самая изощренная фантазия безумцев, стряпавших дела на дьявольской кухне Ягоды, Ежова и Берии, не может нас удивить. И, однако, читая список «подпольщиков», чувствуешь, что сходишь с ума. Леонов — террорист?! Катаев — диверсант?! Олеша — заговорщик? Полно, не может быть...
Но нет, список не так уж безумен. Все это не только яркие таланты, что само по себе не имеет прощения, не только люди независимых суждений и критического склада ума, что никак их не украшает,— почти все они так или иначе имели неосторожность прогневать вождя. В эти самые дни подвергались разносу на высшем уровне «Метель» Леонова, «Домик» Катаева, «Бежин луг», над которым Эйзенштейн начинал работу вместе с Бабе-
196
лем. Еще раньше под огнем проработочной критики были Сейфуллина и Вс. Иванов. Вполне подходящие кандидаты для группы троцкистов!..
Несколько неожиданным выглядит в этой компании разве что Шмидт. И однако... Вот что сказал в своей речи на Первом съезде писателей герой-челюскинец, только что встреченный, обласканный, награжденный. Не кем-нибудь — Самим! «...Наша работа не нуждается в подстегивании, в нажимах, возгласах, не нуждается в противопоставлении вождя остальной массе. Это совершенно не наши методы. Я не хочу употребить слова, но это заграничные методы одного из соседних государств». Яснее не скажешь! Зал хорошо понял оратора — недаром после этих слов в стенограмме записано: «аплодисменты»!
Шмидту на том же съезде вторил Бабель: «...выдуманные, пошлые, казенные слова... играют на руку враждебным нам силам... Невыносимо громко говорят у нас о любви... Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах». Не было таких недоумков, которые не поняли, в любви к кому объяснялись тогда через рупор. И вряд ли такая дерзость оратора могла остаться без всяких последствий.
Ему вспомнили и «Конармию», где «он описал,— сказано в обвинительном заключении,— все жестокости и несообразности гражданской войны, подчеркнув изображение только крикливых и резких эпизодов...». Следствие квалифицировало этот ставший классикой цикл рассказов как диверсию и измену.
Уже 10 октября 1939 г. Бабель от своих признаний отказался. «Прошу следствие учесть,— сказано в его заявлении,— что при даче прежних показаний я, будучи даже в тюрьме, совершил преступление, я оклеветал нескольких лиц». Об этом же он трижды писал Ульриху: 5 и 21 ноября 1939 г. и 2 января 1940 г. Просил свидания с прокурором, просил вызвать свидетелей, дать ему ознакомиться с делом, допустить адвоката. Тщетно...
26 января за считанные минуты Ульрих мудро во всем разобрался. Наутро Бабеля не стало.
Материал о преступной группе других террористов-троцкистов, агентов всех иностранных разведок ждал своего часа в секретном сейфе. Вероятно, было намечено устроить громкий процесс знаменитостей — писателей и артистов, — но отказ Мейерхольда, Кольцова и Бабеля даже после угроз и пыток признаться в своих «злодеяниях» сорвал, хотя бы на время, этот сладостный замысел. Ясное дело, как бомба с часовым ме-
197
ханизмом, «собранный» следствием материал мог взорваться в любую минуту, стоило только нажать на кнопку.
Таких впрок заготовленных показаний, которые, пожелай лишь вождь и учитель, тут же были бы у него на столе, лежало в сейфах навалом. Те материалы судебных дел, откуда я извлек сообщенные здесь факты, содержат сведения и о том, как выбивались на следствии «данные» против А. А. Андреева, А. А. Жданова, Л. М. Кагановича — «самых верных соратников» любимого и родного. И против других, ничуть не менее верных.
«Данные» могли пригодиться. Но — пронесло...
Родственникам погибших был сообщен результат. Для всех один и тот же: 10 лет дальних лагерей без права переписки. В текстах приговоров этой формулы, разумеется, нет, там ее заменяет одно короткое слово «расстрел». Кто-то придумал и внедрил этот страшный эвфемизм — чтобы «не возбуждать» и не сеять паники. Но секрета, в сущности, не было, все тогда знали, какая реальность скрывается за этой загадочной санкцией, даже для видимости не предусмотренной никаким законом.
Оттого-то, наверное, был запущен и безотказно действовал долгие годы механизм целенаправленных слухов. До родных и друзей время от времени доходили известия: лишенный права переписки жив и здоров, находится там-то и даже — со счастливой оказией — передает своим близким горячий привет.
О мифических встречах разных людей с Кольцовым рассказал в своих воспоминаниях его брат, художник Борис Ефимов. Жену Бабеля — А. Н. Пирожкову —официально уведомляли несколько лет кряду о том, что он жив, а летом 1952 г. «по поручению Бабеля» ее даже разыскал некий гражданин, «освобожденный из Средней Колымы», чтобы передать от мужа привет. Один из биографов Мейерхольда сообщает со слов «человека, вполне заслуживающего доверия», что тот «держал в руках» открытку от Всеволода Эмильевича — со штемпелем «одной из небольших забайкальских железнодорожных станций».
Едва ли не каждого, про кого официально и категорично не было сказано, что он казнен, то и дело «лично встречали» вездесущие очевидцы. Одна западная журналистка, сидевшая близ Воркуты с 1948 по 1953 г., описала свою встречу с виднейшим медиком, профессором Д. Плетневым, «которому было уже за восемьдесят». Он даже рассказывал ей, как отравил Горького: угостил начиненными ядом засахаренными фруктами. Плетнев умер, сообщала журналистка, летом пятьдесят третьего. Эта версия «просочилась» и в редакционный комментарий «Дружбы народов» к «Воспоминаниям о «деле врачей». Я. Рапо-
198
порта (1988, № 4). Увы... Плетнев был расстрелян 11 сентября 1941 г. в подвалах Орловской тюрьмы — там же и в тот же день, что и Христиан Раковский и многие другие (всего 154) ни в чем не повинные люди.
Повторяемость слухов, содержание которых сколочено по единой отработанной схеме, позволяет считать, что родились они и распространялись отнюдь не случайно. Сразу же после того, как Берия был ликвидирован, слухи эти прекратились: источник иссяк.
...В тюремной камере, наедине со следователями-садистами, ожидая суда и смерти, надеялись ли жертвы на то, что кто-то где-то кому-то скажет хоть слово — за них? Или осознавали всю нереальность даже мысли об этом? Ведь каждый, кто решился бы на столь отчаянный поступок, подписывал себе приговор.
Каждый ли, впрочем? Великий талант принадлежит человечеству, своей стране прежде всего, — не побуждает ли его спасение к поступку из ряда вон выходящему? Пусть даже к безумному. Престарелый академик Д. Н. Прянишников пробился к самому Берии, чтобы вырвать из его лап Николая Вавилова. Академик П. Л. Капица бесстрашно спасал Льва Ландау. Коллеги боролись, и небезуспешно, за Туполева, за Королева, за Рамзина. Кто бросился на амбразуру, чтобы спасти Мейерхольда? Тогда — не потом...
Через три недели после ареста Мейерхольда была зверски убита неведомо кем его жена — артистка Зинаида Николаевна Райх. Детей — ее и Сергея Есенина — предупредили: на следующий день после похорон убраться вон из квартиры. Под открытое небо... Их дед, Н. А. Райх, сумел дозвониться до прославленного артиста, депутата Верховного Совета СССР. Вряд ли маститому деятелю академической сцены была по душе эстетика Мейерхольда. Но разве тут до эстетики? Вместо сочувствия артист изрек: «Общественность отказывается хоронить вашу дочь».
Николай Андреевич Райх объяснил, что дочь похоронит сам, но просит вступиться за внуков, сохранить им кров. Ответ не замедлил: «Вас выселяют правильно».
«Общественность» одобряла. «Бунтовщиков» не нашлось. Страна упоенно пела: «Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей». Завтра наступала очередь того, кто сегодня молчал в надежде спастись самому. Цена молчания и последствия страха — вот главный урок, который они оставили нам.
Правило давнее и непреложное: всем — по заслугам.
199
Мне хочется назвать поименно тех, кто лично участвовал в реабилитации, в восстановлении чести и доброго имени Бабеля, Кольцова и Мейерхольда. Это нужно, я думаю, сделать и в отношении всех, кто вернул нам другие—оболганные и оскорбленные — имена. Нельзя допустить, чтобы осталась неведомой и безымянной достойная всяческого уважения работа, которую с благородной добросовестностью провели юристы, реабилитировавшие тем самым в общественном мнении и загаженное их «коллегами» святое место блюстителя закона, вернувшие правонарушительным органам их подлинный статус органов правоохранительных.
Кроме тех, кто уже назван: военные прокуроры Жабин и Терехов, судьи — члены Военной коллегии Верховного Суда СССР Ченцов, Степанов и Сенин.
Но долг требует сказать: работа эта, особенно сначала, гладко не шла. Чтобы снять с убитых горы возведенной на них лжи, пришлось убеждать прокуроров в том, что Бабель — высоко ценимый Горьким писатель и патриот, что Кольцов всю жизнь верно служил революции, что Мейерхольд, ставя по-своему Грибоедова или Гоголя, отнюдь не собирался столь странным способом свергать Советскую власть, которой он служил с величайшей самоотдачей. В восстановлении, например, доброго имени Бабеля большую роль сыграли Екатерина Павловна Пешкова, Валентин Катаев и особенно Илья Эренбург, хлопотавший активно, неутомимо, причем не только по этому делу — при ином повороте событий столь бурную активность можно было бы с успехом обернуть против него: один террорист спасает других...
Всем — по заслугам. Скажем поэтому и о тех, облеченных званиями, возведенных на высокие посты, кто руководил так называемым следствием и лично участвовал в тех истязаниях, про которые писал Молотову и Вышинскому Всеволод Мейерхольд. Как раз об этих нелюдях известно меньше всего. Назову лишь то, что известно.
В недавних публикациях о судьбе Александра Косарева и других руководителей комсомола тридцатых годов промелькнули имена Шварцмана и Родоса — непосредственных истязателей и лжецов, бездарно сочинивших сценарий кровавого фарса. (Кстати, Берия и другие начальники этих мучителей были совсем иного мнения о творениях Шварцмана и Родоса. Они именовали сочиненные этой бандой протоколы допросов «истинными произведениями искусства»: так дословно записано в их показаниях). Оба эти «мастера искусств» впрямую
200
причастны и к уничтожению Бабеля, Кольцова и Мейерхольда.
Льву Ароновичу Шварцману, уроженцу Петербурга, безграмотному тупице, едва добравшемуся до седьмого класса неполной средней школы, исполнилось тогда тридцать лет. Борису Вениаминовичу Родосу из Мелитополя, чье образование завершилось в четвертом классе (он сам про себя написал потом в ходатайстве о помиловании: «Я — неуч»), было на три года больше. Впрочем, и надобности учиться у них не было никакой: на избранном ими поприще не требовалось ни просвещенности, ни диплома. Ближайшие сподвижники Берии, эти ветераны расправ с невероятной быстротой поднимались по служебной лестнице, за свое усердие в застенках стали полковниками, заместителями начальника следственной части по особо важным делам. (Родос с его четырехклассным образованием оказался после войны слушателем Военно-юридической академии, читал лекции в Высшей школе МВД по технике следствия и даже был автором учебных пособий «по внутрикамерной разработке арестованных», как значится в аттестации — автором «научных работ».) Полная атрофия к человеческим страданиям, беспримерный садизм, поражавший даже сообщников, и карьерная алчность делали их незаменимыми для фабрикации любого дела и добывания любых признаний: от кого угодно и в чем угодно.
Глухие к стонам и мольбам, сами они, став арестантами, требовали к себе внимания и сочувствия, заявили множество заведомо вздорных и, однако, удовлетворенных ходатайств, а Родос в знак протеста против «несправедливости» даже объявил голодовку. Участь их жертв, как мы помним, решалась в «суде» за двадцать минут, их самих же судили обстоятельно, неторопливо и с полным соблюдением законных прав, с участием свидетелей и экспертов (в том числе психиатров). Процесс Шварцмана длился три дня, Родоса — целых шесть, кстати сказать, в то самое время, когда работал Двадцатый съезд: великий драматург — Жизнь столь символично и многозначительно поставила в этой мистерии последнюю точку.
Конечно, не они задумали адскую мясорубку, не они отдали приказ «приступить к ликвидации»: им досталась лишь роль исполнителей. Но с каким сладострастием, с каким восторгом они играли ee! Финал процессов, где оба предстали в качестве подсудимых, для всех, я думаю, очевиден. Назову и других следователей, приложивших руку к уничтожению трех выдающихся деятелей советской культуры: Кузьминов, Воронин, Шипков, Сериков. Их, насколько я знаю, кара не постигла.
201
На этом можно было бы и закончить — я обещал рассказать только факты и только фактами ограничился, дав возможность читателю самому сделать необходимые выводы. Но есть одно соображение, которым хотелось бы поделиться.
Если были «враги народа», то, значит, были и его друзья. Врагом был Бабель, врагом — Мейерхольд. И Кольцов — тоже врагом. А Шварцман и Родос, Кузьминов и Воронин и те, кому нет числа, — с ними, под ними, над ними, — эти были друзьями народа. Его защитниками, спасителями и благодетелями. Избавившими нас от ненаписанных книг, от непоставленных спектаклей, от того, что развивало нашу культуру, приумножало духовное богатство и международный престиж страны. Страны, которая, потеряв несметные свои сокровища, радостно повторяла вслед за «друзьями народа», что теперь-то уж она богата, свободна и счастлива, как никогда.
Что они знали о своих жертвах? Что могли и хотели знать? В пятьдесят шестом году на процессе Родоса один из судей — полковник юстиции Рыбкин — спросил подсудимого, чем занимался «некий Бабель», которого тот беспощадно терзал. «Мне сказали, это писатель», — ответил Родос. «Вы прочитали хоть одну его строчку?» — продолжил судья. «Зачем?» — был ответ.
С этой манерой причинять зло, громогласно возвещая, что приносишь добро, мы все никак не можем расстаться. Во всяком случае — не могли до последнего времени. Неистребимая потребность в политиканской, угодливой практике, порождаемой зашоренным взглядом на реальности жизни, принесла нам потери, которые трудно исчислить.
Трудно — и, однако, возможно. О несостоявшихся творениях духа приходится только гадать. Убытки от одного лишь задавленного эксперимента Ивана Худенко, который погиб в тюрьме оболганным и униженным (про него «Литературная газета» писала множество раз), можно выразить в цифрах: только в годы застоя свыше 40 миллиардов инвалютных рублей, которые пришлось заплатить за хлеб, купленный на чужбине. Свой так и не вырос, но замечательного сына народа и дело его во благо народа запросто уничтожили — для общественной пользы.
Недавно, после публикации статьи «Царица доказательств», один юрист весьма высокого ранга, встретив меня, грозно спросил: «Так что же вы хотите сказать — мы продолжаем практику тридцать седьмого года?..» Демагогические ярлыки вместо деловых обсуждений, вместо извлечения уроков из прежних ошибок — эта мода тоже родилась не сегодня. Все же отвечу:
202
я хочу сказать именно то, и только то, что сказал. Что недавние судебные драмы ни прямо, ни косвенно, ни как-то еще с народным бедствием тридцать седьмого ничего общего не имеют. Ни в каком решительно смысле. И что это ясно любому без моих уточнений.
Но что навык угодливо исполнять чье-то поспешное Мнение, не считаясь с подлинными интересами общества, для иных юристов стал второй натурой, подкожным чувством, стереотипом профессионального поведения. И платить за это стране приходится непомерно большую цену.
Конечно, истоки того, что случилось в совсем недавние годы с лучшими нашими хозяйственниками — реабилитированным Снимщиковым, не реабилитированными и доныне Худенко и Белоконем, — нелепо искать в судьбе Мейерхольда или Кольцова, Вавилова или Чаянова. Дело не в поверхностных аналогиях, дело в сути. Дело в том, что «карающий меч» с завидным постоянством обрушивался на тех, кто — наша гордость, надежда и слава, находя опору для этого — нет, конечно же, не в законе, а в непререкаемых указаниях очередных временщиков. И всегда — ради нашего благоденствия...
Талант проявляет себя по-разному: один на сцене, другой в космосе, третий на колхозном поле. Но если это талант, он всегда неординарен, он ищет, пробует, дерзает, он не механический исполнитель, а активный творец, создающий новое, непривычное, еще не ставшее нормой. Почему же с такой готовностью, с такой упоительной страстью по первому зову свыше, да и по собственному почину в бой с талантом вступала юстиция? В бой неравный: ведь перед ее могучею силой талант беззащитен.
Вот какая мысль не покидала меня, когда я работал над этой статьей. И еще — мысль о том, что верность закону требует мужества и убежденности, чтобы отвергнуть любое давление, любой незаконный приказ. Иначе честному человеку лучше уйти, подыскать работу, не сопряженную с непосильным для него героизмом и отчаянным риском. И о том еще, что конституционный принцип: «Судьи... независимы и подчиняются только Закону» — завершается точкой. У него нет продолжения: «...а также тем, кто поставил себя выше закона». Если есть такие, кто выше, значит, нет законности, нет справедливости. Значит — нет права.
И последнее — то, с чем (я знаю!) не все согласятся. Горе страны, подвергавшейся ужасам беззакония, огромно. Но его, я думаю, не утешить реальным, видимым или посмертным, символическим судилищем над теми, кто это горе принес. Не надо больше судилищ! Надо лишь всех назвать поименно: лично причастных к убиению невиновных. Вдохновителей, исполнителей, истязателей — всех! Живых или мертвых.
203
Библиотека «Огонек», 1987 № 42
Василий Поликарпов, доктор исторических наук
Федор Раскольников
«Мне очень радостно было получить письмо от пионеров отряда имени Ф. ф. Раскольникова из села Гольяны Удмуртской АССР. Из их письма я узнал, что юные ленинцы ведут большую работу по сбору материалов о героях революции, просят здравствующих участников революции и гражданской войны прислать им воспоминания о том героическом времени...» Эти слова старого революционера, большевика с 1912 года У. И. Манохина возвращают нас к драматической судьбе, в которой парадоксально переплелись разные эпохи нашей жизни. Как говаривали любимые герои Юрия Трифонова, человек есть нить, протянувшаяся сквозь время, тончайший нерв истории, который можно отщепить и выделить и — по нему определить многое. И вот перед нами один такой нерв истории, обнаженный и саднящий всеми болями, пережитыми нашим народом за 70 лет.
С того света
...Вместе с другими коммунистами, красногвардейцами, советскими работниками города Сарапула белогвардейцы затолкали У. И. Манохина в деревянную баржу, превращенную в плавучую тюрьму. Из Сарапула баржу отвели вверх по Каме и у села Гольяны поставили на якорь посреди реки. В течение многих дней людей держали в холоде, сырости, темноте, морили голодом. «Кто хочет жить, — кричал в люк появлявшийся время от времени фельдфебель, — выдавай комиссаров, коммунистов и матросов! Будете молчать — взорвем баржу, погибнете все, как мухи!» Предателей в трюме не находилось. Заключенных группами выводили на палубу, расстреливали, тела сбрасывали в Каму.
204
Но вот Сводная дивизия В. М. Азина отбила Сарапул у белых. Сюда же после боев с вражеской флотилией адмирала Старка, загнанной красной Волжской военной флотилией в реку Белую и заблокированной там, на помощь частям Азина привел три миноносца («Прыткий», «Прочный» и «Ретивый») командующий красной флотилией Ф, Ф. Раскольников. Немедленно, 17 октября 1918 г., он отправился с ними в белогвардейский тыл спасать «баржу смерти». Было непросто прорваться через линию фронта между Сарапулом и Гольянами, охраняемую вражескими батареями и пулеметами. Приказав спустить красные флаги, чтоб выдать миноносцы за белогвардейские, Раскольников подошел к Гольянам, увидел баржу и на ее палубе вооруженных людей в черных полушубках и косматых шапках, а на берегу напротив — группы солдат, трехдюймовое орудие и в амбразуре колокольни пулемет.
Когда «Прыткий» поравнялся с баржей, вахтенный начальник под диктовку командующего прокричал в мегафон:
— Его превосходительство адмирал Старк приказывает вам приготовиться. Сейчас возьмем баржу с арестованными на буксир и отведем в Уфу.
— А как же красные? — послышалось из конвоя. — Ведь они в Сарапуле.
— Сарапул сегодня занят нашими доблестными войсками. Красные бежали в Агрыз.
Стоявшему у пристани колесному буксиру с «Прыткого» было передано:
— По приказанию командующего флотом адмирала Старка возьмите баржу с арестованными и отправляйтесь в Уфу. Мы будем вас охранять.
Солдаты наблюдали с берега, как пароход, выполняя приказ, заводил буксирный конец, а потом дернул и потащил за собой баржу.
Конвойные на барже могли в последнюю минуту заподозрить неладное. В душе Раскольников опасался, как бы в отчаянии тюремщики не бросили в трюм ручные гранаты и не взорвали арестованных. Нужно было действовать быстро, решительно, не подавая врагу повода для сомнений.
В темноте отряд прошел через линию фронта. С «Прыткого» было видно, как на палубе смутно черневшей баржи мерцали светляками огоньки папирос. У сарапульской пристани матросы арестовали белогвардейских тюремщиков и свезли на берег.
Заключенные услышали топот ног и лязг оружия, люк
205
открылся, «и на фоне синего неба, — рассказывал У. И. Манохин, — мы увидели краснофлотца в бушлате и бескозырке с ленточками. Всматриваясь в могильную темноту трюма, он крикнул:
— Живы, товарищи?
Нам спустили лестницу. Оглушенные неожиданной радостью, стали подниматься на палубу. Мы обнимались, целовали своих освободителей...»
Дальше лучше всего предоставить слово Ларисе Рейснер, наблюдавшей происшедшее: «... Через живую стену моряков 432 (из 600 их уцелело только 432. — В. П.) шатающихся, обросших, бледных сошли на берег. Вереница рогож, колпаков, шапок, скрученных из соломы, придавала какой-то фантастический вид процессии выходцев с того света... Еще приближаясь к берегу, голосами, пролежанными на гнилой соломе, они начали петь «Марсельезу». И пение это не прекращалось до самой площади. Здесь представитель от заключенных приветствовал моряков Волжской флотилии, ее командующего и власть Советов. Раскольникова на руках внесли в столовую, где были приготовлены горячая пища и чай».
«Потом им выдали новую одежду. (Это уже рассказывает Раскольников. — В. П.). Поспешно и радостно они сбрасывали с себя грязные, оборванные рогожки и облекались в человеческое платье. Многие, скинув рогожи, тотчас надели красноармейскую форму и сразу отправились на фронт. 7 ноября 1918 года, в годовщину Великого Октября, после жаркого штурма красными войсками был взят Ижевский завод. В этом штурме принимали участие и освобожденные нами «баржевики». Некоторые из них сложили там свои преданные революции головы за победу и счастье рабочего класса, за Коммунистическую партию».
К 1966 году, когда писал свои воспоминания У. И. Манохин, подвиг моряков Волжской военной флотилии не был забыт, как не был забыт и тот, кого спасенные от гибели борцы за власть Советов несли на руках в Сарапуле в октябре 1918 года. И вполне понятно, почему в тех самых Гольянах, где был совершен подвиг, пионерский отряд получил в 1964 году гордое имя Ф. Ф. Раскольникова.
Через три революции
Раскольникову было ко времени подвига в Гольянах 26 лет (родился 28 января 1892 г. в Петербурге в семье священнослу-
206
жителя), а за его спиной уже было столько дел, что их хватило бы не на одну жизнь. «Еще в 1905—1906 гг. в 5 и 6 классах реального училища, — писал он впоследствии в автобиографии, — я дважды принимал участие в забастовках, причем один раз был даже избран в состав ученической делегации и ходил к директору училища с требованием улучшения быта, за что едва не был исключен из училища. Революция 1905 г. впервые пробудила во мне политический интерес и сочувствие к революционному движению, но так как мне было тогда всего 13 лет, то в разногласиях отдельных партий я совершенно не разбирался, а по настроению называл себя вообще социалистом... Политические переживания во время революции 1905 года и острое сознание социальной несправедливости стихийно влекли меня к социализму. Эти настроения тем более находили во мне горячий сочувственный отклик, что материальные условия жизни нашей семьи были довольно тяжелыми».
Учась с 1908 года в Петербургском политехническом институте, Раскольников серьезно увлекся марксистской литературой, которая «сделала» его, по его же признанию, марксистом, а в 1910 году 19-летний юноша вступает в социал-демократическую партию. Он сотрудничает в большевистской газете «Звезда», а как только начала издаваться «Правда», становится секретарем ее редакции.
Связав свою судьбу с ленинской партией, молодой революционер вступил на путь борьбы против самодержавия, на котором его ожидали суровые испытания. Уже в 1912 —1913 гг. он узнал, что такое царская тюрьма и ссылка. Призванный на флот, он был направлен в Отдельные гардемаринские классы и учился там, продолжая партийную работу, вплоть до Февральской революции.
В середине марта 1917 г. партия направила Федора Раскольникова в Кронштадт редактировать газету «Голос правды». Войдя в руководящее ядро кронштадтской большевистской организации, он снискал огромный авторитет среди матросов, солдат и рабочих. Он принимает активное участие в работе Кронштадтского Совета. Матрос-большевик И. Н. Колбин принадлежал тоже к числу руководителей Кронштадтского комитета РСДРП(б), был членом Кронштадтского и Петроградского Советов, однако первенство во влиянии на массы признавал за Раскольниковым. «Федор Федорович, — писал он в воспоминаниях, напечатанных в 1927 г. в сборнике «Октябрьский шквал», — был гордостью кронштадтцев. Моряки и
207
рабочие сильно любили его. Молодой, энергичный руководитель организации, пламенный оратор, тов. Раскольников поднимал революционную энергию моряков. Они жили в постоянной готовности к битвам с капиталистическим строем».
3 апреля Раскольников участвует во встрече на станции Белоостров возвращавшегося из эмиграции В. И. Ленина, сопровождает его по пути в Петроград. Знакомство с Лениным оставило неизгладимый след у Раскольникова. Об этом дне он взволнованно, ярко рассказывал впоследствии в своих воспоминаниях. Встреча с вождем революции не была лишь эпизодом в биографии Раскольникова. Ему потом не раз приходилось выполнять ответственнейшие поручения Ленина.
На VII (Апрельской) Всероссийской конференции большевиков делегат от Кронштадта Раскольников слушал Ленина, начертавшего план борьбы за перерастание бужуазно-демократической революции в социалистическую. Во главе кронштадтской делегации он совершил агитационную поездку по морским базам Балтийского флота: большевики заботились об усилении влияния партии в массах моряков.
В июльской мирной демонстрации в Петрограде Раскольников руководил многотысячной колонной матросов, прибывших из Кронштадта. В те дни Временное правительство готовило разгром особняка Кшесинской, где помещались Центральный и Петербургский комитеты большевистской партии. Военная организация при ЦК поручает Раскольникову охрану центральных учреждений партии, назначив его комендантом здания.
В июле одержала верх реакция. Временное правительство арестовало и посадило в тюрьму многих активных работников партии: В. А. Антонова-Овсеенко, А. В. Луначарского, П. Е. Дыбенко и других. Был арестован и Раскольников. Выйдя через три месяца на свободу, он участвует в подготовке к Октябрьскому вооруженному восстанию. В октябрьские дни он — член Петроградского военно-революционного комитета. Ленин советуется с ним, как лучше использовать корабли для защиты революционной столицы от наступавших войск Керенского — Краснова. Раскольников и сам участвует в боях под Пулковом, а затем во главе отряда балтийцев отправляется на помощь восставшему пролетариату Москвы. По возвращении в Петроград он становится членом коллегии Морского комиссариата. В ноябре 1917 года Советская власть отменила офицерские чины, но состоявшийся вскоре I Всероссийский съезд военного
208
флота в ознаменование заслуг Раскольникова перед революцией своим решением производит его из мичманов в лейтенанты.
5 января 1918 года в Таврическом дворце открылось Учредительное собрание. Его контрреволюционное большинство отказалось признать Советскую власть и тем самым выявило свое антинародное лицо. Большевистская фракция во главе с В. И. Лениным, не желая участвовать в этом контрреволюционном сборище, решила покинуть зал заседаний. Ленин написал заявление фракции о разрыве с Учредительным собранием и поручил огласить его Раскольникову. Вскоре после того зал заседания покинула и фракция левых эсеров. В зале остались только депутаты правых, контрреволюционных партий. Тогда начальник караула матрос Анатолий Железняков предложил и им покинуть зал, «потому что караул устал». На том и закончилась история «учредилки».
Когда создавался новый, Рабоче-Крестьянский Красный Флот, Раскольников помогал Ленину в разработке вопросов, относящихся к морскому ведомству. Он участвовал и в подготовке декрета об организации Красного Флота, принятого на заседании СНК под председательством Ленина 29 января 1918 г. Входя в коллегию Народного комиссариата по морским делам, Раскольников развивает кипучую деятельность по строительству советского флота. Он был в числе руководителей знаменитого Ледового похода — перевода в феврале-мае 1918 года кораблей Балтийского флота из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт для спасения их от захвата германскими войсками, начавшими наступление в Прибалтике.
Раскольникову поручил Ленин выполнение трудной задачи — решения правительства о потоплении кораблей Черноморского флота в Новороссийской бухте в июне 1918 года, когда контрреволюционное офицерство намеревалось увести их в Севастополь, где они неизбежно попали бы в руки германских оккупантов. Говоря о выполнении этой задачи 28 июня в речи на конференции профсоюзов и фабзавкомов Москвы, Ленин сообщил: «Там действовал товарищ Раскольников, которого прекрасно знают московские и питерские рабочие по его агитации, по его партийной работе».
Из Новороссийска Раскольников с отрядом матросов пробился в Царицын. Вскоре он вернулся в Москву и был направлен ЦК партии с чрезвычайными полномочиями в Поволжье, где создавалось угрожающее положение. Насколько велико было доверие ЦК, которым пользовался Раскольников, свиде-
209
тельствует выданный ему мандат, в котором говорилось, что «он назначается ЦК РКП членом партийно-следственной комиссии, учрежденной для расследования поведения всех членов партии в связи с военными действиями на фронте, и уполномочен отстранять от всякой партийной и советской работы и исключать из партии всех членов партии, деятельность которых окажется несоответственной задачам партии и требованиям момента».
В июле 1918 года Раскольников назначается членом Реввоенсовета главного в то время Восточного фронта, а в августе вступает в командование только что созданной Волжской военной флотилией. Оказывая помощь 2-й армии Восточного фронта, флотилия зачастую двигалась по реке, опережая сухопутные войска. О подвигах моряков и их командующего повествует приказ № 7 Реввоенсовета Республики от 16 января 1920 года: «Награждается орденом Красного Знамени командующий Волжско-Камской флотилией тов. Раскольников за отличное боевое руководство флотилией в кампанию 1918 года, когда наша слабая Волжская флотилия остановила двигавшуюся с юга сильнейшую флотилию противника, за действия при взятии 10 сентября 1918 года красными войсками Казани, за отбитие под Сарапулом 17 октября 1918 года отрядом из трех миноносцев под личным его командованием баржи с 432 арестованными противником советскими работниками и за активную оборону низовьев и дельты Волги в кампанию 1919 г.».
2 сентября, с образованием Реввоенсовета Республики, Раскольников был введен в его состав. Успешно закончив боевую кампанию на Волге, он в ноябре 1918 года вернулся в Москву, в Народный комиссариат по морским делам, но в декабре во главе отряда особого назначения был послан в разведывательный морской поход под Ревель. Эсминец «Спартак», на борту которого находился Раскольников, близ Ревеля потерпел аварию и был окружен английскими крейсерами. Раскольников вместе с командой был захвачен в плен, его доставили в Лондон и около пяти месяцев продержали в Брикстонской тюрьме. В результате энергичных мер, принятых Советским правительством, в мае 1919 года он был освобожден в обмен на 17 английских офицеров, ранее взятых в плен на территории Советской республики.
По возвращении из Англии Раскольников назначается командующим Астрахано-Каспийской, затем Волжско-Каспийской флотилией. Под его командованием флотилия совершила в
210
1919—1920 гг. немало славных боевых дел, содействуя успехам наших сухопутных войск под Царицыном, в обороне Астрахани, при занятии форта Александровского, где были захвачены в плен остатки белого уральского казачества, и закончила свой путь знаменитой Энзелийской операцией. «...Вы блестяще справились с возложенной на вас боевой задачей...», — телеграфировал В. И. Ленин Ф. Ф. Раскольникову 21 мая 1920 года в ответ на его донесение о выполнении этой операции. Задача же, которую упоминал Ленин в телеграмме, состояла в том, чтобы внезапным набегом с моря на порт Энзели, находившийся на побережье Каспийского моря, вернуть уведенные туда деникинцами под защиту английских интервентов корабли, вооружение и военное имущество бывшей белогвардейской флотилии Каспийского моря. Красная флотилия успешно справилась с этой задачей: она вернула Советской России 10 вспомогательных крейсеров, 7 транспортов, свыше 50 орудий, 20 тыс. снарядов, более 20 радиостанций, 6 гидросамолетов и большие запасы военного имущества. Велико было и политическое значение Энзелийской операции. «Захватом в плен всего белогвардейского флота, в течение двух лет имевшего господство на Каспийском море, — доносил Раскольников Ленину, — боевые задачи, стоящие перед Советской властью на Каспии, всецело закончены. Отныне Российский и Азербайджанский советские флоты являются единым и полновластным хозяином Каспийского моря... Красный флот, завоевавший для Советской Республики Каспийское море, приветствует с его южных берегов любимого вождя пролетариата товарища Ленина».
21 мая 1920 года Ленин передал «славным красным морякам» флотилии высокую оценку их героической боевой работы, а Раскольников — «за проявленную боевую доблесть, энергию и преданность делу защиты интересов пролетариата»— 7 июня 1920 года был награжден вторым орденом Красного Знамени.
С июня 1920 года по январь 1921-го Раскольников командовал Балтийским флотом. Во время дискуссии о профсоюзах он короткое время разделял взгляды оппозиции. Преодолев их, в дальнейшем всю жизнь последовательно боролся за ленинскую линию партии.
В 1921—1923 гг. Раскольников был полномочным представителем РСФСР в Афганистане. Проявив незаурядные качества дипломата, он много сделал для установления дружественных взаимоотношений между Советской страной и
211
Афганистаном. Первым из советских дипломатов был отмечен орденом иностранного государства. С 1924 года Раскольников — главный редактор журналов «Молодая гвардия», «Красная новь» и издательства «Московский рабочий», председатель Главреперткома, член коллегии Наркомпроса и начальник Главискусства; в 1930—1938 гг. — полпред СССР в Эстонии, Дании и Болгарии.
Раскольников был известен как талантливый литератор, автор публицистических работ, книг и пьес. В книге воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году» (1925 г.) он в яркой художественной форме рассказал о революционных подвигах моряков Балтийского флота в подготовке, свершении и вооруженной защите Великого Октября. Со страниц книги предстает великий образ В. И. Ленина, по личным впечатлениям описаны встречи с ним, кипучая деятельность вождя пролетарской революции и главы первого рабоче-крестьянского правительства. Позже, в 1934 году, Раскольников посвятил тем же событиям книгу мемуарных очерков «Рассказы мичмана Ильина» (Ильин — его настоящая фамилия). Его перу принадлежат книги «Афганистан и английский ультиматум» (1924 г.), «Пробудившийся Китай» (1925 г.). Фамилия Раскольникова стоит на титульном листе 1-го тома «Истории гражданской войны в СССР» в ряду составителей тома (1935, 1936 гг.). В 1934 году он был принят в члены Союза советских писателей. Сохранились его неопубликованные работы — на литературные темы, памфлеты на фашистских диктаторов — Гитлера, Муссолини, Пилсудского; среди его рукописного наследства — «Очерки по истории цензуры XX века».
Как его сделали «врагом народа»
В сороковых годах бывший управляющий делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич написал воспоминания «Владимир Ильич Ленин и Военно-Морской Флот». Они не были изданы. Через 20 лет, в 1964 году, извлечения из них опубликовал «Военно-исторический журнал». Вот как рассказывал Бонч-Бруевич о некоторых лично ему известных эпизодах времен революции и гражданской войны:
«Вечером 27 октября (9 ноября) 1917 года Владимир Ильич дает поручение одному из морских офицеров организовать оборону Петрограда судами Балтийского флота».
«Владимир Ильич вызвал к себе находившегося в то время
212
в Кронштадте лично известного ему мичмана военно-морского флота и подробно инструктировал его, что нужно сделать в Новороссийске, требовал от него быть непреклонным, все выполнить от имени правительства. Владимир Ильич вручил ему особое верительное письмо, которое он должен был прочесть командному составу и матросам».
«Командированный офицер морского флота блестяще выполнил возложенное на него правительством и лично Владимиром Ильичем поручение. 18 июня 1918 года Черноморский флот был потоплен в Новороссийске...»
После того, что уже сказано выше, нет нужды особо пояснять, что человек, замаскированный Бонч-Бруевичем под «одного из морских офицеров», был не кто иной, как Раскольников. Автор записок не назвал его впрямую, так как хорошо знал, что начиная с 1938 года упоминать Раскольникова в печати стало чрезвычайно опасно, вернее, невозможно.
В чем же дело? Откуда такой страх перед именем героя, прах которого уже покоился в Ницце? Ответ на этот вопрос принес 12-й номер журнала «Вопросы истории КПСС» за 1963 год. В.С.Зайцев, который по поручению высших партийных органов участвовал в разборе «дела» Раскольникова, сообщил:
«После XVII съезда, он, находясь за границей, с тревогой наблюдает за развитием культа личности Сталина. В результате произвола и беззакония бессмысленно гибли ленинские кадры партии и Советского государства, выдающиеся военачальники, которых Раскольников лично знал по гражданской войне, дипломатические работники, неугодные Сталину. Все это настораживало Раскольникова. Работая в Болгарии, он стал замечать, как подосланные Ежовым, а затем Берия агенты ведут за ним слежку.
В июле 1939 года, находясь во Франции, Раскольников узнает, что на Родине он объявлен «врагом народа» и поставлен вне закона.
Тогда, оказавшись в чрезвычайно трудных условиях, Ф. Ф. Раскольников решает начать борьбу с культом личности Сталина. 26 июля он публикует открытое заявление «Как меня сделали «врагом народа», в котором решительно выступает в защиту себя и других невинно пострадавших видных деятелей партии и Советского государства».
На протяжении 1936—1937 годов Наркоминдел неоднократно вызывал его из Софии в Москву якобы для переговоров о новом назначении то в Мексику, то в Чехословакию, то в
213
Грецию, то в Турцию. Чувствуя «явно несерьезный характер таких предлогов (как иначе было воспринимать их, если, например, с Мексикой у СССР тогда не было даже дипломатических отношений?), Раскольников отказывался от этих предложений, заявляя, что он «удовлетворен своим пребыванием в Болгарии». Наконец Наркоминдел потребовал его немедленного выезда в Москву, обещая неопределенное «более ответственное» назначение.
«1 апреля 1938 года, — писал потом Раскольников в открытом заявлении, — я выехал из Софии в Москву, о чем в тот же день уведомил по телеграфу Наркоминдел... Вся советская колония в Болгарии провожала меня на вокзале». Но в Москву Раскольников не приехал. Случилось неожиданное. В том же заявлении он рассказал об этом так: «5 апреля 1938 года, когда я еще не успел доехать до советской границы, в Москве потеряли терпение и во время моего пребывания в пути скандально уволили меня с поста полпреда СССР в Болгарии, о чем я, к своему удивлению, узнал из иностранных газет. При этом даже не был соблюден минимум приличия: меня даже не назвали товарищем. Я — человек политически грамотный и понимаю, что это значит, когда кого-либо снимают в пожарном порядке и сообщают об этом по радио на весь мир.
После этого мне стало ясно, что по переезде границы я буду немедленно арестован.
Мне стало ясно, что я, как многие старые большевики, оказался без вины виноватым. А все предложения ответственных постов от Мексики до Анкары были западней, средством заманить меня в Москву.
Такими бесчестными способами, недостойными государства, заманили многих полпредов. Л. М. Карахану усиленно предлагалась должность посла в Вашингтоне, а когда он приехал в Москву, то его арестовали и расстреляли.
В. А. Антонов-Овсеенко был вызван из Испании под предлогом его назначения наркомом юстиции РСФСР. Для придания этому назначению большей убедительности постановление о нем было даже распубликовано в «Известиях» и «Правде». Едва ли кто-либо из читателей газет подозревал, что эти строки напечатаны специально для одного Антонова-Овсеенко.
Поездка в Москву после постановления 5 апреля 1938 года, уволившего меня со службы, как преступника, виновность которого доказана и не вызывает сомнений, была бы чистым безумием, равносильным самоубийству.
214
Над порталом собора Парижской богоматери среди других скульптурных изображений возвышается статуя святого Дениса, который смиренно несет собственную голову. Но я предпочитаю жить на хлебе и воде на свободе, чем безвинно томиться и погибнуть в тюрьме, не имея возможности оправдаться в возводимых чудовищных обвинениях».
Оставаясь за границей, Раскольников, «несмотря на неслыханно возмутительное увольнение с поста», проявлял выдержку и лояльность по отношению к Советскому правительству. 12 октября 1938 года он был вызван в полпредство СССР во Франции, где посол Я. 3. Суриц сообщил, что у Советского правительства, «кроме самовольного пребывания за границей, никаких политических претензий» к нему нет, предложил Раскольникову ехать в Москву, гарантируя, что по приезде ему «ничего не угрожает». Но Раскольников хорошо знал, что одно только «самовольное пребывание за границей» независимо от того, чем оно вызвано, расценивалось тогда как измена Родине с вытекающими отсюда последствиями.
18 октября он послал письмо Сталину, в котором заявил, что не признает обоснованным это единственное тогда обвинение, что его временное пребывание за границей «является не самовольным, а вынужденным». «Я никогда не отказывался вернуться в СССР», — писал Раскольников.
О том, что произошло потом, мы узнаем из цитированного выше заявления «Как меня сделали «врагом народа»:
«С тех пор никаких новых требований о возвращении мне предъявлено не было.
Мое обращение в парижское полпредство с просьбой о продлении паспорта осталось без ответа.
Сейчас (это писалось 22 июля 1939 г. — В. П.) я узнал из газет о состоявшейся 17 июля комедии заочного суда. Принудив уехать из Софии, меня объявили «дезертиром»; по произволу уволив со службы, объявили, что я отказался вернуться в СССР, игнорируя мое документальное заявление Сталину, что я никогда не отказывался и не отказываюсь вернуться в СССР.
Мою лояльность объявили «переходом в лагерь врагов народа».
Это постановление лишний раз бросает свет на сталинскую юстицию, на инсценировку пресловутых процессов, наглядно показывая, как фабрикуются бесчисленные «враги народа» и какие основания достаточны Верховному суду, чтобы приговорить к высшей мере наказания».
215
Раскольников заканчивал это заявление с полным сознанием достоинства коммуниста-ленинца и гражданина Страны Советов:
«Объявление меня вне закона продиктовано слепой яростью на человека, который отказался безропотно сложить голову на плахе и осмелился защищать свою жизнь, свободу и честь.
Я протестую против такого издевательства над правосудием и требую гласного пересмотра дела с предоставлением мне возможности защищаться».
Возможности защищаться в суде он не получил.
В конце августа 1939 года, находясь в Ницце (юг Франции), Ф. Ф. Раскольников заболел воспалением легких и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Вскоре у больного возник также и менингит, от которого он и скончался 12 сентября. Прах его покоится в фамильном склепе одной из французских семей в городе Ницце.
Целых четверть века на славном имени революционера, дипломата, литератора, политического деятеля ленинской школы висело проклятие клеветы. Ее трудно было бы рассеять, если бы не собственные свидетельства Раскольникова в виде заявления «Как меня сделали «врагом народа» и последнего открытого письма Сталину. В письме, написанном незадолго до смерти. Раскольников, самозабвенно веривший в моральные силы своего народа, высказал надежду, что недалеко то время, когда режим произвола и беззакония, насажденный Сталиным, будет разоблачен и восторжествует справедливость, за которую отдали жизни поколения революционеров. Такое время пришло. Оно ознаменовано в жизни Советской страны XX и XXII съездами партии. 10 июля 1963 года решением Пленума Верховного Суда постановление 1939 года по «делу» Раскольникова было отменено «за отсутствием в его действиях состава преступления», и он был восстановлен в рядах Коммунистической партии, служению которой отдал 30 лет своей сознательной жизни.
Последний подвиг
После четвертьвекового замалчивания и поношения имени Раскольникова мы узнали, что все это основывалось на злостных вымыслах. «Вопросы истории КПСС» черным по белому утверждали, что слава героя Октября и гражданской войны осталась незапятнанной, что до конца своих дней Раскольников
216
«оставался большевиком, ленинцем, гражданином Советского Союза. Находясь в изгнании, он ничем себя не скомпрометировал». Тогда же, в декабре 1963 года, мы узнали и об открытом письме Раскольникова Сталину от 17 августа 1939 года. Из него стало ясно, что в партии и в годы культа личности Сталина были здоровые силы, которые не мирились с произволом и отступничеством от ленинских норм общественной жизни, возведенными в ранг правительственной политики. Особую тревогу Ф. Ф. Раскольникова вызвало истребление опытных командных кадров армии и флота. Он предупреждал, что это ведет к ослаблению Советских Вооруженных Сил и чревато серьезными последствиями в случае войны с фашизмом, а столкновение с гитлеровской Германией он считал неизбежным.
Обращаясь к Сталину, Раскольников заявил во всеуслышание:
«С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.
Вы заставили идущих за Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей. В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги».
Мы только сейчас, осмысливая процесс перестройки общественной жизни, обнаруживаем застой и догматизм в гуманитарных науках, в искусстве. Письмо Раскольникова позволяет проследить эволюцию этих явлений, вскрыть их истоки, привлекает внимание к факторам, определяющим их живучесть, без выявления которых невозможно их выкорчевывание. Характерным для Раскольникова — и в этом урок, который дает нам большевик ленинского поколения, — было беспощадное обнажение образовавшегося зла, без скидок на те «объективные» причины, которые часто преднамеренно используются для его оправдания.
«Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», — писал Раскольников, — Вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не
217
может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом. Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность». Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, рожденного от Луны и Солнца, а Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести. Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова? Вы арестовали их, Сталин».
Только недавно в нашей печати стало «новостью» то, что в ненастные годы сталинского самоуправства отбывали заключение по вздорным обвинениям С. П. Королев, Д. С. Лихачев и другие деятели культуры, науки и техники. И поэтому впрямь сенсацией звучат разоблачения, сделанные Раскольниковым в те времена, когда все это творилось.
«Вы лишили советских ученых, — писал он автору лозунга «Кадры решают все», — особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной. Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах. Выдающихся русских ученых с мировым именем академиков Ипатьева и Чичибабина Вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для Вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из Вашего «рая», оставляя Вам Ваши «благодеяния»: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой. Вы истребляете талантливых русских ученых. Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин! Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но вы арестовали Мейерхольда, Сталин».
Вспомним, открытое письмо Сталину Раскольников написал 17 августа 1939 года, за две недели до нападения фашистской
218
Германии на Польшу, которым началась вторая мировая война. В это время Сталин пребывал в плену иллюзий о возможности предотвращения военного конфликта с Германией, от которых он так и не освободился ни в 1939, ни в 1940 и 1941 годах.
Раскольников бил тревогу. Уже тогда он расценивал обстановку как «грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза». В военных действиях, которые уже вели Германия и Япония в Западной Европе и Китае, он видел «лишь подготовку плацдарма для будущей интервенции против СССР», считая, что «главный объект германо-японской агрессии — наша Родина». Перед лицом нараставшей угрозы с особой остротой Раскольников воспринимал подрыв Сталиным обороноспособности страны путем истребления наиболее ценных кадров.
«Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, — писал он Сталину, — Вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат Народного комиссариата иностранных дел».
Не меньшую боль вызвало у него положение в армии и на флоте:
«Накануне войны Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским. Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову техники и сделали ее непобедимой. В момент величайшей военной опасности Вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров. Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров? Вы арестовали их, Сталин. Для успокоения взволнованных умов Вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее. Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, Вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль. Не доверяя красным командирам, Вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину. Под нажимом советского народа Вы лицемерно воскрешаете культ исторических рус-
219
ских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут Вам больше, чем казненные маршалы и генералы. Пользуясь тем, что Вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной Вами воде, в изобилии подбрасывают Вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей. В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Народного комиссариата внутренних дел, которому Вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят — или притворяются, что верят, — как неоспоримому доказательству...»
Этому письму Раскольников предпослал эпиграф — две строчки из «Горя от ума»: «Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи». Может возникнуть вопрос: не сгущает ли он краски для оправдания этого обещания? Но вот перед нами подсчеты, сделанные генерал-лейтенантом А. И. Тодорским: сталинские репрессии вырубили из пяти маршалов трех (А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер); из пяти командармов 1-го ранга — трех; из 10 командармов 2-го ранга — всех; из 57 комкоров — 50; из 186 комдивов—154; из 16 армейских комиссаров 1-го и 2-го ранга — всех, из 28 корпусных комиссаров — 25; из 64 дивизионных комиссаров — 58; из 456 полковников — 401.
Это сведения о командирах и политработниках, первыми удостоенных персональных воинских званий в ноябре 1935 года. А. И. Тодорский не касался тех, кому эти звания присваивались в последующем, не суммировал потери от репрессий за какой-то период — выяснял лишь масштаб потерь в тогдашнем первом эшелоне военных кадров, «вынесших на своих плечах в чисто военном смысле гражданскую войну». Если же взять хотя бы короткий период с мая 1937 по сентябрь 1938 года, то окажется, что за эти 16 месяцев репрессиям подверглись командующие войсками, члены военных советов и начальники политуправлений всех военных округов, все командиры корпусов, дивизий и бригад, около половины командиров полков и около трети комиссаров полков, многие преподаватели высших и средних военных учебных заведений.
Известный итог «чистки в Красной Армии в 1937—1938 годах» огласил Ворошилов на заседании Военного совета при наркоме обороны в конце ноября 1938 года: «Мы вычистили
220
более сорока тысяч человек... Из 108 членов Военного совета старого состава осталось лишь 10 человек».
Мало сказать, что армия была обезглавлена. Когда началась война, оказалось: командных кадров не хватало настолько, что призыв их из запаса не покрывал даже половины потребности армии. Для восполнения потерь от репрессий пришлось выдвигать на руководящие командные должности малоподготовленных командиров. К началу войны в Вооруженных Силах в целом только 7 процентов командиров имели высшее военное образование, а более трети не прошли полного курса обучения и в средних военных учебных заведениях. Вступая в войну, примерно три четверти командиров и более двух третей политработников имели стаж службы в занимаемых должностях до одного года. Приведя эти подсчеты в шестом томе Истории Великой Отечественной войны Советского Союза (1965 г.), Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС пришел к выводу: острый недостаток в опытных командирах, образовавшийся в Красной Армии вследствие массовых репрессий при культе личности Сталина, явился одной из существенных причин наших неудач в первый период войны.
Заканчивая письмо Сталину, Раскольников писал:
«Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго. Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список имен Ваших жертв! Нет возможности все перечислить. Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».
Эта надежда выдающегося деятеля партии и Советского государства, революционера-ленинца стала сбываться. Партия осудила культ Сталина, сделав достоянием гласности факты его злоупотреблений властью. Осталось глубоко исследовать причины и условия возникновения культа, исторический опыт борьбы против него. Письма Раскольникова служат ценным источником для такого исследования: они показывают, что в рядах партии большевиков выросли под ленинским руководством несгибаемые борцы, навсегда сохранившие верность знамени марксизма и способные в чрезвычайных ситуациях отстаивать честь партии и чистоту идеалов социализма. Письма доносят до нас из полувековой давности голос мужественного большевика-ленинца.
Раскольникову трудно было решиться на открытое осужде-
221
ние сталинизма, о чем он признался в письме от 17 августа 1939 года. Тем не менее он нашел душевные силы, чтобы превозмочь боль и опасность и сказать правду, о которой мало кто решался говорить.
Не у всех достало гражданского мужества перестать молчать не только тогда, но даже и после того, как культ Сталина был осужден партией. Благодушная характеристика Сталина возводилась иными деятелями от науки в новую незыблемую догму: несмотря на нанесенный культом личности ущерб делу социалистического строительства «в отдельных сферах жизни общества», ни он сам, ни его последствия «ни в коей мере не вытекали из природы социалистического строя, не изменили и не могли изменить его характера». А уж отсюда выводилось поучение о том, что «нельзя признать ни теоретически, ни фактически правильным, когда в некоторых наших научных или художественных публикациях жизнь изображается только под углом зрения явлений культа личности и тем самым заслоняется героическая борьба советских людей, построивших социализм», как настаивал в октябре 1965 года тогдашний зав. Отделом науки и учебных заведений ЦК партии С. П.Трапезников. Приспособленческая же «научная» мысль угодливо развивала эту идею в январе 1966 года: к сожалению-де, в развенчании партией и народом «этого глубоко чуждого марксизму явления сказались чуждые марксизму субъективистские влияния, нашедшие отражение также в некоторых трудах историков. Получил распространение ошибочный немарксистский термин «период культа личности».
Анализ этого действительно глубоко чуждого марксизму явления, сделанный Раскольниковым, конечно, принципиально расходился с такого рода «идейными» установками. Насаждение их, сдерживание критики чуждых марксизму явлений как раз и объясняет нынешний застой в общественных науках. Бюрократическая «элита» в науке и пропаганде опиралась, разумеется, на официальные документы партии. Но вполне оправданно возникает вопрос: «Можно ли в современных условиях признать достаточным и исчерпывающим постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий»? Не кажется ли нам, что оно не вскрыло всей сущности этого явления? И не слишком ли поспешно мы объявили его преодоленным?» (Коммунист, 1987, № 7, с. 120).
222
Послесловие к реабилитации
Все те, кто знал Раскольникова по совместной революционной, партийной и государственной работе, историческим документам и литературе, с удовлетворением восприняли решение высших государственных и партийных органов о его реабилитации как советского гражданина и коммуниста. В виде сборника «На боевых постах» Воениздат переиздал его воспоминания «Кронштадт и Питер в 1917 году» и «Рассказы мичмана Ильина». Пионерский отряд в Гольянах получил имя Раскольникова. Приглашенная в СССР его вдова М. В. Раскольникова и его дочь были радушно приняты в правлении Союза советских писателей, Военным советом Военно-Морского Флота, редакциями «Военно-исторического журнала» и «Огонька», моряками Балтики. Было решено перевезти прах героя на Родину и перезахоронить в Кронштадте. Окончившая Сорбонну дочь Раскольникова была принята на стажировку в Московский университет.
Но атмосфера всеобщего преклонения перед яркой фигурой возвращенного в строй героев Октября Ф. Ф. Раскольникова оказалась вдруг отравленной выступлением С. П. Трапезникова на совещании заведующих кафедрами общественных наук московских вузов 5 сентября 1965 года. Говоря о «субъективистском налете» в оценках отдельных личностей, которые в преобразовательных процессах «подчас стояли на противоположных позициях», он сказал о Раскольникове:
«В идейном отношении он был всегда активным троцкистом. Будучи полномочным представителем Советской страны, он отказался вернуться на Родину, совершил тяжкий поступок, а именно предательство. Письмо, в котором он мотивировал отказ вернуться в СССР, он отправил в один из самых грязных органов белогвардейцев — в парижский журнал «Новая Россия», издаваемый перед войной под редакцией небезызвестного вам Керенского и сотрудничавшего с ним Милюкова, где это письмо было использовано широко в антисоветских целях накануне войны. Сбратавшись с белогвардейцами, фашистской мразью, этот отщепенец стал оплевывать все, что было добыто и утверждено потом и кровью советских людей, очернять великое знамя ленинизма и восхвалять троцкизм. Только безответственные люди могли дезертирство Раскольникова, его бегство из Советского Союза расценивать как подвиг».
Повторная расправа с Раскольниковым, теперь уже пред-
223
принятая посмертно, должна была послужить предметным уроком и назиданием всем тем, кто еще жил идеями совершавшейся после XX съезда перестройки, и сигналом для активизации тех, кого съезд «смертельно напугал» и в чьих интересах было, по словам профессора А. П. Бутенко в «Московской правде», «остановить процесс очищения общества от бюрократизма и других негативных явлений».
Какова же на самом деле была цена «обличений», выдвинутых Трапезниковым? Нужно прямо сказать, что они были рассчитаны на неосведомленность слушателей. Неверна прежде всего фактическая основа обвинения. Трапезников заявил, будто письмо Раскольникова было напечатано в журнале «Новая Россия». Но письмо, о котором он ведет речь, было напечатано не в «Новой России», а в «Последних новостях», Керенский и Милюков не сотрудничали в одном органе, а имели разные издания: Керенский издавал «Новую Россию», а Милюков — «Последние новости». Это, конечно, мелочь, но такой борец против «трубадуров буржуазной идеологии» и «апологетов буржуазии», каким старался зарекомендовать себя Трапезников, должен был эти «мелочи» знать. А далее видно, что он смешивает воедино заявление и письмо Раскольникова, напечатанные в разных органах, и не знает обстоятельств их опубликования.
Раскольников не посылал письма в какую-нибудь газету, а по существующему во Франции порядку сдал в агентство «Гавас», которое предоставляло информацию всем газетам на общих основаниях, так что опубликование их в «Новой России» и «Последних новостях» зависело не от выбора Раскольникова. Не зная всего этого и исходя только из факта, что письма были напечатаны в этих газетах, Трапезников облыжно приписал Раскольникову прямую связь с белогвардейцами и, очевидно, для усиления эмоций договорился до его связи с «фашистской мразью». Увлекшись своими фантастическими обвинениями, он счел возможным наградить старого коммуниста, соратника Ленина позорной кличкой «отщепенец».
Был ли Раскольников «всегда активным троцкистом», как уверял Трапезников? Сам Раскольников в письме Сталину от 17 августа 1939 года писал:
«Как Вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой».
224
Может быть, Раскольников писал неправду и на это его заявление нельзя полагаться? Но вот свидетельство, скрепленное подписью Сталина, — справка, помещенная в 1-м томе «Истории гражданской войны в СССР», который вышел в 1935 и 1936 годах под редакцией Сталина (а также С.М.Кирова, А. А. Жданова и других):
«Раскольников Ф. Ф. (р. 1892) — большевик, член партии с 1910 г. В период войны — офицер морского флота. После февральской революции заместитель председателя Кронштадтского Совета, руководитель большевистской организации в Кронштадте. После Октябрьской революции руководитель Каспийского флота, очистившего Каспийское море от белогвардейцев и англичан. В настоящее время — полпред СССР в Болгарии».
Здесь ни звука нет о каком-либо троцкизме Раскольникова, хотя в справках о других лицах в том же именном указателе обязательно отмечалось их участие в оппозициях. Раскольников являлся и одним из составителей этого тома, вышедшего под редакцией Сталина.
Говоря об этом, мы не обходим того, что во время дискуссии о профсоюзах, будучи командующим Балтийским флотом, он разделял взгляды оппозиции, однако быстро порвал с. ними. Но этот факт не может служить хоть в какой-то мере оправданием для диаметрально противоположной оценки Раскольникова, ибо Ленин учил партию не бичевать коммунистов за исправленные ошибки. «Перед самой Октябрьской революцией в России и вскоре после нее, — писал он, — ряд превосходных коммунистов в России сделали ошибку, о которой у нас неохотно теперь вспоминают. Почему неохотно? Потому, что без особой надобности неправильно вспоминать такие ошибки, которые вполне исправлены». Точно так же, по-видимому, как не было надобности вспоминать ошибки Ф. Э. Дзержинского, М. В. Фрунзе, допущенные в период борьбы Ленина за Брестский мир. Наконец, с большим основанием Трапезников мог приписать «троцкизм» Сталину, который 6 ноября 1918 года признал за Троцким «всю работу по организации [Октябрьского] восстания», утверждая, что «быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому».
Другое обвинение Раскольникова — в «дезертирстве», «бегстве из Советского Союза» — имеет под собой у Трапезникова
225
не больше оснований, чем предыдущие: эти обвинения были предъявлены ему в 1939 году, но отметены нашими высшими партийными и государственными органами при пересмотре «дела» Раскольникова и его реабилитации.
Что касается использования письма Раскольникова врагами, то они всегда манипулируют в своих целях документами, вскрывающими наши больные места. Точно так же они распространяли материалы партийных съездов, многие материалы печати, разоблачающие культ личности; их перепечатывали и по-своему комментировали не менее одиозные органы, чем газеты Керенского и Милюкова. Но никому в голову сегодня не приходит из факта перепечатки делать вывод о том, что авторы этих материалов «сбратались» с белогвардейцами и фашистами.
Ленин был совсем иного мнения в подобных случаях: «Мы не раз говорили, что все силы Советской власти покоятся на доверии и сознательном отношении рабочих... Мы нисколько не закрывали глаза на то, что всякое слово, которое будет здесь произнесено, будет перетолковываться, что к нашим признаниям будут прислушиваться агенты белогвардейцев, — но мы говорим: пусть! Мы гораздо больше пользы извлечем из прямой и открытой правды, потому что мы уверены, что если это и тяжелая правда, то когда она ясно слышна, всякий сознательный представитель рабочего класса, всякий трудящийся крестьянин извлечет из нее единственный верный вывод».
* * *
20 лет, начиная с 1965 года, на имени Раскольникова снова висела клевета. Его имя вычеркивалось из текстов научных исследований и литературных произведений. Какой мерой измерить тот урон, который был нанесен всем этим воспитанию советских людей на революционных традициях?
В год славного 70-летия Великого Октября с большим душевным подъемом был воспринят призыв Центрального Комитета нашей партии: «В благодарной памяти советских людей вечно будут жить революционеры-ленинцы, сподвижники Ильича, которые заложили героические традиции большевизма и сквозь все невзгоды пронесли непоколебимую верность коммунистическим идеалам». Немеркнущим светом засияло среди этих подвижников коммунизма и имя героя революции Федора Федоровича Раскольникова.
226
«Неделя», 1988 № 26
Федор Раскольников
Открытое письмо Сталину
Я правду о тебе
порасскажу такую.
Что хуже всякой лжи.
Сталин, Вы объявили меня «вне закона». Этим актом Вы уравняли меня в правах — точнее в бесправии — со всеми советскими гражданами, которые под Вашим владычеством живут вне закона.
Со своей стороны отвечаю полной взаимностью: возвращаю Вам входной билет в построенное Вами «царство социализма» и порываю с Вашим режимом.
Ваш «социализм», при торжестве которого его строителям нашлось место лишь за тюремной решеткой, так же далек от истинного социализма, как произвол Вашей личной диктатуры не имеет ничего общего с диктатурой пролетариата. Вам не поможет, если награжденный орденом уважаемый революционер-народоволец Н. А. Морозов подтвердит, что именно за такой «социализм» он провел 20 лет своей жизни под сводами Шлиссельбургской крепости.
Стихийный рост недовольства рабочих, крестьян, интеллигенции властно требовал крутого политического маневра, наподобие ленинского перехода к нэпу в 1921 году. Под напором советского народа Вы «даровали» демократическую конституцию. Она была принята всей страной с неподдельным энтузиазмом.
Честное проведение в жизнь демократических принципов конституции 1936 года, воплотившей надежды и чаяния всего народа, ознаменовало бы новый этап расширения советской демократии.
Но в Вашем понимании всякий политический маневр — синоним надувательства и обмана. Вы культивируете политику без этики, власть без честности, социализм без любви к человеку.
Что Вы сделали с конституцией, Сталин?
227
Испугавшись свободы выборов, как «прыжка в неизвестность», угрожавшего Вашей личной власти, Вы растоптали конституцию, как клочок бумаги, а выборы превратили в жалкий фарс голосования за одну-единственную кандидатуру, а сессии Верховного Совета наполнили акафистами и овациями в честь самого себя. В промежутках между сессиями Вы бесшумно уничтожаете «зафинтивших» депутатов, насмехаясь над их неприкосновенностью и напоминая, что хозяин земли советской не Верховный Совет, а Вы. Вы сделали все, чтобы дискредитировать советскую демократию, как дискредитировали социализм. Вместо того, чтобы пойти по линии намеченного конституцией поворота, Вы подавляете растущее недовольство насилием и террором. Постепенно заменив диктатуру пролетариата режимом Вашей личной диктатуры, Вы открыли новый этап, который в историю нашей революции войдет под именем «эпохи террора».
Никто в Советском Союзе не чувствует себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой Октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, народный комиссар и рабочий, интеллигент и Маршал Советского Союза — все в равной мере подвержены ударам Вашего бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели.
Как во время извержения вулкана огромные глыбы с треском и грохотом рушатся в жерло кратера, так целые пласты советского общества срываются и падают в пропасть.
Вы начали кровавые расправы с бывших троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев, потом перешли к истреблению старых большевиков, затем уничтожили партийные и беспартийные кадры, выросшие в гражданской войне и вынесшие на своих плечах строительство первых пятилеток, и организовали избиение комсомола.
Вы прикрываетесь лозунгом борьбы с «троцкистско-бухаринскими шпионами», но власть в Ваших руках не со вчерашнего дня. Никто не мог «пробраться» на ответственный пост без Вашего разрешения.
Кто насаждал так называемых «врагов народа» на самые ответственные посты государства, партии, армии и дипломатии?
— Иосиф Сталин.
Кто внедрял так называемых «вредителей» во все поры советского и партийного аппарата?
228
— Иосиф Сталин.
Прочитайте старые протоколы Политбюро: они пестрят назначениями и перемещениями только одних «троцкистско-бухаринских шпионов», «вредителей» и «диверсантов», а под ними красуется подпись: И. Сталин.
Вы притворяетесь доверчивым простофилей, которого годами водили за нос какие-то карнавальные чудовища в масках.
— Ищите и обрящете козлов отпущения, — шепчете Вы своим приближенным и нагружаете пойманные обреченные на заклание жертвы своими собственными грехами.
Вы сковали страну жутким страхом террора, даже смельчак не может бросить Вам в лицо правду.
Волны самокритики «невзирая на лица» почтительно замирают у подножия Вашего пьедестала.
Вы непогрешимы, как папа! Вы никогда не ошибаетесь!
Но советский народ отлично знает, что за все отвечаете Вы, «кузнец всеобщего счастья».
С помощью грязных подлогов Вы инсценировали судебные процессы, превосходящие вздорностью обвинения знакомые Вам по семинарским учебникам средневековые процессы ведьм.
Вы сами знаете, что Пятаков не летал в Осло, что М. Горький умер естественной смертью и Троцкий не сбрасывал поезда под откос.
Зная, что все ложь, Вы поощряете своих клевретов:
— Клевещите, клевещите, от клеветы всегда что-нибудь останется.
Как Вам известно, я никогда не был троцкистом. Напротив, я идейно боролся со всеми оппозициями в печати и на широких собраниях. И сейчас я не согласен с политической позицией Троцкого, с его программой и тактикой. Принципиально расходясь с Троцким, я считаю его честным революционером. Я не верю и никогда не поверю в его сговор с Гитлером и Гессом.
— Вы — повар, готовящий острые блюда: для нормального человеческого желудка они несъедобны.
Над гробом Ленина Вы произнесли торжественную клятву выполнить его завещание и хранить, как зеницу ока, единство партии. Клятвопреступник, Вы нарушили и это завещание Ленина.
Вы оболгали, обесчестили и расстреляли многолетних соратников Ленина: Каменева, Зиновьева, Бухарина, Рыкова и др.,
229
невиновность которых Вам была хорошо известна. Перед смертью Вы заставили их каяться в преступлениях, которых они никогда не совершали, и мазать себя грязью с ног до головы.
А где герои Октябрьской революции? Где Бубнов? Где Крыленко? Где Антонов-Овсеенко? Где Дыбенко?
Вы арестовали их, Сталин.
Где старая гвардия? Ее нет в живых.
Вы расстреляли ее, Сталин.
Вы растлили и загадили души Ваших соратников. Вы заставили идущих за Вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.
В лживой истории партии, написанной под Вашим руководством, Вы обокрали мертвых, убитых и опозоренных Вами людей и присвоили себе их подвиги и заслуги.
Вы уничтожили партию Ленина, а на ее костях построили новую «партию Ленина — Сталина», которая служит удачным прикрытием Вашего единовластия. Вы создали ее не на базе общей программы и тактики, как строится всякая партия, а на безыдейной основе личной любви и преданности Вам. Знание программы новой партии объявлено необязательным для ее членов, но зато обязательна любовь к Сталину, ежедневно подогреваемая печатью. Признание партийной программы заменяется объяснением любви к Сталину.
Вы — ренегат, порвавший со своим вчерашним днем, предавший дело Ленина. Вы торжественно провозгласили лозунг выдвижения новых кадров. Но сколько этих молодых выдвиженцев уже гниет в Ваших казематах? Скольких из них Вы расстреляли, Сталин?
С жестокостью садиста Вы избиваете кадры, полезные и нужные стране. Они кажутся Вам опасными с точки зрения Вашей личной диктатуры.
Накануне войны Вы разрушаете Красную Армию, любовь и гордость страны, оплот ее мощи. Вы обезглавили Красную Армию и Красный Флот. Вы убили самых талантливых полководцев, воспитанных на опыте мировой и гражданской войн, во главе с блестящим маршалом Тухачевским.
Вы истребили героев гражданской войны, которые преобразовали Красную Армию по последнему слову военной техники и сделали ее непобедимой.
В момент величайшей военной опасности Вы продолжаете истреблять руководителей армии, средний командный состав и младших командиров.
230
Где маршал Блюхер? Где маршал Егоров?
Вы арестовали их, Сталин.
Для успокоения взволнованных умов Вы обманываете страну, что ослабленная арестами и казнями Красная Армия стала еще сильнее.
Зная, что закон военной науки требует единоначалия в армии от главнокомандующего до взводного командира, Вы воскресили институт политических комиссаров, который возник на заре Красной Армии и Красного Флота, когда у нас еще не было своих командиров, а над военными специалистами старой армии нужен был политический контроль.
Не доверяя красным командирам, Вы вносите в армию двоевластие и разрушаете воинскую дисциплину.
Под нажимом советского народа Вы лицемерно воскрешаете культ исторических русских героев: Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут Вам больше, чем казненные маршалы и генералы.
Пользуясь тем, что Вы никому не доверяете, настоящие агенты гестапо и японская разведка с успехом ловят рыбу в мутной, взбаламученной Вами воде, в изобилии подбрасывают Вам подложные документы, порочащие самых лучших, талантливых и честных людей.
В созданной Вами гнилой атмосфере подозрительности, взаимного недоверия, всеобщего сыска и всемогущества Народного комиссариата внутренних дел, которому Вы отдали на растерзание Красную Армию и всю страну, любому «перехваченному» документу верят — или притворяются, что верят, — как неоспоримому доказательству.
Подсовывая агентам Ежова фальшивые документы, компрометирующие честных работников миссии, «внутренняя линия» РОВСа1 в лице капитана Фосса добилась разгрома нашего полпредства в Болгарии от шофера М. И. Казакова до военного атташе В. Т. Сухорукова.
Вы уничтожаете одно за другим важнейшие завоевания Октября. Под видом борьбы с текучестью рабочей силы Вы отменили свободу труда, закабалили советских рабочих и прикрепили их к фабрикам и заводам. Вы разрушили хозяйственный организм страны, дезорганизовали промышленность и транспорт, подорвали авторитет директора, инженера и мастера, сопровождая бесконечную чехарду смещений и на-
__________________
1 Российский общевоинский союз — эмигрантская белогвардейская организация.
231
значений арестами и травлей инженеров, директоров и рабочих как «скрытых, еще не разоблаченных вредителей».
Сделав невозможной нормальную работу, Вы под видом борьбы с «прогулами» и «опозданиями» трудящихся заставляете их работать бичами и скорпионами жестких и антипролетарских декретов.
Ваши бесчеловечные репрессии делают нестерпимой жизнь советских трудящихся, которых за малейшую провинность с волчьим паспортом увольняют с работы и выгоняют с квартиры.
Рабочий класс с самоотверженным героизмом нес тягость напряженного труда и недоедания, голода, скудной заработной платы, жилищной тесноты и отсутствия необходимых товаров. Он верил, что Вы ведете к социализму, но Вы обманули его доверие. Он надеялся, что с победой социализма в нашей стране, когда осуществится мечта светлых умов человечества о великом братстве людей, всем будет житься радостно и легко.
Вы отняли даже эту надежду: Вы объявили социализм построенным до конца. И рабочие с недоумением, шепотом спрашивали друг друга: «Если это социализм, то за что боролись, товарищи?»
Извращая теорию Ленина об отмирании государства, как извратили всю теорию марксизма-ленинизма, Вы устами ваших безграмотных доморощенных «теоретиков», занявших вакантные места Бухарина, Каменева и Луначарского, обещаете даже при коммунизме сохранить власть ГПУ.
Вы отняли у колхозных крестьян всякий стимул к работе. Под видом борьбы с «разбазариванием колхозной земли» Вы разоряете приусадебные участки, чтобы заставить крестьян работать на колхозных полях. Организатор голода, грубостью и жестокостью неразборчивых методов, отличающих Вашу тактику, Вы сделали все, чтобы дискредитировать в глазах крестьян ленинскую идею коллективизации.
Лицемерно провозглашая интеллигенцию «солью земли», Вы лишили минимума внутренней свободы труд писателя, ученого, живописца. Вы зажали искусство в тиски, от которых оно задыхается, чахнет и вымирает. Неистовство запуганной Вами цензуры и понятная робость редакторов, за все отвечающих своей головой, привели к окостенению и параличу советской литературы. Писатель не может печататься, драматург не может ставить пьесы на сцене театра, критик не
232
может высказать свое личное мнение, не отмеченное казенным штампом.
Вы душите советское искусство, требуя от него придворного лизоблюдства, но оно предпочитает молчать, чтобы не петь Вам «осанну». Вы насаждаете псевдоискусство, которое с надоедливым однообразием воспевает Вашу пресловутую, набившую оскомину «гениальность».
Бездарные графоманы славословят Вас, как полубога, «рожденного от Луны и Солнца», а Вы, как восточный деспот, наслаждаетесь фимиамом грубой лести.
Вы беспощадно истребляете талантливых, но лично Вам неугодных русских писателей. Где Борис Пильняк? Где Сергей Третьяков? Где Александр Аросев? Где Михаил Кольцов? Где Тарасов-Родионов? Где Галина Серебрякова, виновная в том, что была женой Сокольникова?
Вы арестовали их, Сталин.
Вслед за Гитлером Вы воскресили средневековое сжигание книг.
Я видел своими глазами рассылаемые советским библиотекам огромные списки книг, подлежащих немедленному и безусловному уничтожению. Когда я был полпредом в Болгарии, то в 1937 г. в полученном мною списке обреченной огню запретной литературы я нашел мою книгу исторических воспоминаний «Кронштадт и Питер в 1917 году». Против фамилии многих авторов значилось: «Уничтожить все книги, брошюры и портреты».
Вы лишили советских ученых, особенно в области гуманитарных наук, минимума свободы научной мысли, без которого творческая работа становится невозможной.
Самоуверенные невежды интригами, склоками и травлей не дают работать ученым в университетах, лабораториях и институтах.
Выдающихся русских ученых с мировым именем, академиков Ипатьева и Чичибабина Вы на весь мир провозгласили «невозвращенцами», наивно думая их обесславить, но опозорили только себя, доведя до сведения всей страны и мирового общественного мнения постыдный для Вашего режима факт, что лучшие ученые бегут из Вашего рая, оставляя Вам Ваши благодеяния: квартиру, автомобиль, карточку на обеды в совнаркомовской столовой.
Вы истребляете талантливых русских ученых.
Где лучший конструктор советских аэропланов Туполев? Вы не пощадили даже его. Вы арестовали Туполева, Сталин!
233
Нет области, нет уголка, где можно спокойно заниматься любимым делом. Директор театра, замечательный режиссер, выдающийся деятель искусства Всеволод Мейерхольд не занимался политикой. Но Вы арестовали Мейерхольда, Сталин.
Зная, что при нашей бедности кадрами особенно ценен каждый культурный и опытный дипломат, Вы заманили в Москву и уничтожили одного за другим почти всех советских полпредов. Вы разрушили дотла весь аппарат народного комиссариата иностранных дел.
Уничтожая везде и повсюду золотой фонд страны, ее молодые кадры, Вы истребили во цвете лет талантливых и многообещающих дипломатов.
В грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлено против Советского Союза, когда борьба за Данциг и война в Китае — лишь подготовка плацдарма для будущей интервенции против СССР, когда главный объект германо-японской агрессии — наша Родина, когда единственная возможность предотвращения войны — открытое вступление Союза Советов в Международный блок демократических государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией, Вы колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник между двумя «осями».
Во всех расчетах Вашей внешней и внутренней политики вы исходите не из любви к Родине, которая Вам чужда, а из животного страха потерять личную власть. Ваша беспринципная диктатура, как гнилая колода, лежит поперек дороги нашей страны. «Отец народа», Вы предали побежденных испанских революционеров, бросили их на произвол судьбы и предоставили заботу о них другим государствам. Великодушное спасение жизни не в Ваших принципах. Горе побежденным! Они Вам больше не нужны.
Еврейских рабочих, интеллигентов, ремесленников, бегущих от фашистского варварства, Вы равнодушно предоставили гибели, захлопнув перед ними двери нашей страны, которая на своих огромных просторах может приютить многие тысячи эмигрантов.
Как все советские патриоты, я работал, на многое закрывая глаза. Я слишком долго молчал. Мне было трудно рвать последние связи не с Вами, не с Вашим обреченным режимом, а с остатками старой ленинской партии, в которой я пробыл без малого 30 лет, а Вы разгромили ее в три года. Мне было мучительно больно лишаться моей Родины.
Чем дальше, тем больше интересы Вашей личной дикта-
234
туры вступают в непрерывный конфликт и с интересами рабочих, крестьян, интеллигенции, с интересами всей страны, над которой Вы измываетесь как тиран, добравшийся до единоличной власти.
Ваша социальная база суживается с каждым днем. В судорожных поисках опоры Вы лицемерно расточаете комплименты «беспартийным большевикам», создаете одну за другой привилегированные группы, осыпаете их милостями, кормите подачками, но не в состоянии гарантировать новым «калифам на час» не только их привилегии, но даже право на жизнь.
Ваша безумная вакханалия не может продолжаться долго.
Бесконечен список Ваших преступлений. Бесконечен список имен Ваших жертв! Нет возможности все перечислить.
Рано или поздно советский народ посадит Вас на скамью подсудимых как предателя социализма и революции, главного вредителя, подлинного врага народа, организатора голода и судебных подлогов.
17 августа 1939 года1
___________________
1 Вариант письма, опубликованный в еженедельнике «Неделя». Еще один известный вариант хранится в ЦГАЛИ.
235
«Советская культура», 1988 27 февраля
Лев Овруцкий
Мера закона и безмерность беззакония
Политический лексикон тяготеет к однозначности и потому избегает образности. О перестройке говорят — «свежий ветер», «ветер перемен». В лучшем случае, что граничит с поэтической вольностью, «свежий ветер перемен». Желая внести посильную лепту в процесс метафоризации, но не выходя в то же время за рамки метеосравнений, хочу уподобить перестройку весеннему дождю, смывающему серый налет катаракты с наших хрусталиков. Отчего взгляд делается острее и подробнее.
Прозревая, мы замечаем, что жизнь укрупнилась. Куда-то подевались рядовые события, сегодня каждое приобрело отчетливые значение и смысл. Но и в этом неординарном событийном ряду одно недавнее выделяется по ранжиру. Я имею в виду состоявшееся 4 февраля 1988 г. постановление Верховного Суда СССР об отмене приговора в отношении Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова, А. П. Розенгольца, М. А. Чернова, П. П. Буланова, Л. Г. Левина, И. Н. Казакова, В. А. Максимова-Диковского, П. П. Крючкова и X. Г. Раковского. В марте 1938 г. они были осуждены по делу о так называемом антисоветском «право-троцкистском блоке».
Крошатся старые догмы, достигшие ветхости гербария. Все чаще социальная справедливость оборачивается справедливостью исторической. Думаю, большинство читателей распрямит плечи и вздохнет с облегчением и надеждой. Осенит себя неким атеистическим эквивалентом крестного знамения: «Наконец-то». Верили, ждали. Минуло 50 без малого лет. Дождались.
Правда — не только горькое, но и обжигающее аорту лекарство. Щадящая дозировка, если не бесспорна, то по крайней мере объяснима. Из памятки лекаря: с незажившей
236
раны повязку срывай не разом, но осторожно и со смущением. Известно, как долго и скрупулезно разматывал Верховный Суд этот незамысловатый, казалось бы, клубок. Не след, говорят нам, нетерпеливым, толкать под руку и суетиться. Что ж, приемлю неспешность Фемиды, угадываю в ее фундаментальной повадке приметы неотвратимости.
Реабилитация — что веха на пути познания, о котором сказано: тяжкий. Зарубка на память и на покаяние. Фамусовское «подписано, так с плеч долой» пригодно для подметного письма, но не для гласного опровержения.
Будем помнить.
У меня в руках «Судебный отчет по делу антисоветского «право-троцкистского блока», изданный тогда же, в 38-м. Он доступен читателю, в отличие, скажем, от отчета о 3-м съезде Советов, который почему-то угодил в спецхран. Серый, невыразительный томик. 385 страниц, и цена соответствующая: 3 руб. 85 коп. По копейке, выходит, за страницу. На старые, конечно, очень старые деньги.
ВЫШИНСКИЙ. К чему сводились ваши цели!..
БУХАРИН. Прогноз сводился к тому, что будет большой крен в сторону капитализма.
ВЫШИНСКИЙ. А оказалось!
БУХАРИН. А оказалось совсем другое.
ВЫШИНСКИЙ. А оказалась полная победа социализма.
БУХАРИН. Оказалась полная победа социализма.
ВЫШИНСКИЙ. И полный крах вашего прогноза...
БУХАРИН. И полный крах нашего прогноза.
ВЫШИНСКИЙ. Короче говоря, вы скатились к прямому оголтелому фашизму.
БУХАРИН. Да, это правильно... Позвольте перейти сразу к изложению моей преступной деятельности...
А вот эпизод из «показаний» А. И. Рыкова:
РЫКОВ. ... От СССР отходят крупнейшие национальные республики...
ВЫШИНСКИЙ. Следовательно, это — расчленение СССР, отторжение от него ряда республик!
РЫКОВ. Да.
ВЫШИНСКИЙ. Подготовка фашистам плацдарма для нападения и победы!
РЫКОВ. Да, это несомненно.
237
ВЫШИНСКИЙ. Вы шли к своим преступным целям ценою измены!
РЫКОВ. Конечно.
Как в это поверил народ? Вот вопрос вопросов, и над ним взволнованно размышляют публицисты.
В то время были предельно обострены классовые инстинкты, пишет один из них. С этим трудно согласиться. Классовый инстинкт выражается, по-видимому, в том, что своего безошибочно отличают от чужого. Здесь же, как в театре абсурда, революционера принимают за вредителя, большевика — за шпиона. Впору говорить не об обострении классового инстинкта, а о его атрофии.
Средневековые отоларингологи донесли до нас любопытные наблюдения. Оказывается, когда в очередной раз начиналась «охота на ведьм», многие начинали вздрагивать ноздрями, явственно ощущая запах серы. Что отнюдь не свидетельствовало об обострении нюхательного инстинкта. Как, впрочем, и об избытке серы в атмосфере.
В поисках ответа нельзя забывать, что согласно обычному летосчислению 38-му году предшествовал год 37-й. С завораживающей методичностью люди исчезали из дома на набережной и из тысяч и тысяч других домов. Эти преступления, сказано было с высокой трибуны, не подлежат забвению и прощению. Но преступления имеют свойство порождать, будучи разоблаченными — праведный гнев, оставаясь безнаказанными — всепроникающий страх.
И страх этот не связан с мерой понимания происходящего, ему одинаково подвержены ученый мудрец и безвестный землепашец, впадающий в ступор при слове «гидроэлектростанция».
Греки, сообщает Монтень, различали особый вид страха, который не зависит от наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порой целый народ.
Имя небожителя, внушавшего страх, нам ведомо. Равно и особые его приметы: лицо — рябое, рост — ниже среднего, воинское звание — генералиссимус.
Страх вершил метаморфозы: убежденность и вера трансформировались в слепые верования, надежда — в исступленное радение. Искренние аплодисменты приобретали обморочную длительность оваций, благороднейший энтузиазм
238
смыкался с болезненной экзальтацией. Страх заставлял мыслить немыслимое: отец твой — враг твой, брат твой — Каин, мужа своего — разоблачи. Отчего бы, в самом деле, и не вообразить, что кто-то там — шпион и вредитель. Тем более, что излагаем как по-писанному:
ВЫШИНСКИЙ. Подытожим кратко, в чем вы себя признаете виновным по настоящему делу.
ШАРАНГОВИЧ. Во-первых, что я изменник родины.
ВЫШИНСКИЙ. Старый польский шпион.
ШАРАНГОВИЧ. Во-вторых, я заговорщик. В-третьих, я непосредственно проводил вредительство.
ВЫШИНСКИЙ. Нет, в-третьих, вы непосредственно один из главных руководителей национал-фашистской группы в Белоруссии и один из активных участников «право-троцкистского антисоветского блока».
ШАРАНГОВИЧ. Правильно. Потом я лично проводил вредительство.
ВЫШИНСКИЙ. Диверсии.
ШАРАНГОВИЧ. Правильно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ (Ульрих]. Организатор террористических актов против руководителей партии и правительства.
ШАРАНГОВИЧ. Верно.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. И все это совершал в целях...
ШАРАНГОВИЧ. И все это совершал в целях свержения Советской власти, в целях победы фашизма, в целях поражения Советского Союза в случае войны с фашистскими государствами.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Идя на расчленение СССР, отделение Белоруссии, превращение ее...
ШАРАНГОВИЧ. Превращение ее в капиталистическое государство под ярмом польских помещиков и капиталистов.
Бред, не колеблясь, поставит диагноз читатель.
Это вы нынче больно смелыми стали, возразит некий полупочтенный член домового комитета, с неизъяснимым упорством именующий современную молодежь «совремённой молодежью».
Но это приметы сегодняшнего дня, а вчера верили бреду как откровению, ибо страх сообщал разумному и осмысленному бытию черты фантасмагории. Маркс, между прочим, писал об иррациональности, присущей душе буржуа. Не исключено, что в определенные моменты непереносимого исто-
239
рического напряжения иррациональность, род недуга, снисходит и на рабоче-крестьянскую душу. Об этом стоило бы подумать нашим социологам и психологам. Возможно, научные изыскания позволят установить, что именно страх суть генератор, возбуждающий иррациональное поведение.
Герценовский доктор Крупов меланхолично замечает, что история — это автобиография сумасшедшего. Тут старик обобщил неправомерно и, конечно же, «загнул». Но в то же время в его парадоксальных суждениях есть нечто, имеющее касательство к нашей теме. «Историки, — пишет он в своем сочинении о душевных болезнях, — будучи большею частию не врачами, не знают, на что обращать внимание; они стремятся везде выставить после придуманную разумность и необходимость всех народов и событий; совсем напротив надобно на историю взглянуть с точки зрения патологии, надобно взглянуть на исторические лица с точки зрения безумия, на события — с точки зрения нелепости и ненужности».
Пожалуй, на точке зрения нелепости и ненужности политических процессов 30-х годов мы уже утвердились. Осталось взглянуть «с точки зрения безумия» на вершителей громких «дел», устроителей варфоломеевских лет.
Вот один из них — Г. Г. Ягода. Человек среднего роста, на вид уравновешенный, деловитый, с убегающим подбородком и подстриженными усиками — так его описывают современники. Член партии с 1907 года. Партийную работу вел в Нижнем Новгороде и Петрограде. В 1919—1922 годах — член коллегии Наркомвнешторга; с 1920—на руководящей работе в ВЧК, ГПУ — ОГПУ, НКВД. На XVII съезде партии был избран в ЦК. В мае 1934 г. стал председателем ОГПУ, наркомом внутренних дел, в сентябре 1936-го последовала отставка, имевшая вид перевода на должность наркома связи. В 37-м — вывод из ЦК, исключение из партии, арест.
Читатель, полагаю, обратил внимание на то, что протест в отношении Г. Г. Ягоды, проходившего по делу об антисоветском «право-троцкистском блоке», Прокуратурой СССР не приносился.
Каждый легко поймет чувства, обусловившие это решение. Ведь Ягода — предтеча «ежовщины», организатор так называемого «кировского потока» и многих других. И сам пал жертвой дьявольского механизма, который столь тщательно отлаживал.
Признаюсь, пристрастен. У меня, как у многих, свой счет к этому человеку и иже с ним. Свой мартиролог, свой поми-
240
нальник. В те приснопамятные годы четверо моих дядьев были обвинены в шпионаже в пользу Ирана. Троих, сознавшихся, расстреляли. Четвертому, молодому и сильному, повезло. Что с ним ни делали — отпирался и счастливо отделался «четвертаком». Он был неграмотный, как не преминул бы заметить Бабель, до глубины души. Работал балагулой, то есть ломовым извозчиком, в городе Крыжополь, что на Украине. Городок сей славен яблоневыми садами и потому, наверное, представлял особый интерес для иранской разведки.
Дядя Яша вернулся в 56-м, жить ему оставалось недолго. Увидев на столе у меня, третьеклассника, глобус, попросил: «Слушай, покажи мне, наконец, где этот Иран?» Никогда ни до, ни после не встречал я человека, так долго, так молчаливо, так сосредоточенно разглядывавшего индифферентный желтый ромбик на ученической карте. Играл желваками, постигал ближневосточную диспозицию.
И все же, все же, все же...
И с какой скорбной силою ни стучал бы пепел Клааса в наши сердца, те, кто превратил Клааса в пепел, ответственны и да судимы будут за аутодафе, а не за ограбление бакалейной лавки. Разве что по совокупности.
Ягода «признал» себя виновным в том, что был одним из руководителей «право-троцкистского подпольного блока», преследующего цель свержения Советской власти и восстановления в СССР капитализма. Ягода «взял» на себя вину в шпионаже и передаче государственных средств Троцкому, в организации убийства Менжинского, Куйбышева, Горького, в покушении на жизнь Ежова путем опрыскивания ядами штор в его кабинете (как убога фантазия обвинителя!).
Он давал, как явствует из «Судебного отчета», преступные поручения людям, чья невиновность сегодня удостоверена Верховным Судом. Вручая склянки с ядом невидимкам, заговорщицки переговариваясь с пустотой, Ягода застыл над вечностью, как вопросительный знак. Чеховский Фирс, забытый в заколоченном доме, трагичен. Одинокий Ягода, блуждающий среди томов дела о «блоке», — комичен. И комичность эта унижает правосудие.
Учиться демократии — это значит, в числе прочего, в делах и помыслах не выходить за пределы законности. В идеале, с каковым мы связываем представление о деятельности высшей надзорной инстанции, нравственность полностью заключена и растворена в законе, а не пребывает в нем инородно, в виде взвеси или осадка. Возникающие здесь коллизии вы-
241
свечивают либо ущербность этических императивов, либо несовершенство законодательных норм.
Библейский принцип — какой мерой мерите, такой и вам отмерится — обнаруживает свою недостаточность, соприкасаясь даже с обыденной моралью. Помните «золотое правило» довоенной сталинской стратегии: «На удар врага ответим тройным ударом!»
А на удар ниже пояса?
На низость — низостью, на гнусность — гнусностью, на подлость — подлостью?
Нет. Безмерности беззакония противостоит единственно лишь мера закона. Апеллируя к закону, мы тем самым обозначаем грань между местью и возмездием. Правосудие одно — для святых и святош, для убийц и убиенных. Правосудие неделимо, как неделимы истина и справедливость. Иск, вчиняемый именем миллионов, должен быть бесспорным.
242
«Комсомольская правда», 1988 17 марта
Д. Полякова, кандидат исторических наук, доцент
В. Хорунжий, кандидат исторических наук
Александр Косарев:
«Совесть моя чиста»
«...Нюра, ты должна простить мне, что я так мало тебе писал. Но я ничего не могу поделать — просто нет времени. На заводе все работают сверхурочно — некоторые смены по семнадцать-восемнадцать часов. Общая напряженность достигла предела. Мы с девяти утра до глубокой ночи находимся в заводе». Знакомые слова, узнаваемые проблемы. Процитированные строки из письма «правдиста» Якова Ильина жене Анне Северьяновой датированы 1931 годом. Именно тогда председатель ВСНХ Г. К. Орджоникидзе обратился к Центральному Комитету ВЛКСМ с просьбой помочь на Сталинградском тракторном.
В Сталинград прибыли две бригады — «правдисты» и комсомольская. Во вторую вошли работники ЦК ВЛКСМ и «Комсомольской правды». Бригадир — генеральный секретарь ЦК комсомола Александр Косарев.
Косарев, тогда уже опытный организатор и комсомольский работник, понимал: главное сейчас — переломить настроение людей. Поднять дух у отчаявшихся, поддержать энтузиастов. 60 процентов тех, кто работал на заводе, — молодежь. Разве это не силища?
Комсомольские собрания, активы Александр Косарев проводит прямо в цехах, общежитиях и даже... в пригородных поездах. Старается разъяснить всем, как важно выдержать график, не сбиться снова на штурмовщину.
27 мая 1931 года трактор-«пятитысячник», подчиняясь Сашиным рукам, сходит с ленты конвейера. Первый круг на заводском дворе.
Александр взволнован и горд. Заводчане подарили новорожденный СТЗ № 5000 с гордым именем «Интернационал» Центральному Комитету ВЛКСМ.
Докладывая Бюро ЦК ВЛКСМ о результатах работы объединенной комсомольской бригады, Косарев скажет, что в
243
Сталинграде комсомолу открыли кредит доверия. И надо не подвести. Теперь, когда главный вопрос был решен, он уже думал о другом, заглядывал в будущее. На тракторном острейший дефицит технической литературы. Важно побыстрее скомплектовать библиотечки и наладить отправку. Но самое срочное — перевести на русский язык инструкции к американскому оборудованию для основных цехов. Так что придется звать на помощь полиглотов из КИМа.
Горьковский автомобильный, Харьковский тракторный, Магнитогорск, Хибины, Березняки, цветная металлургия Казахстана, уголь и металлургия Сибири, текстильные фабрики Туркестана — страна неудержимо мчит вперед, и стройки требуют новых и новых рабочих рук. Комсомол эти руки дает. Не всегда умелые, чаще приученные к лопате, чем к рукоятке трактора, но жадные до работы.
«А все-таки выдержу» — вот что характеризует крепость комсомола и его поступательное движение вперед», — подчеркнет Косарев на IX съезде ВЛКСМ, рассказывая о бескорыстии и силе духа комсомольцев, которые строили страну и строили себя.
Однако дорога впереди не расстилалась скатертью. Были на ней и ухабы, и рытвины. Была и опасность бюрократизма, формализма.
Бюрократами, «вгоняющими море в сосуд», называл Александр комсомольских работников и активистов, которые рамками — «от сих до сих» ставят рогатки самодеятельности молодежи.
Непримирим Косарев к бумаготворчеству. Вместе с товарищами по ЦК и вожаками местных комитетов комсомола бьется над тем, чтобы стреножить, остановить бумажную карусель. Вот бы и нам, на исходе 80-х, вслушаться в меткое косаревское наблюдение-притчу: «Циркуляр когда-то разгромили, а он, хитрый такой, взял да и принял форму резолюции, а резолюция тоже хитрая: она превратилась в план мероприятий».
Гражданскому темпераменту Косарева ближе всего всегда были замыслы комсомола, обращенные к душе человека.
Гармонь. Этот любимый в народе инструмент переживал в те годы опалу.
Плохую славу создали инструменту пьяные гульбища в рабочих предместьях, крикливые посиделки кулацких сынков, будоражившие деревню вплоть до петушиной побудки. Отчасти поэтому родилось скороспелое мнение о гармони как
244
спутнице бескультурья. Подлил масла в огонь и пролетарский поэт Демьян Бедный, резко выступавший в печати против «горластой зазывалы».
Но комсомольцы дружно проголосовали за любимую гармошку.
Первый Московский конкурс гармонистов. За час до его открытия 12 декабря 1926 года на улицах, прилегающих к Экспериментальному театру, забурлил песнями упругий молодой поток. Машины останавливались, пропуская вперед смеющихся парней и девчат. Нарком просвещения Луначарский еле протиснулся в зал, увидел Сашу.
— Вы, кажется, уже начали конкурс, — улыбнулся Анатолий Васильевич.
— Неофициально — да, официально — ждем вашего благословения. — Слово — товарищу Луначарскому. — Косарев поднял руку, и стало тихо.
«До крайности важно нам в нашем Союзе — говорил нарком, — с одной стороны, дать лучшие достояния человеческой культуры народным массам, а с другой — распечатать... бурные источники, ...кипучие гейзеры народного творчества...»
«Распечатать кипучие гейзеры народного творчества» — Александр быстро записал понравившуюся мысль в блокнот и, развивая ее в выступлении перед участниками конкурса, подчеркнул: «Именно этому комсомол и будет способствовать».
При МК ВЛКСМ образовалась комиссия по работе с гармонистами — тоже Сашина инициатива. Комсомол привлек к сотрудничеству «на почве гармони» лучшие профессиональные силы. Музыку для нее теперь писали С. С. Прокофьев и А. К. Глазунов. Под переливы ее аккордов пели А. В. Нежданова, И. С. Козловский, М. П. Максакова, танцевала Е. В. Гельцер. В работе жюри на конкурсах гармонистов участвовали композиторы М. М. Ипполитов-Иванов, А. Д. Кастальский, знаменитый режиссер-экспериментатор В. Э. Мейерхольд.
На гармони не сошелся клином белый свет. Вслед за комсомольским поэтом Александром Жаровым, воспевшим гармошку, другой комсомольский поэт Иосиф Уткин прославил гитару. Рабоче-крестьянская молодежь тянулась и к классическим инструментам, симфоническим оркестрам, бетховенским концертам, конкурсам молодых дарований...
Комсомол вырос в те годы в большую политическую силу. Он активно участвует в социалистическом соревновании, развитии стахановского движения. Множатся ряды ВЛКСМ, расширяется сеть его организаций.
245
Разворачивается шефство комсомола над Военно-Воздушными Силами. Создается Центральный аэроклуб. В содружестве с Осоавиахимом готовятся без отрыва от производства летчики, парашютисты. Вырастить крылатое племя — косаревская мечта.
Но ему самому подрезают крылья.
21 июля 1937 года — беседа у И. В. Сталина. Приглашены секретари ЦК ВЛКСМ А. Косарев, П. Горшенин, В. Пикина. Сталин: «Сейчас Николай Иванович Ежов (тогда нарком внутренних дел. — Авт.) ознакомит вас с тем, какую вражескую работу проводят ваши комсомольцы». Ежов берет со стола бумаги и читает «показания» секретаря Саратовского обкома комсомола Михаила Назарова о том, что он якобы завербован в контрреволюционную организацию...
Пикина не выдерживает: «Этого не может быть. Я знаю Мишу Назарова с детства. Мы были соседями по Васильевскому острову. Росли вместе. Месяц назад я ездила в командировку в Саратов. Назаров — энергичный, нормально работает, растит троих детей». Ежов тусклым, еле слышным голосом роняет: «Таковы данные, которыми мы располагаем». Косарев взрывается: «Эти данные неверны. Назаров зарекомендовал себя с хорошей стороны». Сталин: «Мы предъявляем вам факты, а вы нам эмоции».
Упреки посыпались градом: ЦК ВЛКСМ не помогает органам внутренних дел разоблачать врагов народа в комсомоле. А их немало не только среди рядовых комсомольцев, но и в руководстве ВЛКСМ на разных уровнях. От этого намека тянуло холодком. «Косарев, я вижу, вы не желаете возглавить эту работу», — отстраненно бросил на прощание Сталин.
В те годы велик был авторитет Косарева в стране, и не только в молодежной среде. В постановлении Президиума ЦИК СССР (1933 г.) говорилось: «Наградить орденом Ленина А. В. Косарева — испытанного руководителя комсомола, выдающегося организатора комсомольских масс...». На XVII съезде ВКП(б) Александр Васильевич избирается членом ЦК ВКП(б), а позже членом его Оргбюро. В 1937 году он становится депутатом Верховного Совета СССР.
Но в эти же годы прокатывается волна репрессий.
Александр, как мог, спасал товарищей, особенно тех, кого давно и хорошо знал, за кого мог лично поручиться. Если узнавал о наветах на них, всячески старался отвести подозрения, перебрасывал на работу в другие регионы (позже это ему припомнят). Вместе с Валентиной Пикиной ходил к секре-
246
тарю ЦК ВКП(б) А. А. Андрееву вызволять арестованных Сергея Уткина и Зинаиду Адмиральскую — руководителей Ленинградского и Ивановского обкомов комсомола. Им это удалось. Но только на время.
Вот где проявился характер Косарева: в июле 1937 года Сталин поставил Косареву в вину нежелание возглавить «работу» по разоблачению врагов народа в комсомоле. А в октябре, проанализировав материалы августовской командировки в Харьков, Александр Васильевич в своей докладной записке ясно дает понять Сталину, что по-прежнему стоит на своем. Это был вызов, и Сталин запомнит его.
Приближаемся к самым трудным, самым трагичным страницам из жизни комсомольского генсека. Сегодня, когда мы узнаем правду о тех годах, когда заговорили молчавшие до сих пор документы и взволнованно, горячо, порой сбивчиво, редкие свидетели, понимаешь, каким непростым был образ людей, кому выпало жить и работать в 30-е годы.
Всегда ли Косарев решительно выступал против огульного объявления людей «врагами народа»? Ответим прямо: нет, не всегда. Надо знать атмосферу тех лет, уважение молодежи к ветеранам революции, чтобы понять, почему прозрение свершилось не сразу. Слишком долго он и его товарищи безоговорочно верили Сталину, а значит, и его формуле обострения классовой борьбы при социализме. Отчего? Они его младшие современники. При Сталине выдвинуты на руководящую комсомольскую работу, получили от него напутствие. Комсомольские вожаки были настоящими солдатами партии, готовыми умереть за нее. И не только на словах. Сталин в понимании многих олицетворял идеи партии, считался продолжателем дела Ленина. И когда они произносили — «партия Ленина — Сталина», «Ленинско-Сталинский комсомол», то не кривили душой.
Не будем забывать, что в 1929—1938 годы, когда Косарев возглавлял Центральный Комитет ВЛКСМ, происходило нарастание сталинского культа.
Незаметно для непосвященных происходила прицельная канонизация теорий, концепций и лозунгов Сталина. Казалось естественным соседство портретов и «органическое» родство идей «двух вождей». И постепенно вошло в массовое сознание: «Сталин — это Ленин сегодня». Поэтому можно лишь отдаленно представить себе, как сложно было Александру, который считался любимцем Сталина и все-таки посмел не
247
просто возражать, но и сопротивляться ему. И сейчас, после длительного безмолвия, когда появляется немало публикаций, важно удержаться на стезе объективности. Избежать и «хрестоматийного глянца», и несправедливого, необъективного осуждения.
Косарев был разным в разные годы. Человек ведь не стоячая вода в болоте. Человек — река. Она встречается и с отмелями, и с порогами. Течение бывает то спокойным, то бурным. То стремительным, то неторопливым. Случается, что река, навоевавшись с преградами, устает, истончается до ручья, но, накопив энергию, снова мощно торит путь большой воде. И трудно согласиться с выводом «Московского комсомольца», напечатавшего в августе 1987 года статью об А. Косареве, что «у Косарева наступает процесс личного затухания. Разлад с самим собой. Выступления в печати… не те, что прежде. Нет в них ни «былого задора, ни смелой постановки проблем».
Нет, смелость мысли, новаторский почерк в комсомольской работе остались с Александром Васильевичем до конца. Вот его речь на совещании молодых стахановцев в январе 1938 года. Предчувствие беды незримо висит над ним, и он не может этого не понимать. Но посмотрите: здесь — и актуальнейшие положения о роли молодежи «на социалистической стройке», и проблемы связи коммунистического воспитания с политикой, идеологии — с повседневной практикой, и поучительные наблюдения над рекордоманией в стахановском движении.
Вот чем жил, чем дышал, за что ратовал Косарев. Поэтому не будем делать из него ни ходульного героя, ни пораженца.
Чтобы созреть до мужественной борьбы последних лет, нужно было пройти через многое. Через аресты и смерть друзей, через мучительные вопросы самому себе, через нескончаемые внутренние диалоги со Сталиным.
Перед нами — стенограмма внеочередного пленума ЦК ВЛКСМ — последнего в жизни А. В. Косарева. Три увесистые папки, 500 с лишним страниц. Изобилующий назидательными повторами доклад (с ним выступал М. Ф. Шкирятов). Нашпигованные обидными ярлыками выступления.
— Мотивы для созыва пленума вам известны, — сказал, открывая первое заседание, А. А. Жданов. — Безобразное отношение, проявленное руководством ЦК ВЛКСМ к т. Мишаковой.
248
Камнепады бичующих слов непрерывно скатывались с трибуны в зал целых четыре дня (с 19 по 22 ноября 1938 г.). Умелые дирижеры сознательно нагнетали атмосферу. Шесть секретарей Центрального Комитета партии (И. В. Сталин, Л. М. Каганович, А. А. Андреев, А. А. Жданов, Г. М. Маленков, В. М. Молотов) — против Косарева и тех, кто остался ему верен.
Коротко история такова. Инструктор ЦК ВЛКСМ Ольга Мишакова в конце сентября 1937 года была направлена в качестве представителя ЦК на отчетно-выборную конференцию в Чувашскую областную комсомольскую организацию. Превысив свои полномочия, она занялась активным разоблачением «врагов народа».
Компрометирующие материалы фабриковались не только на первого и второго секретарей обкома комсомола А. Сымокина и И. Терентьева (их она обвинила в бытовом разложении, связи с буржуазными националистами, шпионаже, а также в насаждении вражеских элементов в комитеты ВЛКСМ), но и на первого секретаря обкома ВКП(б) С. П. Петрова, наркома внутренних дел Чувашии Розанова.
Мишакова не раз телеграфировала и звонила из Чебоксар в Москву. Не добилась поддержки своих действий у Косарева. Но «добро» получила от Г. М. Маленкова. В конце концов провокациями, шантажом и запугиваниями она добилась исключения из комсомола Сымокина, Терентьева и других.
Однако в Москве ее погромные усилия не нашли одобрения.
Докладным запискам Мишаковой, в которых она оклеветала десятки добросовестных тружеников, коммунистов и комсомольцев, указала на множество «исключительно пораженных районов молодежными контрреволюционными группами», Косарев ходу не давал. Самой Мишаковой было отказано в политическом доверии. Бюро ЦК ВЛКСМ освободило ее от занимаемой должности.
В письме И. В. Сталину О. Мишакова пожаловалась на Косарева. «Дорогой т. Сталин! Я прошу Вас проверить, почему не были приняты меры по моим сигналам. По чьей вине враги народа в Чувашии еще на год остались не разоблаченными, не вскрытыми. Почему не была передана моя докладная записка, написанная на имя т. Косарева для т. Ежова».
Эта жалоба и послужила удобным предлогом для созыва пленума ЦК комсомола. Но предлогом формальным. Главное здесь — вопрос о положении в ЦК комсомола. А оно давно
249
уже не устраивало Сталина. Сам он подавал пример совершенно иных действий. «Т. Сталин, — говорилось на пленуме, — уцепившись за некоторые факты, подвел дело прямо к разоблачению целой банды врагов в руководстве ЦК ВЛКСМ... Затем были разоблачены враги и среди секретарей обкомов, крайкомов и ЦК комсомола нацреспублик».
А. В. Косарев, В. Ф. Пикина, С. Я. Богачев... сняты с работы, исключены из состава Центрального Комитета ВЛКСМ.
...До 28 ноября они ждали дальнейшего решения своей судьбы.
Лишенный любимой работы, познавший отчуждение вчерашних друзей, Косарев метался. Только сейчас притаившиеся в закоулках сознания разрозненные факты выстраивались один за другим в логическую цепочку.
— Саша, мне говорили, ты женился на своей стенографистке.
— Нет, Иосиф Виссарионович, Маруся — студентка Плехановского института.
— Откуда она, из какой семьи?
— Родители — большевики. Отец руководил партийными организациями на Кавказе и в Закавказье. В Астрахани и Азербайджане работал с Кировым. В партии с 1903 года. Кстати, — тоже из Тифлисской губернии. Да, самое главное я и забыл. Вы наверняка помните его по Грузии, товарищ Сталин. Ведь вместе с Вами, Махарадзе, Шаумяном он входил в «Литературное Бюро большевиков». Виктор Иванович Нанейшвили, вспомнили?
— Долго говоришь, Саша. Напрасно фамилию сразу не назвал. Анкету пересказывал. Кому пересказывал? Мне. А я Нанейшвили хорошо знаю. Это мой враг. — Учти. — Сталин скользнул взглядом по окаменевшему лицу Косарева и, довольный произведенным впечатлением, круто изменил тему.
...Позже Косареву стало известно о серьезных разногласиях между Нанейшвили и Сталиным по национальному вопросу. Тем не менее Саша не учел сталинского предостережения, не сделал охранительных для себя выводов. Он преклонялся перед своим тестем и не скрывал этого.
Кто твои друзья, Александр Васильевич? Иных уж нет, а те далече...
Василий Чемоданов. Секретарь Исполкома КИМа. Васю Александр «открыл», когда работал секретарем Бауманского райкома РЛКСМ. Посоветовал ему учиться в советско-партийной школе. Из виду не терял. В 30-е годы комсомол имел
250
все основания гордиться Чемодановым. Он писал яркие статьи по теории и практике юношеского движения. Достойно представлял ВЛКСМ в Коммунистическом Интернационале Молодежи. Неожиданный отзыв и исчезновение «камрада Чемо» было для молодых интернационалистов ударом и потрясением.
Паша Горшенин. Косарев рекомендовал его на пост секретаря Центрального Комитета ВЛКСМ по военной работе. За Горшениным, строгим, подтянутым, в гимнастерке и поскрипывающих ремнях, стаями бегали мальчишки: «Дяденька, возьми на аэродром». Его книгу «Комсомол и авиация» зачитывали до дыр. Паша первый из комсомольских работников поднял в небо самолет. И, главное, сплотил вокруг ЦК тысячи преданных военному делу парней и девчат... Где он сейчас, Павел Горшенин, тоже арестованный с клеймом «враг народа»?
Многих выдвинул, рекомендовал, предложил Александр Косарев на комсомольскую работу разновеликого масштаба.
Косарев сопротивлялся перерождению комсомола, попыткам превращения его из организации воспитательной в организацию карательную.
Косарев защищал комсомол от наветов. Обратим внимание на то, в чем обвинял Косарева секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Андреев: «...Когда партия уже начала разоблачение врагов на различных участках партийной, советской, хозяйственной работы, приходилось не раз слышать от тов. Косарева (...), что в комсомоле, мол, нет врагов (...). Эта позиция была ложной и т. Косарев неоднократно получал предупреждения от ЦК ВКП(б), в том числе и на пленумах ЦК комсомола, что не может быть такого положения, чтобы в комсомоле не было врагов и всякого рода двурушников (...). Смотрите, т. Косарев, смотрите, руководство ЦК комсомола, в оба, разоблачайте врагов в комсомоле, очищайте комсомол от право-троцкистских шпионов».
В эти трудные дни Косарев вспоминал всю свою жизнь. В 14 лет он впервые громко и без оглядки, во всю силу легких выдохнул из самых глубин души: «Революция! Выходи во двор! Хватит набивать карманы буржуям!» Начиналась февральская, 1917 года, забастовка рабочих Москвы. И дети, подростки с «Трикотажки» ни за что не хотели отставать от взрослых.
...Вглядываться в прошлое помогали фотографии. Он и не представлял, что Маруся, жена, собрала их такое множество. Вот на снимке Мария Ильинична Ульянова. Когда-то от комсо-
251
мольцев Бауманского района столицы, где работал Саша, протянулась через нее трепетная ниточка к Ильичу. 3 октября 1922 года Александр, учтя мнение большинства активистов, продиктовал постановление райкома РКСМ: «Срочно отправить В. И. Ленину сегодняшнюю газету «Путь молодежи» с пожеланиями скорейшего выздоровления и вручить все Марии Ильиничне Ульяновой» (она работала секретарем «Правды»).
Орджоникидзе... Когда они только знакомились и Григорий Константинович впервые пожимал шершавую Сашину руку, он пошутил: «Косарев, у тебя будто наждак в ладони». Александр смутился, спрятал кулак за спину. «Это от кислоты, товарищ Серго. Зарубки пролетарского детства, как выражаются писатели».
...Саша вдруг рассмеялся. За эти сумеречные дни — впервые.
— Маруся, не пропадем. Руки целы, голова цела, поедем хоть на Дальний Восток. Хоть к черту на рога. Лишь бы работать! — И сорвался с места звонить Сталину. Тот, конечно, трубку не взял. Но в приемной сказали: «Не волнуйся, Косарев. Работа будет».
— Я тебе говорил, Маруся, все обойдется! — Александр закружил жену по комнате.
Нет, не обошлось... Повадки были подлые, бериевские — действовать исподтишка. Какой-то угрюмый человек в форменке, без сапог, в одних носках, крадучись, поднимался по лестнице их двухэтажной дачи. Искал оружие. Все знали, что Косарев заядлый коллекционер. Видимо, в «букете» уже состряпанной клеветы не хватало лишь обвинения в терроризме.
Александр и Мария прощались тихо, без лишних слов, щадя друг друга, понимая, что расстаются навсегда. Саша постоял над Леночкиной постелью. Поцеловать не решился: боялся разбудить. Когда автомобильный дымок закрутился на повороте и исчез, в доме — откуда ни возьмись — появился Берия и небрежно бросил своим: «Ее тоже прихватите». Вторая машина следом за Александром увезла и Марию.
На Лубянке Маша оказалась в одной камере с Екатериной Ивановной Лоорберг — женой М. И. Калинина. Возвращаясь с допросов, она не жаловалась, не стонала. Едва отдышавшись, поворачивала голову к Маше. Пыталась улыбнуться. Вспоминала о своих взрослых детях с нелегкими судьбами. Беспо-
252
коилась о внуках, о больном уже тогда, муже. Говорили о Саше. Давала советы, как выдержать, не сломаться.
Как не задуматься над двойной моралью тех, кто, провозглашая семью основной ячейкой нашего общества, одновременно подрывал её устои. Чего стоило — поверить в гражданскую и партийную вину дорогого тебе человека и отвернуться, и отлучить его от своего сердца?
А Лена Косарева не отреклась. Ни мыслью. Ни словом. Ни делом. Почти все ее близкие — отец и мать, дед и дядя по материнской линии были арестованы. Ребенком, подростком, девушкой она придерживалась правила молчать. Так научила ее бабушка Александра Александровна Косарева, старая большевичка.
Этой невероятной верой — на пределе отчаяния — она и жила.
Шел 1949 год. Лена закончила школу с медалью. Поступила в Тимирязевскую академию, чем привела в крайнее замешательство бабушку. Александра Александровна растерялась: не подвох ли. Внучка и дочь врагов народа в институт принята? Тебе доверяют — так расценила Лена свой «звездный билет» в студенчество и внутренне распрямилась, готовая доказать, что доверяют не зря. Лене все больше и больше недостает отца и все труднее противиться желанию не таиться, рассказать о нем новым, институтским друзьям...
Развязка наступила быстро. Как-то порог Лениной комнаты перешагнули двое. Один сразу метнулся к изголовью кровати. Подушку зашвырнул на пол, «улику» — на стол. «Ты держишь у себя фотографию врага народа?» — «Так это же мой отец».
Начались допросы, докапывание до «истины». Нежданно-негаданно десять лет ссылки: «За восхваление врага народа».
Александра Александровна послала Марии телеграмму: «Лена заболела твоей болезнью». Мария Викторовна написала А. Н. Поскребышеву и в Красноярский НКВД, хлопотала о разрешении поселиться вместе с Леной. После унизительных мытарств и проволочек они «воссоединились» в Норильске — М. В. Косарева, ее брат Павел Викторович Нанейшвили (до ареста секретарь Копыльского райкома партии Белоруссии) и Лена. Ей теперь предстояло научиться у старших, как жить с вторично оборванной биографией.
Старшие продолжали борьбу.
253
Председателю Совета Народных Комиссаров
И. В. Сталину
от бывшего депутата Верховного Совета СССР
от Марийской республики Пикиной В. Ф.
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
«Считаю своим долгом довести до Вашего сведения о том, что я видела за два с половиной года непосредственно своими глазами... Органами НКВД и, в частности, Особым совещанием, допущены ошибки, в результате чего много честных, преданных партии. Родине людей пострадало... Враги народа, пробравшиеся в органы НКВД, приложили свою руку с целью перебить большевистские кадры и вызвать искусственное недовольство Советской властью. Карьеристы и перестраховщики проявили свою инициативу — одни для повышения в чинах, другие — для наживы себе политического капитала.
Особое совещание при вынесении приговоров осуждало совершенно невинных людей, допуская огульные обвинения, забывая, что за каждым приговором стоит живой человек [...].
В качестве подследственной я прошла суровую проверку, стояла на ногах первый раз 36 часов, второй — 58, была избита в Лефортовской тюрьме [...], сидела в одиночной камере 4,5 месяца, испытала психические атаки. Всего это было более, чем достаточно, чтобы заставить человека признаться, если он виновен. Но все эти методы ни к чему не привели, так как мне признаваться было не в чем [...].
Это письмо — из 1941 года. Доставка его в Москву обеспечивалась не обычной почтовой связью, а живой эстафетой человеческой солидарности. И еще — исключительным мужеством.
В женском лагере на станции Потьма (Мордовская АССР), куда Валентина Федоровна была сослана по решению Особого совещания, она с удивлением обнаружила немало старых знакомых. Жены, дочери, сестры и не столь близкие родственницы наркомов, партийных и комсомольских работников.
Среди них и комсомольская активистка из Ленинграда Аня Рабинович (Розина). Она, работавшая на Потьме в сапожной мастерской, и помогла подруге. Прибегла к старому, дедовскому еще способу конспирации. Получив от Пикиной обувь (будто бы в починку), Аня умело «законопатила» в туфлю между каблуком и подошвой, сложенное в несколько раз опасное письмо.
Долго ждала Валентина Федоровна ответа на свое письмо. Ждала в Потьме. Ждала в селе Казачинское Казачинского района Красноярского края, куда ее отправили уже на вечное поселение. Письмо было доставлено в Москву. Но к адре-
254
сату не попало. И слава богу. Гуманные, честные люди, которые, к счастью, никогда не переводились на нашей земле, остановили эстафету перед самым финишем. Письмо было спрятано в надежном месте. Иначе бы не дожить В. Ф. Пикиной до дня своей реабилитации.
В 1954 году все вынесенные ей приговоры были отменены, Валентина Федоровна восстановлена в рядах КПСС. Закончила курсы переподготовки партийных, советских и газетных работников в ВПШ, до 1984 года трудилась в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС, являлась членом коллегии КПК.
Чудом оставшаяся в живых, она ринулась в работу, подгоняемая неоплатным долгом перед своими товарищами. После XX съезда ездила по лагерям, опять лицом к лицу соприкасаясь с человеческой болью. Участвовала в подготовке к освобождению невинно пострадавших, возвращению в семьи незапятнанной памяти о близких.
Углубляясь в доступные ей теперь документы, присутствуя на судах над бывшими «законослужителями» из ведомства Берии, Валентина Федоровна как бы заново постигала безмерную чудовищность «дела Косарева». За ним стоял преступный замысел фабрикации «молодежного процесса».
Впервые эти два слова Валя услыхала от самого Берии. Трех секретарей ЦК ВЛКСМ — Косарева, Пикину и Серафима Богачева арестовали одновременно — в ночь с 28 на 29 ноября 1938 года. В пять утра Валю привели в кабинет Берии. Он сидел, развалясь на диване, сверлил ее суженными, прицеленными через стекла пенсне глазами. Мурашки бегали по спине от этого взгляда. Не говорил — хлестал отрывистыми фразами.
— Почему вы на пленуме не разоблачили Косарева? О вас было другое мнение. Девушка из ленинградской пролетарской семьи — и в сговоре со шпионом! Да, да, не делайте возмущенного вида. Косарев — агент иностранной разведки. Его завербовали в Польше, в зоологическом саду. Это установлено точно. И вообще комсомол отличился. Кузница шпионов. Мы выловили уже 500. Что вы себе думаете? Мы готовим молодежный процесс и заставим вас рассказать, как вы были завербованы Косаревым.
Она стояла перед ним тонкой прозрачной свечкой, горевшей тихим, упорным пламенем. Ни Берия, ни его подручные не смогли погасить это пламя.
Думала. Вспоминала. Вот оно что: готовят молодежный процесс. Непостижимо — у юношества непочатый край удар-
255
ной работы: освоение Арктики, Сахалина, Днепрогэс, «Азовсталь», «Уралмаш», Московское метро. И вдруг — процесс!
Что предпринять? С кем посоветоваться? Где-то рядом, рукой подать, — Александр Васильевич. Но между ними стены. И ему еще тяжелее. Он ведь — главная мишень.
...Косарева бросили в камеру смертников. В один из дней он попросил бумагу, чернила и написал заявление на имя Сталина. Утверждал, что он и арестованные по его «делу» комсомольские работники ни в чем не виновны. Подчеркивал: уничтожать кадры, воспитанные Советской властью, — безумие. Требовал, чтобы создали честную, авторитетную комиссию, которая без предвзятости проверит все материалы и сделает объективные выводы.
Следователь Шварцман отнес заявление Александра своему шефу. Берия выругался и разорвал документ на клочки. Этот факт стал известен в 1956 году в ходе суда над Шварцманом, где присутствовала Валентина Федоровна. Тогда же другой следователь рассказал об обстоятельствах последнего допроса Косарева. Измученный нескончаемыми домогательствами, сознавая, что развязка близка, он больше не мог и не хотел сдерживать возмущения. «Гады, преступники, вы Советскую власть губите! Все равно за все ответите, сволочи!»
Они сопротивлялись до конца. Не дали ошельмовать комсомол. Не позволили спровоцировать конфликт «отцов и детей». И сорвали-таки «молодежный процесс». Пикина — неистребимым спокойствием (чего оно стоило ей!). Косарев — бурным, неистовым протестом. Оба — правотой и неколебимостью. И стойкостью, поддержкой лучших своих товарищей. Таких, как секретарь ЦК ВЛКСМ Серафим Яковлевич Богачев, как секретарь Московского горкома комсомола Владимир Александрович Александров.
23 февраля 1939 года в возрасте 35 лет Александр Васильевич Косарев был расстрелян.
Нам больно оттого, что многих из них нет с нами. Но не только с чувством острой и ничем не оправданной потери мы вспоминаем о них. Безмерна наша благодарность и восхищение теми, кто сделал все, чтобы социализм стал явью. Они не искали рая в чужих пределах. И не приняли бы в готовом виде даже Город Солнца, к которому не приложили рук и души. Вот почему память о них — это память о героических и трагических 30-х, без которых не было бы Великой Победы и нашей сегодняшней перестройки.
256
1988 «Известия» 18 апреля
Юрий Феофанов
Грузчик Иван Демура в схеме Нины Андреевой
Наверное, десятки миллионов людей посмотрели по телевидению передачу «Учимся демократии». «Круглый стол», посвященный редакционной статье «Правды» «Принципы перестройки: революционность мышления и действий». При этом было упомянуто дело Ивана Демуры, осужденного в 1938 году Военной коллегией Верховного Суда СССР. На приговор по этому делу принес протест председатель Верховного Суда СССР, он был рассмотрен на последнем Пленуме этого суда и единогласно удовлетворен. Иван Петрович Демура, тогда 24-летний парень, имел низшее образование, работал грузчиком Селемджинской транспортной конторы треста «Амурзолото» и обвинялся сразу по пяти пунктам страшной 58-й статьи тогдашнего УК. Эта статья ставила клеймо — «враг народа».
Мы решили более подробно рассказать об этом эпизоде тех лет. За что и почему осужден был Иван? Может, золото? Тогда понятно. Взял тощенький том самого дела. Нет, никакого прикосновения к золоту Иван Демура не имел. То, в чем его обвинили, было куда как серьезнее...
Начато «дело» 4 апреля 1938 года в Благовещенске. Первый документ: Постановление.
Я, пом. Оперуполномоченного III отдела Амуроблуправления НКВД сержант госбезопасности Рябов, рассмотрел материал по делу № 14615 и принимая во внимание, что гр. Демура И. П., 1914 года рождения, беспартийный, русский, грамотный, грузчик Селемджинской транспортной конторы треста «Амурзолото»... изобличается в том, что, являясь участником контрреволюционной повстанческой ячейки, существовавшей в трансконторе, являющейся низовой ячейкой право-троцкистской шпионс-
257
ко-диверсионной организации, существовавшей в тресте «Амурзолото», совместно с другими участниками проводил контрреволюционную вредительскую работу и готовился для вооруженного свержения Советской власти, а потому привлечь гр. Демуру И. П. по ст. 58-1а, 58-2, 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР».
Далее следовало постановление о содержании под стражей, анкета, из коей видно, что до 1930 года Иван жил в деревне, а потом пошел в рабочий класс; женат на Нине Давыдовне и имеет сына Анатолия 1937 года рождения, член профсоюза и военнообязанный. Приложены профбилет с наклеенными по март 1938 года марками и военный билет.
После ареста 4 апреля прошел месяц, никак в документах не отраженный. Можно предположить, что он был употреблен на вылавливание сообщников, добывание улик и разгром шпионско-диверсионной организации правых троцкистов. И, естественно, на разоблачение Ивана Демуры.
Не знаю, как другое, но последнее удалось, что явствует из протокола допроса грузчика от 6 мая того же 1938-го. Он не очень большой, и я процитирую его полностью, исключая повторения.
ВОПРОС: Вы арестованы как участник контрреволюционной повстанческой ячейки. Признаете себя виновным!
ОТВЕТ: Да, признаю. Я являюсь участником контрреволюционной повстанческой ячейки (далее точное изложение постановления сержанта госбезопасности Рябова. — Ю.Ф.). Завербован в феврале 1938 года бывшим заведующим перевалочной базы конторы Поповым Андроном, отчество не помню.
ВОПРОС: Изложите обстоятельства вербовки.
ОТВЕТ: Еще до поступления в контору я встречался с Поповым. Разговоры носили политический характер. Попов доказывал несостоятельность Советской власти, клеветал на политику партии и правительства, этим разжигал во мне ненависть к Советской власти. В одном из разговоров в поселке Попов предложил вступить в ячейку, задачи которой во время войны с Японией поднять вооруженное восстание, уничтожить коммунистов и преданных Советской власти людей, после чего оказать помощь Японии для восстановления капиталистической системы.
ВОПРОС: Какие задания получали от Попова!
ОТВЕТ: 1) Задерживать погрузку и выгрузку продуктов путем разложения дисциплины среди грузчиков.
258
2) Быть готовым в любой момент для вооруженного восстания.
ВОПРОС: Это все!
ОТВЕТ: Все.
ВОПРОС: Выполнили задания Попова)
ОТВЕТ: Да, выполнил (Больше ничего. — Ю. Ф.).
ВОПРОС: Назовите участников ячейки.
ОТВЕТ: Кроме Попова, я знал как участника Закомарина Федора, отчество не помню, тоже грузчика.
ВОПРОС: Откуда вам известно, что Закомарин участник организации!
ОТВЕТ: Он мне сам сказал.
ВОПРОС: Вы скрываете других участников!
ОТВЕТ: Других я не знаю.
ВОПРОС: Где находится оружие для восстания!
ОТВЕТ: В отношении оружия мне ничего не известно.
Протокол подписал сержант госбезопасности Александров, так и не выяснив ничего насчет оружия. А оружие было! Чуть выше в деле есть протокол обыска, проведенного после ареста Ивана — 8 апреля. Вот он:
«В присутствии понятых сотрудник Мазановского района НКВД (так записано. — Ю. Ф.) Федотов произвел обыск. Изъято:
1. Одноствольное дробовое ружье.
2. Гильз — 20.
3. Профбилет.
4. Военбилет.
5. Справка о сдаче паспорта.
Больше при обыске ничего не обнаружено».
Вернемся, однако, к изобличениям Ивана Демуры. В «деле» нет никакого упоминания о Попове, который завербовал Ивана, ни о Закомарине, который был соучастником по повстанческой ячейке. Откуда же, думал я, вообще всплыл Иван Демура как союзник милитаристской Японии? Ответ в протоколе допроса тоже грузчика Федора Викуловича Метелкина, 1889 года рождения. Его тоже «взяли». А он уже перед тем отсидел 10 лет, был сломлен. Он-то и назвал 15 фамилий будущих повстанцев: двух плотников, бондаря, сторожа, счетовода и несколько грузчиков, среди них и Ивана Демуру.
Сколько я ни листал дело, никаких улик, кроме приведен-
259
ных, я не нашел. Ну, хоть бы что-нибудь! Пусто. Однако этого вполне хватило, чтобы в обвинительном заключении записать:
«Будучи завербованным Поповым, Демура проводил подрывную работу в тресте, срывал подготовку грузов и разлагал производственную дисциплину среди рабочих, провоцировал недовольство на Советскую власть путем антисоветской агитации и распространения различных провокационных измышлений. На основании... обвиняется... направляется для рассмотрения...» И в конце, после подписей авторов обвинительного заключения — «Справка: вещественных доказательств по делу нет».
Все в общем-то шло по заведенному «порядку». Вещественных доказательств нет, это зафиксировали. Но и невещественных не было: хоть бы на анекдотец какой-нибудь сослались для обоснования обвинения, измышленьице какое — ничего! Все, что процитировал, — и ни полслова сверх. Ни одной «повстанческой ячейки», ни единого реального действия не упомянуто.
И вот тут начинаются для меня загадки, которые, сколько ни думаю, разгадать не могу. Ну, если это кому-то было надо, кончили бы с Иваном Демурой приговором «тройки» или «двойки», в «список» бы занесли на ликвидацию — понятно было бы.
Так нет. Дело передали на рассмотрение выездной сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР. Ее состав: диввоенюрист Никитченко И. Т., бригвоенюрист Каравалков Ф. Ф. и военюрист I ранга Климин Ф. А.; при секретаре военюристе I ранга Кудрявцеве Н. Н. и при участии помглавного военного прокурора бригвоенюриста Калугина А. В буквальном смысле «Высокий суд». Над грузчиком Иваном Демурой, «доказательства» вины которого я привел исчерпывающе! Да, все так, все зафиксировано в документах, которые продолжу цитировать:
«15 мая. Протокол подготовительного заседания. Слушали: дело по обвинению Демуры И. П. (Фамилия впечатана синими буквами в стандартку протокола, выполненного на машинке с черной лентой. — Ю. Ф.). Определили: дело заслушать в закрытом заседании без вызова свидетелей и без участия обвинения и защиты».
Упомянутый прокурор участвовал в деле как лицо, осуществляющее надзор за законностью, а не как сторона в процессе.
260
16 мая 1938 г. Протокол судебного заседания. «Заседание открыто в 14.00». Далее следует ровно 5 фраз, излагающих ход процесса. «Суд удаляется на совещание...» «Приговор оглашен в 14.15. Заседание объявляется закрытым».
Приговор. Он написан от руки размашистым почерком; констатирующая часть уместилась в 19 строк, резолютивная — в семь. Их я приведу:
«Военная коллегия приговорила Демуру И. П. к высшей мере наказания — расстрелу, с конфискацией всего ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и на основании Постановления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. подлежит немедленному исполнению».
Последний документ в деле под грифом «Секретно».
«Справка. Приговор о расстреле Демуры И. П. приведен в исполнение 16 мая 1938 года в г. Благовещенске. Нач. 12 отд. 1 спецотдела НКВД СССР лейтенант госбезопасности Шевелев».
Читаю эти документы, думаю и не могу связать концы с концами. Нет, не только в той загадке — почему персоне Ивана Демуры, грузчика, уделило внимание столь высокое судилище. В конце концов каким способом уничтожить человека — это уже следующий вопрос. Но первый — За что? Почему? Смысл?
Сейчас мы, знакомясь с трагическими документами той поры, внимая рассказам оставшихся в живых, строя свои версии или читая версии, публикуемые в романах и статьях, пытаемся ответить на эти вопросы. Иначе и быть не может — ум и совесть требуют каких-то объяснений тем событиям. Не говорю: оправдывающих объяснений, но хоть каких-то.
Впрочем, многие ищут и оправдывающих. Не хотелось бы упоминать статью Н. Андреевой в «Советской России»: оценка ей дана, на мой взгляд, исчерпывающая. И все же одна нейтральная вроде бы фраза этой статьи не дает покоя — и именно в связи со столь поспешной и жестокой расправой над грузчиком Иваном.
Н. Андреева написала: «Ставшая дежурной тема репрессий гипертрофирована в восприятии части молодежи, заслоняет объективное осмысление прошлого». Давайте же разберемся. Что значит — «тема... гипертрофирована»? Что заслоняет ее «объективное восприятие»? Смысл этих слегка затуманенных пассажей может быть один. Конечно, репрессии — это нехо-
261
рошо. Но, во-первых, для того были объективные причины и обстоятельства, надо лишь их правильно объяснить. А, во-вторых, объясняя, не надо ничего преувеличивать; разобраться, мол, надо во всем спокойно, без эмоций, дабы не допустить, не дай бог, гипертрофированного восприятия.
Репрессии периода культа личности объясняют по-разному. Одни говорят, что все же уничтожались оппозиционеры, так сказать, «противники линии». Ну, попадали под каток и не противники, и даже сторонники, но уж такая была обстановка борьбы, в большом деле перегибы и «издержки производства» неизбежны.
Другие все объясняют лишь злой волей творца репрессий, вносят личный момент. Уничтожал-де он тех, кто с ним когда-то спорил; тех, кто мог свидетельствовать о его истинной роли в революции и тем помешать искажению истории; тех, кто поддерживал, но недостаточно рьяно, а заодно и тех, кто попросту чем-то раздражал, или по минутному капризу.
Не высказывается в печати, но ходит в народе третья версия, объясняющая репрессии. Он-де начальство изничтожал, своим «боярам» головы рубил. И правильно делал, потому что от них, «бояр», а не от царя все зло. Не думайте, что в наш просвещенный век наш высоко образованный народ чужд такому объяснению. Поверьте: сам слышал и даже спорил со сторонниками «народной версии».
Все эти версии, логичные или причудливые, пытаются объяснить, почему гильотина опускалась на головы оппозиционеров и соратников, еретически мыслящих ученых и умалчивающих о его величии поэтов, вызвавших неудовольствие командиров производства и вышедших из шеренги военачальников. И ведь получается по этим объяснениям, что что-то все-таки было, где-то реальное, где-то призрачное, однако объяснимое, а значит, и способное быть понятым. Вот ведь как изгибается линия к «объективному восприятию».
А я читаю дело Ивана Демуры и думаю: как бы нам с тов. Андреевой вложить его, Ивана, в придуманную ею схему, как бы объективизировать уничтожение грузчика, чтобы оно не воспринималось гипертрофированно. Думаю и не могу придумать.
Ибо если неведомый не только Сталину, но, наверное, и начальнику местного НКВД грузчик Иван Демура — враг народа, то кто же тогда народ?
Мог, конечно, злосчастный Иван попасть и под горячую руку, мог случайно оказаться причисленным к шпионам-дивер-
262
сантам: «лес рубят — щепки летят». Подразумевается, что щепки — это те самые неизбежные «издержки производства», а лес-то сам рубили правильно. Если бы! Не «боярские» головы рубил 1937-й, предшествующие ему и последующие годы. Рубили по телу народа. Вот в чем «объективное восприятие прошлого», тов. Андреева.
Если бы только грузчик Иван... Приведу письмо, полученное редакцией из Белоруссии от жительницы Бобруйска Франи Федоровны Плотниковой.
«Когда я читаю в газетах о тех далеких временах 1937— 1938 гг., я не могу оставаться спокойной и всегда наплачусь вдоволь. Все то прошлое, горькое, несправедливое стоит перед глазами. Мне тогда было 9 лет. Жили мы недалеко от г. Бобруйска, в 20 км. Наша деревушка — 60 домов. И 18 человек погибли от Ежовых рук. 18 человек — молодых, здоровых, честных и добрых, которые так боролись за Советскую власть, за создание колхозов.
Отец наш работал дорожным мастером на участке Речица — Глуск. Помню, как ночью приехали из НКВД. Когда начали делать обыск, рыться везде, мы между собой говорили, что это к папе начальство приехало. Нас у папы было пятеро, и, когда приезжало начальство, привозили нам гостинцы... Но когда мы увидели плачущую мать и дедушку, мы начали тоже реветь... И вот последние слова отца к маме: «Береги детей». Младшая сестренка, которой было 3 года, крепко держала папу за ногу, возле порога только отцепил ее человек, патруль. Это было зимой, в декабре 1937 года. Мы все оделись и пошли по улице ночью к дому, где уже ждала машина, в доме было 10 человек. Крик детей, жен, слезы.
Утром, пойдя в школу, дети, которые стали сиротами, весь день, не поднимая головы от парты, горько плакали. На стене в школе висели плакаты. Большая, сильная рука Ежова сжимала ужа с надписью: «Держать в Ежовых рукавицах!» На втором плакате была надпись: «Искореним врагов народа, троцкистско-бухаринских шпионов, агентов фашизма».
После Нового года, это в 1938 году, забрали еще 8 человек из нашей маленькой деревушки. Один вернулся, когда была реабилитация. Но у этого человека ничего нельзя было узнать. Он был замкнут, неразговорчив. Напрасно добивались у него правды. Он долго не жил, умер. Остальные были расстреляны вблизи Бобруйска».
263
Если и эти восемнадцать плюс восемь из деревушки в 60 домов — враги народа, то, повторю вопрос, кто же тогда народ!
Увы, надо называть вещи своими именами: это было планомерное, запланированное сверху уничтожение людей, должное охватить все отрасли по вертикали и регионы по горизонтали. Ну и, как полагается, стимулированное встречное движение снизу.
В обвинительном заключении по делу Ивана Демуры, в преамбуле записано: «В конце 1937 г. Амурским облуправлением НКВД вскрыта и ликвидирована к/р правотроцкистская организация, действовавшая по заданию японских разведорганов и охватившая своей преступной деятельностью все отрасли народного хозяйства (золото, лес, заводы, колхозы) и партийно-советского аппарата области. Она ставила задачей свержение Советской власти и отторжение Дальнего Востока. Для достижения этих преступных целей за деньги и по заданию японской разведки активно готовила вооруженное восстание, насаждала повстанческие ячейки, занималась подготовкой террористов против руководителей партии и правительства».
Может, потому и «высокий суд» — чтобы придать вес делам, возникавшим буквально из ничего? Скорее всего этих рапортов никто не читал. Но их ждали. И они шли... Сверху директивы — снизу рапорты. А уж грузчик там или плотник попадал, Иван или Федор — какое это имело значение? Их, этих иванов и федоров, никто и не знал, они просто шли в стружку.
Вот это «объективное восприятие прошлого» не заслонилось бы от нас громкими процессами и именами. Преступления и там неискупимые. Но здесь — непростительные во сто крат: преступления против народа...
2 февраля нынешнего, 1988 года младший брат Ивана Демуры — Василий Петрович, член КПСС с 1945 г. — обратился в Комитет госбезопасности Амурской области с просьбой сообщить что-либо о судьбе Ивана, арестованного в 1938 году. Ни он, ни сестра Валентина Петровна ничего не знали о его судьбе. Мне остается сообщить, что Иван Петрович реабилитирован 5 апреля сего года на Пленуме Верховного Суда СССР.
Он не был ни в чем виноват. Ни в чем...
264
1988 «Семья» № 20
Лев Разгон
Малолетки1
Один из самых страшных мифологических образов — Хронос-Время, пожиратель собственных детей.
Боль, испытанная ребенком, — это боль всего человечества. Мы сегодня, пожалуй, чаще, чем когда-либо, вспоминаем горячий протест Достоевского, его высокую скорбь о жизни младенца, принесенной в жертву Истории. Среди многих миллионов жизней, унесенных или вознесенных во славу войнами, беспощадными социальными битвами, природными катастрофами XX века, — тысячи, десятки, сотни тысяч детских жизней! Дети — герои революции и гражданской войны; дети, разделившие судьбу безвинно осужденных родителей в конце тридцатых годов; дети, оказавшиеся, в «сороковых-роковых» на поле брани, на территории, оккупированной врагом, сражавшиеся в партизанских отрядах...
Противостоять жестокому, всепожирающему Времени способна лишь Память. Сказано: «Никто не забыт и ничто не забыто».
В мировой литературе существует классический святочный рассказ про голодного мальчишку, укравшего булку. Попробуем представить себе эту трогательно-драматическую ситуацию, происходящую в ту самую милую зиму 1937—1938 года, когда советским детям были наконец возвращены елка и веселый праздник вокруг нее. Итак, голодный мальчик, которому только что исполнилось четырнадцать лет, ворует бывшую «французскую», а ныне «городскую» булку стоимостью в три копейки. Если мальчишка немного поднаторел в юстиции и правосознание в нем развито достаточно сильно, то он подождет в магазине, пока гражданин или гражданка не
__________________
1 Из книги «От первого лица». Полностью будет опубликована в журнале «Юность».
265
купят эту булку, а уж затем у них ее сопрет. Попавшись на месте преступления, он в этом случае получит один год тюрьмы по указу «О мелких кражах». Но если молодой преступник не имеет юридического опыта и, движимый нетипичным для нашего общества голодом, эту булку свистнет с прилавка магазина, то уже преступление по-другому называется и карается по-другому. Теперь оно является «хищением социалистической государственной или кооперативной собственности». И как бы судья ни жалел неразумного мальчика, он ему меньше трех лет заключения дать не может. Это при «смягчающих» обстоятельствах. А вообще-то ему за булку положено семь лет. И не приведи бог, чтобы мальчиков было двое! Тогда это «сообщество», «коллективное хищение», и десять лет наказания за булку — вовсе не предел.
Был у нас на лагпункте один молодой человек. Демобилизовавшись, он поступил работать на стекольный завод «Дагестанские огни» возле Махачкалы. Электричества в общежитии не было, жгли керосиновые лампы, и он со своим товарищем по комнате выбрал из огромной кучи стеклянного боя и брака два еще годных ламповых стекла. На проходной их задержали. Каждый получил по пятнадцать лет. Ну ладно, они ведь взрослые, а булку-то украл ребенок! Но, создавая современную модель рождественского рассказа, я сознательно написал, что герою исполнилось четырнадцать лет. Ибо начиная с этого возраста в применении и отбывании наказаний ребенок был полностью уравнен со взрослыми...
Нет, мне не удастся выдержать эту «отстраненную» интонацию в рассказе о детях, попавших под колеса тюремно-лагерной машины. Из всех жестокостей жестокость к детям самая страшная, самая противоестественная в своей античеловечности.
Мне было семнадцать лет. Я делал первые неуверенно-самоуверенные шаги в журналистике, когда «Комсомолка» дала задание написать очерк о тюрьме для детей. Несколько дней я провел за кирпичной оградой бывшего Даниловского монастыря. Потом написал очерк, который я назвал так, как называлась тюремная стенгазета: «Фабрика сознательного гражданина». Все, о чем писалось в очерке, было правдой, весь очерк был предельно лжив. Да, в этой тюрьме не страдали от голода и холода, там висели стенгазеты и имелись кружки, и кино, и почти чистые простыни на железных койках. Но я ни слова не написал о том, как вздрагивают дети от окрика надзирателя; о том, как старшие избивают младших; о тю-
266
ремной иерархии, в которой чем ты меньше и слабее, тем тебе хуже. Я не написал о том, что малые дети становятся наложниками старших полубандитов, с чьей помощью тюремная администрация держит в подчинении население тюрьмы. О многом я не написал и всю последующую жизнь чувствую свою ответственность за эту ложь. Самую непростительную из той лжи, что написана и сказана мною.
Но все же это специальные тюрьмы для детей. Мне пришлось увидеть и другое, самое страшное — детей в общих тюрьмах и лагерях.
«Малолетки» — так назывались малолетние арестанты. Они были разные: малолетние городские проститутки и крестьянские девочки, попавшие в лагерь за «колоски», подобранные на плохо убранном поле; профессиональные воры и подростки, сбежавшие из «спецдомов», куда собирали детей арестованных «ответственных». Они вступали в тюрьму и лагерь разными по происхождению и по разным причинам. Но вскоре становились одинаковыми. Одинаково отпетыми и дикими в своей мстительной жестокости, разнузданности и безответственности. Все-таки даже в общем лагере, находясь «на общих основаниях», малолетки пользовались какими-то неписаными привилегиями. Надзиратели и конвой их не убивали. Малолетки это знали, впрочем, они бы не боялись, даже если бы их и убивали.
Они никого и ничего не боялись. Жили они в отдельных бараках, куда не решались лишний раз заходить надзиратели и начальники. В этих бараках происходило самое омерзительное, циничное, жестокое из всего, что могло быть в таком месте, как лагерь. Если «паханы» кого-нибудь проигрывали и надобно было убить, это делали за пайку хлеба или же из «чистого интереса» мальчики-малолетки. И девочки-малолетки похвалялись тем, что могут пропустить через себя целую бригаду лесорубов. Ничего человеческого не оставалось в этих детях, и невозможно было себе представить, что они могут вернуться в нормальный мир и стать нормальными людьми.
...В сорок втором году в лагерь начали поступать целые партии детей. Все они были осуждены на пять лет за нарушение закона военного времени «О самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности». Это были те самые «дорогие мои мальчишки» и девчонки 14—15 лет, которые заменили у станков отцов и братьев, ушедших на фронт. Про этих детей, работавших по десять часов, стоя на ящиках —
267
они не доставали до станка, — написано много трогательного и умиленного. И все написанное было правдой.
Не написали только о том, что происходило, когда в силу обстоятельств военного времени предприятие куда-нибудь эвакуировалось. Конечно, вместе с «рабсилой». Хорошо еще, если на этом же заводе работали мать, сестра, кто-нибудь из родных. Ну а если мать была ткачихой, а ее девочка точила снаряды? На новом месте было холодно, голодно, неустроенно. Многие дети и подростки не выдерживали этого и, поддавшись естественному инстинкту, сбегали «к маме». Тогда их арестовывали, сажали в тюрьму, судили, давали пять лет и отправляли в лагерь.
Пройдя через оглушающий конвейер ареста, обыска, тюрьмы, следствия, суда, этапа, эти мальчики и девочки прибывали в наши места уже утратившими от голода, от ужаса, с ними происшедшего, всякую сопротивляемость. Они попали в ад и в этом аду жались к тем, кто им казался более сильным. Такими сильными были, конечно, блатари и блатарки.
На «свеженьких» накидывалась вся лагерная кодла. Бандитки продавали девочек шоферам, нарядчикам, комендантам. За пайку, за банку консервов, а то и за самое ценное — за глоток водки. А перед тем как продать девочку, ощупывали ее, как куру: за девственниц можно было брать больше. Мальчики становились «шестерками» у паханов, у наиболее сильных, более обеспеченных. Они были слугами, бессловесными рабами, холуями, шутами, наложниками, всем кем угодно. Любой блатарь, приобретя за пайку такого мальчишку, мог его бить, морить голодом, отнимать все, что хочет, просто вымещать на нем беды своей неудачливой жизни.
Мы — «пятьдесят восьмая» — ничего с этим не могли сделать. В глазах детей и подростков мы были лагерными придурками, не имеющими никакой власти, никакой силы, никакой привлекательности, которую давало презрение к законам и начальникам. Никто из нас не мог на разводе перед тысячной колонной арестантов сказать начальнику лагпункта: «Мотал я твою работу, твою веру и тебя на общих основаниях», — и спокойно пойти в сторону карцера...
Я был уже «вольным», когда однажды летом пришел на командировку1, где врачом был Александр Кузьмич Зотов,
___________________
1 Командировка — одно из малых лагерных подразделений (Прим: автора).
268
успевший освободиться, получить новый срок и снова попасть на одну из командировок нашего лагпункта.
Кузьмич был на приеме, санитар принес мне в кабинку санчасти сытный больничный обед. Есть я не хотел, но и обед было бы глупо отсылать назад на кухню. Опустелый лагерный двор подметала какая-то белокурая девчушка, совсем юная. Было что-то деревенски-уютное в этой девочке, в ее нехитрой работе.
Я позвал ее. Спросил, что она делает на командировке. Ответила: на ошкуровке занозила палец, он распух, его резали, она уже несколько дней освобождена... Я сказал ей:
— Садись к столу и ешь.
Ела она тихо и аккуратно, было в ней еще много ощутимо-домашнего, воспитанного семьей. И была она привлекательна этой домашней тихостью, чистотой выцветшего, застиранного платьица из лагерной бумазеи. Мне почему-то казалось, что моя Наташка должна быть такой, хотя эта лагерная девочка была совсем светленькая, а моя дочь имела каштановые волосы уже десяти дней от роду.
Девочка поела, аккуратно сложила на деревянный поднос посуду. Потом подняла платье, стянула с себя трусы и, держа их в руке, повернула ко мне неулыбчивое свое лицо.
— Мне лечь или как? — спросила она.
Сначала не поняв, а затем испугавшись того, что со мной происходит, также без улыбки, оправдываясь, сказала:
— Меня ведь без этого не кормят...
И убежала. Конечно, истерика, которая случилась со мной, была отпугивающим зрелищем, и теперь, через сорок с лишним лет, я начинаю плакать каждый раз, когда вспоминаю эту девочку, ее нахмуренное лицо, усталые и покорные глаза.
...И вот это я должен забыть? Как там говорится и пишется: «Не ворошить то, что стало прошлым»? А если это не стало для меня прошлым и никогда не станет, как быть? Я должен об этом молчать, придерживаясь мудрой пословицы, что в доме повешенного не следует говорить о веревке? Но я давно услышал страшное и точное обоснование подобной мудрости: в доме повешенного не следует говорить о веревке, потому что в этом доме поселился палач.
Я должен забыть, ибо забвение и прощение почти одно и то же? Но я не забуду. И не прощу. И пусть я буду проклят, и пусть будут прокляты все, кого я люблю, если я это забуду, если я это прощу. Обо всем могу вспоминать. Без всяких усилий. Обо всем, кроме этого.
Но я все же должен был, обязан был сделать это усилие.
269
«Огонёк», 1988 № 20
Владимир Лакшин
Открытая дверь. Вечер у генерала Горбатова
Когда в компании с Твардовским и еще двумя-тремя новомирцами мы впервые оказались в доме у Никитских ворот, почти напротив Большого Вознесения, и, выйдя из лифта, остановились на лестничной площадке у порога квартиры генерала Горбатова, среди приглашенных, вытиравших ноги о половик, возникло замешательство. Дверь была приоткрыта, и сквозь нее виден пустой длинный коридор. Кто-то нажал кнопку звонка, чтобы известить все же о нашем приходе. Из синей тьмы коридора появился хозяин.
— Что же не входите? Прошу!
— У вас дверь забыли закрыть, — заметил Твардовский.
— Да нет, я держу ее незапертой. Спать ложимся — закрываем.
Мы переглянулись — экое чудачество. Как раз в ту пору москвичей будоражили слухи о квартирных кражах, дерзких грабежах. Рассказывали, что до нитки обобрали квартиру знаменитого скрипача, находившегося на гастролях, а у другого — то ли дипломата, то ли академика — мебель, по слухам, спустили на веревках через окна. Наиболее предусмотрительные хозяева врезали по два-три замка с секретом и щеколдой, а тут двери настежь, и не то чтобы нечего было взять...
В гостиной и просторной столовой, где мы оказались, стояли красивые шкафы с хрусталем и посудой, висели по стенам картины в рамах, стояли плюшевые по моде 40-х годов кресла и возвышался на трофейном приемнике бронзовый бюст Суворова. Ничего особенно примечательного, но просторно, удобно — подобные интерьеры встречались и в других генеральских квартирах после войны... Но почему не запиралась дверь?
Вопрос так и остался висеть в воздухе, а гостей уже
270
просили пройти к столу, и нас захлестнула теплая волна радушного гостеприимства хозяина и его жены, красивой, видной, ему под стать Нины Александровны.
С генералом Горбатовым все мы, не исключая Твардовского, познакомились впервые пятью-шестью месяцами прежде. Он появился в редакции несколько необычным для военного его ранга образом. Бывало, появлению самого предшествовала вереница адъютантов, порученцев, вестовых, передававших красиво оформленную рукопись. А случалось, знаменитый чинами и заслугами автор так и не переступал порога редакции: подтянутые лейтенанты или аккуратные майоры, отдавая честь, заезжали за версткой, спустя день-два привозили ее назад, а по выходе номера являлись за авторскими экземплярами. Вот и все общение с автором.
Отделом прозы в «Новом мире» в ту пору заведовал Евгений Николаевич Герасимов, сделавший на своем веку не одну генеральскую «литературную запись». Он любил вспоминать, как летал во время войны за линию фронта в партизанский лагерь «авторизовать» записанную им «со слуха», отчасти по документам, но больше по воображению книгу мемуаров прославленного партизанского командира. Дня два его не допускали в блиндаж, наконец разрешили зайти. Его герой и одновременно автор сидел на перевернутом снарядном ящике за дощатым столом, разглядывал штабные карты и выслушивал донесения, отдавал короткие приказания и разносил кого-то, не обращая даже малого внимания на переминавшегося с ноги на ногу писателя с толстенной рукописью в руках. Наконец сдвинул со лба папаху, посмотрел красными, усталыми глазами, спросил коротко: «Тебе чего?» Герасимов, робея, просил познакомиться с написанным и визировать текст. Покосившись на объемистую папку, партизанский командир не выразил никакого желания читать написанное. «Ну, хоть пролистайте! — взмолился Герасимов. — И черкните два слова для издательства, что читали, мол». Командир взял ученическую ручку, умакнул в баночку с чернилами, задумался на мгновение и на первой странице рукописи написал размашисто: «ЧЕТАЛ». И скрепил своей росписью.
Твардовский любил вспоминать этот жизненный анекдот и, упрашивая кого-либо из занятых начальников дать свой отзыв, говорил обыкновенно: «Длинного рассуждения не надо. Напишите только в уголке: «Четал».
С генералом армии Горбатовым все было иначе. Созвонившись с Твардовским, он появился в редакции в разгар ра-
271
бочего дня. Было это в конце 1963 года еще в старом помещении «Нового мира» на углу Пушкинской площади и улицы Чехова, где у главного редактора, по сути, не было отдельного кабинета. В одной огромной и большую часть года полутемной комнате — зале старого особняка — сидели Твардовский, его заместитель Кондратович и я. У Твардовского был солидный, старинный двухтумбовый стол, стоявший боком к окну; Кондратович сидел за столиком поменьше, приставленным к этому столу короткой частью буквы «Г». У меня же своего места не было, и с кучей рукописей я располагался на краешке длинного полированного стола, предназначенного для заседаний редколлегии и шедшего вдоль стены, противоположной входу. Если у Твардовского предполагался доверительный разговор с автором, он уединялся с ним в соседней каморке ответственного секретаря. Обычно же все встречи, беседы Твардовский вел в нашем присутствии, вовлекая нередко в разговор и нас.
Мне запомнилось, как в нашу сумеречную залу вошел высокий, краснолицый с мороза генерал в долгополой светлой шинели и с крупными звездами на погонах. Сняв папаху, он обменялся со всеми крепким рукопожатием, чуть исподлобья, но неуклончиво глядя в глаза. Пока он разговаривал с Твардовским, сидя боком у его стола, свет падал на его лицо, и я с любопытством взглядывал на не частого у нас посетителя: пожилой человек, но стариком не назовешь — крепкий, спина прямая, кавалерийская посадка, обветренное лицо. Временами он проводил рукой по редким волосам, как бы без нужды приглаживая их. Мне показалось, что в профиль он похож на маршала Жукова: та же скульптурная лепка волевого лица, пристальные глаза. Только то, что в лице Жукова выражено с некоторым нажимом — сильные надбровные дуги, выдающийся тупым углом подбородок, — в лице Горбатова, пожалуй, смягчено: было в нем что-то и от русской деревенской округлости.
В тот день они говорили с Твардовским недолго. Александр Трифонович захватил рукопись домой, а приехав дня через два в редакцию, с порога начал восхищаться: «Вот так генерал! Сразу видно, ему не адъютанты пишут! Да он мне и говорил, что всю рукопись от первой до последней страницы сам пробороздил, и пишет простым карандашом!» (Почему-то именно этот карандаш, как порука подлинности и своеруч-ности записок, особенно подкупал Твардовского). «И еще скажу: это написано нравственным человеком. А какая судьба!»
272
Судьба Александра Васильевича Горбатова и в самом деле была неординарна: его не обошла ни одна беда, ни одно напряжение народных сил за полвека. Родившийся в конце прошлого столетия в крестьянской семье Горбатов был смелым гусаром-конником в первую мировую войну, красным командиром в гражданскую, комбригом перед Отечественной. В 1938 году он вступился за безвинно арестованного товарища и сам оказался в тюрьме. На первых же допросах заявил, что лучше умрет, чем оклевещет себя или тем более других. Описал он это в своей книге с той строгой сдержанностью, которая сильнее любого яростного крика.
«В четвертый раз меня вызвал кто-то из начальников. Сначала он спокойно спросил: представляю ли я, к чему себя готовлю, хорошо ли все продумал и оценил? Потом этот начальник сказал следователю: «Да, я с вами согласен!» — и вышел из комнаты.
На этот раз я долго не возвращался с допроса.
Когда я с трудом добрался до своей камеры, мои товарищи в один голос сказали:
— Вот! А это только начало...
Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня, обессиленного и окровавленного, уносили, звучит зловеще шипящий голос Столбунского: «Подпишешь, подпишешь».
Горбатов не подписал. И благодаря исключительному стечению обстоятельств, собственному упрямому мужеству и самоотверженности жены, хлопотавшей за него всюду, где можно и где нельзя — в НКВД, Верховном Суде, военной прокуратуре, Наркомате обороны, Горбатов был освобожден из колымских лагерей в самый канун войны. Он принял участие в первых же боях с немцами и в конце 1941-го получил генеральское звание. А потом воевал под Сталинградом, в 1943 году, уже командующим армией, освобождал Белоруссию. Закончил войну на Эльбе и в Берлине — он был одним из первых советских комендантов немецкой столицы.
Все только что сказанное достаточно, я думаю, поясняет отношение Твардовского к Горбатову. Надо сказать, что среди авторов, привечаемых «Новым миром», Твардовский с подчеркнутым вниманием относился к тем людям, что не принадлежали к собственно писательской среде, не кружили вокруг Дома литераторов, а были как бы сами по себе — имели за плечами профессию, ремесло или самобытный опыт, сообщавший им в глазах Александра Трифоновича силу независимости
273
и подлинности. Рабочий-монтажник Терентьев, дипломат Майский, сибирский старик крестьянин Бартов, инженер-изыскатель Побожий — всех их журнал печатал. А сколько было еще не напечатанных по разным причинам, но отмеченных вниманием Твардовского рукописей «нелитературных людей»! Среди них, конечно, и военных — адмирала Исакова, начальника фронтового тыла Антипенко и других. Для подготовки и правки таких рукописей незаменимым человеком в редакции считался Игорь Александрович Сац.
Мне уже приходилось писать о нем. Ближайший личный друг Твардовского, один из немногих, с кем тот был на «ты», Сац сам был человеком редкостным и, если бы не его собственное отвращение ко всякой литературной мифологии, я бы сказал, легендарным. Незадолго до своей смерти, держа речь на домашнем юбилее, Сац шутил, что историю своей жизни, как историю старой Польши по «разделам» («Первый раздел Польши», «Второй раздел Польши»...), он мог бы мерить по «разгонам». В 1918 году — попытка разгона за анархизм Богунского полка Щорса, под командой которого он воевал совсем юнцом. В 1929 году — разгон Наркомпроса (Сац был литературным секретарем наркома Луначарского); в начале 30-х годов — разгон Комакадемии, где он был научным сотрудником, в конце 30-х — разгон журнала «Литературный критик», в редакцию которого он входил. Наконец, два разгона «Нового мира» — первый 1954 года и второй 1970 года. В промежутках — красноармейцем на гражданской войне, командиром взвода ближней войсковой разведки на Отечественной — Сац воевал.
Думаю, Горбатову повезло, что Твардовский просил Саца взять его под свою редакторскую опеку: они работали в добром согласии. Сац поразил Горбатова тем, что, пригласив генерала к себе домой, разыскал у себя старые оперативные карты-трехверстки и сверял по ним какие-то подробности боевой дислокации. Я сам слышал, как Горбатов говорил потом, что по военным познаниям дает Сацу чин генерал-лейтенанта. Но литературным редактором Сац был довольно жестким, и он уговорил Горбатова перестроить повествование. Рукопись, принесенная автором, была начата с воспоминаний о Колыме, о лагерной поре, а потом он переносился памятью в свое прошлое, в детство. Сац посоветовал хронологически выпрямить повествование, начать сразу с семьи, с детства... Твардовский обнаружил перемену лишь в корректуре и не одобрил Саца — редчайший случай, когда он оспорил
274
его как редактора, но, видно, сильно дорога была ему эта рукопись.
— Мне плакать хочется, — говорил Александр Трифонович с версткой в руках. — Какая вещь испорчена! Зачем он выправил по хронологии? Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно — сначала взял круто, с самого трагического момента: арест, тюрьма, а потом на покосе за лагерем, где есть время подумать, припомнил детство, юность, как уходил на мировую войну...
Пришедший на этот разговор Сац резко отстаивал свою правоту. Твардовский, по обыкновению не щадя и обязательств дружбы, со всей жестокостью и не выбирая выражений укорял его в промахе... Ссора казалась неизбежной, споры продолжались и за стенами редакции — до позднего вечера и уже не в кабинетной обстановке. Но на другой же день, как обычно, мир был восстановлен, остался у Твардовского лишь слабый след досады.
Окончательное название мемуаров Горбатова принадлежало Твардовскому. У автора тоже было неплохо: «Жизнь солдата». Но Твардовскому показалось, что для генерала армии в таком самоопределении, в общем-то справедливом, есть легкая тень авторского кокетства. Помню, как все мы, собравшись в редакции вокруг Александра Трифоновича, крутили и перекручивали немногие слова, пытаясь точнее окрестить книгу и легко впадая в пущую банальность: «Война и служба», «Служба и...», «Дружба», что ли?» — сердито перебивал нас Твардовский. И вдруг как выстрелил: «Годы и войны». «Так и назовем. Отвечает содержанию, и можно поручиться, что ни у кого прежде не было». Горбатов без раздумья согласился.
Немало волнений пришлось пережить автору уже при подписании в печать: кроме общей цензуры, его мемуары подлежали ведению цензуры военной. А там в ту пору как раз была образована целая коллегия по мемуарам — воспоминателей развелось среди военных людей немало. Полковники и подполковники, цензуровавшие эти мемуары, жили под гипнозом печатного слова и нерушимо верили в прецедент: если в новом тексте случалось расхождение в трактовке событий или лиц с прежде вышедшими мемуарами военачальников, полагалось усомниться в новом свидетельстве, выбросить или выправить в согласии с тем, что издано прежде, а стало быть, получило одобрение. Тот, кто «вспомнил» нечто первым, получал, таким образом, преимущество, как обладатель исходной истины. Опоздавшим оставалось идти вослед или украшать
275
уже сложившуюся картину незначащими личными подробностями. Горбатов же по-своему видел войну, наши поражения и удачи, по-своему судил о действиях многих военачальников — и оттого не имел шанса легко получить на верстке одобряющий штамп.
Более всего, разумеется, смущали в его воспоминаниях картины отступления 1941 года, критика грубости и глупых приказов командующего армией М., лагерная эпопея автора. Особенно огорчался Горбатов, что были сняты сказанные им в сердцах, но справедливые слова о своем командующем, возмещавшем военную некомпетентность грубой бранью: «Это не командарм, это бесструнная балалайка». Защищая эту фразу Александр Васильевич наивно настаивал, что слова свои помнит точно. Как же можно их вычеркнуть? Он упрямо сжимал губы, глядел в упор своими строгими глазами и обиженно повторял: «Как же так? Ведь это так и было. Я ему в лицо сказал...» Требование указать, где он взял те или иные факты, подробности боевых действий, возмущало его: «Где-где... Да я был там, я это видел». Полагалось же сослаться либо на документ, либо на предшествующие мемуары, выпущенные в Воениздате. «У вас что напечатано, то свято», — удивлялся генерал. «А если ваш вспоминающий прилгал? А я лгать не умею, я, простите, правду говорю».
Но аргументы такого рода вызывали снисходительную усмешку, а споры заканчивались известно чем — по присказке, любимой Твардовским: «Я его ермолкой, он меня палкой. Я его опять ермолкой, а он меня опять палкой...» Наконец, все же последняя из трех голубых книжек «Нового мира», заключавших в себе «Годы и войны», вышла в свет. Вот тогда мы и отправились к Александру Васильевичу небольшой компанией домой отметить это событие.
Кроме нас, приглашенных в тот вечер, кажется, не было. Не помню только, в этот или в другой раз присутствовал за столом Дмитрий Трофимович Шепилов, как оказалось, член военного совета той самой армии, в которой служил Горбатов. Александр Васильевич ценил его ум и мужество. Имя Шепилова, долгое время не употреблявшееся без липучего и несколько комического определения «и примкнувший к ним», в 60-е годы не упоминалось вовсе. В один день и час 1957 года развенчанный из секретарей ЦК и министров иностранных дел и ставший скромным сотрудником архивного управления, он был из тех низверженных с высот власти людей, которые в самом деле как бы прекращали существовать, сдаваемые в
276
архив политической современностью. Мы с любопытством поглядывали на него: он держался с достоинством, был немногословен, но сказал, что любимый его журнал, читаемый им от корки до корки, «Новый мир», признание, не скрою, прибавившее тепла нашему общению. Упоминаю обо всем этом потому, что тут тоже черточка Горбатова: в отношении к опальному Шепилову у него сквозила подчеркнутая уважительность — не стал бы он изменять товариществу ни при каких обстоятельствах.
Когда сели за стол, богатый салатами, грибами и иными закусками, невольно вспомнилось одно место из книги Горбатова. Деревенским мальчишкой 16 лет, с отвращением наблюдая пьяные драки, он дал зарок — не пить, не курить и не сквернословить. Это было в 1907 году, и, побывав на трех войнах и в колымском лагере, он зарока того не нарушил, хотя, казалось бы, соблазны окружали его со всех сторон.
Для Твардовского, человека иного опыта, все это казалось каким-то экзотическим чудом, сверхъестественным проявлением воли: он и дивился Горбатову, и восхищался им. «Ну, так-таки ни одной рюмки за всю, жизнь?» — допытывался он.
— Ни одной. Ну, если не считать (и хозяин смущенно покряхтел) той, что в Берлине 9 Мая 45-го года офицеры заставили выпить... Один раз, выходит, нарушил зарок.
В этот момент мы сдвинули стопки, ибо, надо признаться, зарок хозяина не сказывался на гостеприимном ассортименте стола — каждый находил на нем то, что хотел. Лишенный всякого ханжества Горбатов чокался с нами серебряной рюмкой, куда исправно подливал из хрустального графина домашнюю вишневую воду «без градусов», как он выразился, и разница в наших напитках никак не сказывалась на оживленности беседы. Скажу более, по мере того как длилось застолье, Александр Васильевич становился словоохотливее, доверительнее: он будто хмелел вровень и заодно с гостями.
Попытаюсь восстановить кое-что из разговоров этого вечера.
Чтобы сделать Твардовскому приятное, Горбатов заговорил о «Теркине» и его меньшом брате — поэме «Теркин на том свете»: эту сатиру, как и эпос про бойца, он высоко ставил. Твардовский, не любивший величаться, обладал умением перевести на шутку лестный и оттого смущавший его разговор. Он тут же рассказал о генерале, командовавшем одним из военных округов, который, залучив поэта к себе на дачу, просил читать за ужином стихи. Твардовский не чинясь прочел не-
277
давно написанное им стихотворение. «Теркин» выше!» — безапелляционно объявил генерал. Автора это задело, и он прочел другое новое свое стихотворение, которое, по его расчету, должно было уж непременно генералу понравиться... Тщетно. Что бы ни читал, как бы ни старался произвести он впечатление в тот вечер, генерал твердил одно: «Теркин» выше!»
— Теркин выше! — рассмеявшись, повторил и Горбатов.
Любивший соблюдать ритуал застолья и, надо сказать, мастерски это делавший, Твардовский поднял тост за начинающего автора, решившегося отдать свой труд в журнал, который хотя и подвергается критической бомбежке, но обладает глубоко эшелонированной обороной и не намерен сдаваться. Все мы немного мнительны в нелегких обстоятельствах, и Твардовскому могло казаться, что при всем своем здравомыслии и порядочности Горбатов, человек военный и дисциплинированный, вправе был поежиться, наблюдая, как бранят «Новый мир» в печати, как кривятся на него официальные лица: не затаскивают ли, мол, генерала армии в дурную компанию, и он попытался объясниться:
— Вам, конечно, Александр Васильевич, не до наших литературных свар. Но тут, я вам скажу, дело простое: нас укоряют, что мы темные углы, теневые стороны жизни освещаем. Но зачем, скажите, пожалуйста, освещать свет! Да по одной лишь солнечной стороне улицы гулять, на теневую не заглядывая, пожалуй, голову напечет. С реализмом воюют посредством высокопарности — всякие там пламенеющие сердца да крылья. Мы уж заметили, когда плохо написано, чтобы оправдать ходульность, говорят: «Ну, это, знаете, романти-и-изм...» — И Твардовский протянул это словечко, издевательски присюсюкнув.
Все рассмеялись.
Я не раз замечал, что в присутствии Твардовского, если вокруг были люди, вызывавшие у него доверие, легкая приятельская беседа неизбежно сворачивала на серьезные сюжеты. Он задавал вопросы, от которых нельзя было отшутиться застольным юмором, и изучающе смотрел на собеседника своими блекло-голубыми глазами.
Почуяв это, и Горбатов разговорился, стал вспоминать войну. В его рассказах о фронте было два пункта, две болевые точки, к которым концентрическими кругами сходились все его думы и воспоминания. Первой больной темой были причины наших поражений в начальный период войны.
278
«Что вы хотите, если Сталин своими репрессиями парализовал все руководство армией. Я помню, перед войной Якир выдвинул идею создания оборонительного рубежа в западной части Украины. Это должна была быть наша линия Мажино или Маннергейма, но более неприступная. Там уже и земляные работы начали, а после гибели Якира все это сровняли и велели забыть как вредительство... Но главное — кадры. Армия была обезглавлена, самые способные, самые умные и обладавшие оперативной подготовкой военные были уничтожены. Их место заняли быстро выдвинувшиеся люди, быть может, и неплохие, но часто без малейшего представления о военной науке. В начале войны вчерашние комэски, командиры эскадронов, взводные и батарейные командиры стали командовать полками и дивизиями. А командиры полков возглавили армии и фронты. Но мышление оперативное совсем не то, что полевое. В бою отважные могли быть люди, в атаку ходить умели, но не знали азов военной науки... И гибли сами, и солдат вели на гибель».
— Если бы не разгром военных кадров, мы немца не то что до Волги, до Днепра бы не допустили! — с каким-то скорбным энтузиазмом воскликнул генерал.
— А я еще и о другом думаю, — неожиданно обернул разговор Твардовский. — В сорок втором году мы оказались прижаты к Волге потому, что всего за десять лет перед войной множество семей так называемых кулаков, в действительности же среднее работящее крестьянство, были сорваны со своих мест, высланы, рассеяны по лицу земли. А ведь именно эти люди могли быть лучшими солдатами в войне. Я это хорошо знаю. Настоящее кулачество разбежалось из деревни само в 1929 году, едва начали его трясти, пошло в города, дети их учились и пополняли слой служилых людей, которые нас же наставляли уму-разуму, руководили и направляли. Я не одну такую семью знал-Смотрел я на них в те минуты и думал: сидят друг против друга два русских правдолюбивых человека, два крестьянских сына — и один подтверждает другого, понимая его с полуслова, своим опытом и судьбой... Твардовский, вспоминал, что на протяжении двадцати пяти лет во всех документах был обозначен как сын кулака, а хозяйство-то у отца было самое скромное и земелька скудная, никудышная: одна слава, что «пан» Твардовский. Лишь лет пять тому, как вызвали Александра Трифоновича в ЦК и сняли это клеймо.
— В 1938 году, — продолжал Твардовский, — когда я полу-
279
чил орден Ленина после «Страны Муравии», решил по молодости, что все могу. Кинулся в прокуратуру заступаться за сидевших смоленских друзей — и осекся... Каково было Нине Александровне вас в ту пору из лагеря вытаскивать...
— Да, совсем немногие оттуда перед войной вышли — Рокоссовский, Мерецков, вот я...
И уже Горбатов захватывает внимание за столом. Он рассказывает, как в 1942 году под Сталинградом в тяжелую минуту его разыскал Г. М. Маленков, прилетевший на фронт как представитель Ставки. Он вызвал Горбатова к себе на КП и стал доверительно расспрашивать. Человек всесильный, он показался тогда Горбатову обмякшим, потерянным. Маленков просил откровенно сказать, в чем видит Горбатов причину неудач и как, на его взгляд, можно переломить положение.
— Сказать по совести, я удивился. Так с нами раньше такие люди не разговаривали. Сказал: прежде всего надо вернуть из лагерей арестованных командиров и направить на фронт.
Маленков согласился и просил Горбатова назвать имена тех, кого он лично знал и за кого может поручиться. Горбатов просидел бессонную ночь у коптилки, составляя этот список. Он понимал, конечно, что разыщут не всех, но боялся случайно забыть, пропустить хоть кого-либо из тех комкоров и комдивов, кого встречал на этапе и в лагере. У него было чувство, что им решается в ту ночь судьба многих людей. Маленков с благодарностью принял список, заверил, что эти люди будут на свободе, и улетел в Москву. Ни одного из названных им командиров Горбатов потом на фронте не встречал: по-видимому, еще прежде запроса из Москвы (если таковой и последовал) все они были расстреляны.
Чем больше я слушал рассказы Горбатова, тем яснее чувствовал, как сильна в нем совестливость — считавшееся когда-то природным для русского человека, но изрядно порастраченное качество души. Он не принадлежал к числу славолюбцев, которые привыкли на людях кичиться одними победами, упиваться пением фанфар и ликовать. Ему больше помнились тяготы, потери, собственные и других командиров промахи, моменты высшей опасности на войне. И если он чем гордился, то тем, что упрямо преодолевал их.
Вспоминая о сталинградской эпопее, Горбатов замечал, что отчаянное, беспощадное сопротивление врагу началось, в сущности, на последней улице, шедшей вдоль Волги. Тоненькая ниточка отделяла врага от реки, но нить эта оказалась стальной. Тут и жестокая воля Сталина, что говорить, сыграла свою
280
роль: он велел передать командующему фронтом Еременко и командующему армией Чуйкову, что головы их полетят, если сдадут город. Все поняли: это не пустая угроза. Но как досадно, что важнейшую высоту обороны — Мамаев курган сдавали почти без боя, чтобы потом долгими неделями отбивать его. И сколько людей положили! Сколько солдат!
Второй темой, к которой Горбатов непрестанно возвращался, была боль от зряшных, ненужных потерь — следствие неумения воевать или, что хуже, высокомерного штабного отношения к солдатской массе, арифметического пренебрежения к чужим жизням. Горбатова не отпускало и жгло чувство неопределенной вины перед павшими, так полно и точно выраженное Твардовским:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли
с войны.
В том, что они — кто старше,
кто моложе —
Остались там, и не о том же речь.
Что я их мог, но не сумел
сберечь, —
Речь не о том,
но все же, все же, все же...
— У нас часто говорят: штурм Берлина, штурм Берлина, — рассуждал Горбатов. — Я держусь того мнения, что с военной точки зрения Берлин не надо было штурмовать. Конечно, были и политические соображения, соперничество с союзниками, да и торопились салютовать. Но город достаточно было взять в кольцо, и он сам сдался бы через неделю-другую. Германия капитулировала бы неизбежно. А на штурме, в самый канун победы в уличных боях мы положили не меньше ста тысяч солдат. А ведь они уже радовались, что вот-вот домой... — Глаза генерала увлажнились. — И ведь какие люди были — золотые, столько всего прошли, и уж каждый думал: «завтра жену, детей увижу...»
Слушая его, я опять вспоминал строчки Твардовского:
Города сдают солдаты.
Генералы их берут.
А Горбатов еще подкреплял свою мысль следующим соображением: надо было уметь не просто уничтожить противника, а, насколько это возможно, взять его в плен. Это
281
означало, что и с нашей стороны потерь было бы меньше. Умение воевать не в том, чтобы больше убить, а в том, чтобы с наименьшими жертвами выиграть войну.
«Моя армия за время войны, — горделиво замечал Александр Васильевич, — взяла в плен 106 тысяч немцев. А соседние армии — не больше 50 тысяч. И у меня, понятно, убитых меньше. Вот и рассудите, сколько же ненужных потерь мы несли, оттого что некоторые генералы не умели воевать».
— А как Иосиф Виссарионович, вас жаловал ли? — спросил Твардовский.
— Не могу сказать, чтобы плохо относился, хотя очень активно и не продвигал, на армии придерживал. Меня некоторые неуживчивым считали, строптивым. Не знаю, какие уж к нему донесения шли. С «балалайкой бесструнной» я рассорился. И с особым отделом не в большой дружбе был. Однажды, признаться, приколотил в сердцах палкой нашего особиста: он велел крестьянскую избу на бревна раскатать, под блиндаж для своего отдела... И другой случай был...
Горбатов рассказал, что уже когда воевали на земле Польши и Восточной Пруссии, к нему на КП явился посланец из разоренного войной Донбасса, просивший крепежного леса, для восстановления шахт: узнал откуда-то, что армия Горбатова захватила немецкие склады с тесом. Горбатов пожалел шахтеров с безлесной Украины и приказал загрузить трофейным тесом порожняк, отправлявшийся на Восток. Это сочли грубым самовольством, был пущен слушок, что тес отгружен для генеральских дач. Доложили Сталину, он велел создать комиссию и, когда выяснились истинные обстоятельства дела, произнес, ухмыльнувшись, свою опасную шутку, которая потом, через годы, льстила самолюбию Александра Васильевича: «Горбатова могила исправит!»
Генерал разговорился, щеки его порозовели, он стал чертить столовым ножом на скатерти план какой-то боевой операции, пока Нина Александровна, появившись за его стулом, молча не вынула из его руки нож, сочтя это, видно, нарушением этикета.
А Твардовский примолк, обхватил руками голову и глядел влюбленными глазами на генерала. Разошлись в тот вечер поздно.
Эта встреча запомнилась накрепко, хотя много раз мы виделись с Горбатовым и позже. Помню его в парадном мундире и с полной грудью орденов в президиуме собрания в Доме журналиста, посвященного 40-летию «Нового мира». Помню на спектакле «Теркин на том свете» в Театре сатиры, где он, растрогавшись, обнял Твардовского в проходе партера — вечер того дня мы провели в доме у Никитских ворот.
Не раз заходили мы потом и вдвоем с Сацем в эту квартиру с вечно открытой наружной дверью. Как-то, вспоминается,
282
пришли и застали Горбатова с Ниной Александровной в сумерках: они сидели рядом на диване, не зажигая огня, о чем-то тихо разговаривали и очень обрадовались нашему неожиданному появлению. Шестидесятые годы шли к концу, некоторые темы вновь стали запретными, книгу «Годы и войны», изданную лишь единожды, стали изымать из армейских библиотек.
Когда сели ужинать, Горбатов, как когда-то, стал говорить о бедах 41-го года, о напрасных потерях. Возвращался по стариковски дважды и трижды к уже слышанным нами рассказам. Но я заметил, что, повторяя одно и то же, он — противу обыкновения большинства рассказчиков — ни слова не прибавляет и не убавляет по дороге, точно держится канвы уже известных нам фактов: его щепетильная правдивость подкупала. И снова: «Подумать только — взводные командиры полками командовали, дивизиями в лучшем случае — ротные...» И снова: «Каких ребят положили в последних уличных боях. Окружить бы — немец сам сдался...»
Рассказал, впрочем, и нечто новое. Неожиданно нашелся следователь Столбунский, названный в его книге, — кто-то из читателей сообщил: жив, здоров, живет в проезде Серова. Горбатов потребовал, чтобы человек, вымогавший у него побоями ложные признания, был наказан. Конечно, к уголовной ответственности его не привлекли, даже пенсии не лишили. Но, человек не мстительный, Горбатов побывал все же на собрании в жэке, где Столбунского исключали из партии. Тот, смертельно испуганный, повторял как заведенный: «Горбатова я пальцем не тронул, пальцем не тронул...» Лгал, конечно. Но защищался он, помнится ссылкой на то, что Горбатов так и не подписал на себя вынужденного «признания» в предательстве Родины, а ведь кругом все подписывали...
Разумеется, дело было не в либеральности следователя, а в железном характере, исключительном мужестве и упорстве Александра Васильевича. Человек, давший в шестнадцать лет нравственный зарок и оставшийся верным ему всю жизнь, мог ли он уступить неправде под любыми пытками?
Мы, не ведавшие этих мук, не судьи страдальцам. Но в книге Горбатова отчетливо слышится гордость, что, несмотря на все испытания и нечеловеческие муки в период следствия, он не сломался, не оболгал себя — и вырвал у судьбы шанс вернуться. Была в рассуждении Горбатова даже легкая тень укора другим, более слабым душам, и это уж не вполне справедливо. Но, пожалуй, Горбатов в своих воспоминаниях первый открыл механизм слабости, каким пользовались палачи. В ту пору среди растерянных и несчастных людей, раздавленных совершенной с ними несправедливостью, родилась чудовищная иллюзия, что скорое признание в самых страшных злодеяниях и оговор возможно большего числа невинных заставят
283
скорее лопнуть чудовищную ложь. Спасались мыслью, что это такая нелепость, в какую уже никто не поверит. Верили. (Вспоминается, замечу в скобках, как на одном совещании в конце 50-х годов ко мне подошел человек и представился: «Резидент негуса абиссинского». Я счел это, нелепой шуткой. Оказалось — точная формула обвинения. Агенты «сигуранцы» и японские шпионы — это уже приелось, казалось пресным, и следователи развлекались экзотическими признаниями жертв). Счастье Горбатова, обладавшего не только физическим здоровьем, но и исключительной моральной стойкостью, что он смог выдержать эти муки и выйти на свободу.
Я с восхищением смотрел на этих двух людей — Горбатова и его жену. Чтобы человек, осужденный в конце 30-х к 15 годам лагеря, уцелел и еще до войны вышел, оправданный, на свободу, такие случаи сравнительно редки и до сих пор встречают порой недоверчивый взгляд: что-то мол, тут не так, либо генерал чего-то недоговаривает, либо его жена имела возможность нажать на какие-то особые пружины. И отчего саму ее не посадили, как многих, чтобы неповадно было хлопотать за арестованного мужа?
Все верно, и железная машина репрессий почти не знала сбоев. И все же уступала порой той стойкости, что была у Горбатова, той беззаветности, какой обладала Нина Александровна. Их урок в том, что нельзя пассивно цепенеть перед непреодолимой силой зла. Надо кричать, звать на помощь, биться во все запертые двери, стоять на своем, не уступать до последнего — даже когда сопротивление, по видимости, безнадежно...
Подбираю оброненную нить воспоминаний. Человек благодарный, Горбатов, встречаясь с кем-либо из нас, новомирцев, не забывал поблагодарить за былое доброе сотрудничество и с особой сердечностью говорил о Твардовском. «Я понял: это удача, что я пришел именно в ваш журнал. Твардовский — смелый человек». В такой скромной похвале из уст генерала, не сорившего словами, заключалось высшее одобрение.
А прощаясь со мной и Сацем в передней, он сказал, отвечая на заданный когда-то и оставшийся без ответа вопрос: «А дверь открытой держу, так это потому, что после одиночки ненавижу, знаете ли, запертые двери».
Горбатов умер в 1973 году, на два года пережив Твардовского, и похоронен на Новодевичьем. Когда я иду в тот угол кладбища, где лежит Александр Трифонович, по дороге делаю крюк и подхожу к надгробию Горбатова. Поясной портрет его из гранита — кавалерийская выправка, грудь вперед, смотрит строго, неуступчиво, будто вот-вот произнесет упрямо: «Не то что до Волги — до Днепра бы не допустили...»
284
«Социалистическая индустрия», 1988, 15 мая
А. Мерцалов, ведущий научный сотрудник АН СССР, доктор исторических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны
Миф о великом стратеге
Я был уверен, что такая статья, как «Принципы перестройки: революционность мышления и действий», появится, ведь перемены, начатые в нашем обществе, необратимы. Возврат к командно-административным и бюрократическим методам управления, к апологическим оценкам роли И. В. Сталина уже невозможен.
Но письма защитников Сталина не случайны. Сохраняется сильная устная традиция. Те современники Сталина, которым был выгоден культ его личности, продолжают влиять на общественное мнение. Действуют и способность человеческой памяти забывать все отрицательное, ностальгия ветеранов, чья юность совпала с войной. Большую ответственность несет та историческая литература о войне, в которой господствует парадный стиль. Здесь законная гордость победителей переродилась в опасное самодовольство, фальшивую идеализацию недалеких пропагандистов. Оно сомкнулось с фальшивой идеализацией, которую осудил апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС. Научные сотрудники, мемуаристы в условиях недостаточной демократичности и гласности обходили молчанием многие острые проблемы истории войны. Часть историков не хотят перестройки знаний о войне. Сказываются их авторитарное мышление, низкая профессиональная подготовка. Они с нескрываемой неприязнью встречают любые попытки восполнить пробелы в освещении прошлого.
В этой связи я выскажу некоторые соображения.
Роль того или иного лица в борьбе за победу непозволительно отождествлять с самой победой. Ее святость не делает
285
святым любого причастного к ней. Об этой роли нельзя судить, ограничиваясь Днем Победы или Парадом Победы в июне 1945 г. Необходимо брать в целом всю войну и ее непосредственную предысторию.
Всемирно-историческое значение Победы никто из честных исследователей, в том числе и зарубежных, не ставит под сомнение. Земной цивилизации угрожала страшная опасность в лице фашизма. Его разгром обеспечила коалиция государств и народов, но главная роль принадлежала советским людям. Нам пришлось выдержать наиболее жестокие испытания. Борьбу один на один против фашистского блока в 1941 — 1944 годах и позднее при активном участии союзников наш народ под руководством Коммунистической партии вел в условиях культа личности. При этом я решительно отличаю культ от действительно необходимой в тех условиях централизации руководства. Народ и партия победили, несмотря на культ и вопреки ему. Это обстоятельство еще больше подчеркивает величие Победы.
Факты истории поставили под сомнение не только величие Сталина, но и его политическую и стратегическую подготовленность.
Если обратиться к предыстории, то надо сказать, что с конца 1924 г., резко отойдя от политического курса Ленина, Сталин стал отождествлять фашизм, пацифизм, социал-демократизм. Это противоречило интересам рабочего класса и, по существу, интересам всего человечества.
Линия Сталина нанесла серьезный вред деятельности ВКП(б), зарубежных коммунистических партий, Коминтерна. Навредила она и советской внешней политике. Войну не удалось предотвратить, СССР вступил в нее, не имея ни одного союзника. Естественно, здесь действовали и иные факторы, но раскол рабочего и других демократических движений был главным.
По вине Сталина командным кадрам Красной Армии был нанесен огромный ущерб непосредственно перед войной. Враги, полагая, что Красная Армия стала «колоссом без головы», ускорили нападение на СССР. Характерно, что среди ведущих деятелей Красной Армии были репрессированы именно те, которые отстаивали прогрессивные взгляды, выступали за скорейшее оснащение армии, авиации и флота новейшей боевой техникой. Репрессии неизбежно усиливали среди командиров привычку «чутко прислушиваться к мнению начальства», сковывали инициативу, без которой немыслимы успешные военные действия. Армии в определенной степени
286
удалось восполнить эти утраты. Они, однако, не могли не сказаться на ее боеспособности, особенно в первые месяцы войны. В 1941—1945 годах сложилась новая славная полководческая школа, история которой еще не написана.
Роковым действием Сталина и его советников был грубый просчет в оценке намерений противника накануне 22 июня 1941 г. Многие действительные соображения Сталина или те, которые приписывают ему отдельные авторы, при более глубоком рассмотрении оказываются ошибочными. Надежда на обязательства Германии по пакту 23 августа 1939 г. была наивной.
Уже в 1938—1941 годах фашисты многократно демонстрировали свое полное пренебрежение любыми правовыми и нравственными нормами. Напомню лишь о захвате оставшихся чешских земель вопреки Мюнхенскому соглашению, только что подписанному Германией.
Сталин не хотел дать фашистам «повод» для нарушения пакта о ненападении. Но разве их до того останавливало отсутствие повода? Разве они не фабриковали сами эти поводы при нападении на Польшу и другие европейские страны? Старания «не дать повода» не помешали фашистам сочинить и ложь об «упреждающем характере» нападения на СССР.
С другой стороны, если была уверенность, что фашисты в 1941 г. не нападут, то что могло бы изменить появление повода? Сталина беспокоила, далее, неподготовленность Красной Армии. Но знает ли военная история хотя бы один случай, когда армия имела стопроцентную подготовку? Можно ли было уповать на отличную подготовку в течение совершенно негарантированных нескольких мирных лет и отказаться от немедленного приведения пограничных округов в состояние удовлетворительной готовности? Напомню, что наша партия еще в начале века пришла к выводу, что войны империалистами не объявляются, а начинаются внезапно. Эта идея была отражена в наших армейских уставах, получила теоретическую разработку в трудах советских военных теоретиков уже на опыте агрессивных походов вермахта 1939—1941 годов.
Не может быть принята в качестве «извинительной» и ссылка на возможную неблагоприятную реакцию западных держав в случае мобилизации западных военных округов. Допустим, что это вызвало бы очередную волну антисоветской пропаганды. Но верх очень скоро взяли бы долговременные интересы этих держав.
Пишут о надежде Сталина на то, что Германия не нападет
287
на СССР, пока не разгромит Англию. Но необходимо было учитывать, что обстановка резко изменилась по сравнению с аналогичной ситуацией 1914—1918 годов. В 1941 г. фашисты не без оснований сочли Англию совершенно безвредной для себя и начали свой восточный поход. Сталин мог надеяться, что для приобретения запасов горючего Германия вначале пойдет на Ближний и Средний Восток. Однако все расчеты фашисты строили исключительно на доктрине скоротечных войн и свой очередной поход считали вполне обеспеченным.
Читатель вправе спросить, располагал ли Сталин этой информацией. Имевшейся информации было больше чем достаточно, чтобы выполнить элементарное требование — постоянная боевая готовность перед лицом агрессивного и опасного противника. Безнравственно скрывать, что фактор внезапности возникает не только вследствие профессионализма и подлости агрессора, но и по вине обороняющегося. Войска Красной Армии не были приведены в непосредственную боевую готовность. Нападение оказалось внезапным, что чрезвычайно усилило противника. Здесь кроется главная, если не единственная, причина поражений в начале войны.
Красная Армия летом и осенью 1941 г. оказалась на краю пропасти. На полях сражений полегли миллионы кадровых военнослужащих — основа армии и авиации, противник взял колоссальное вооружение. Подобное повторилось в 1942 г. Сталинщина, т. е. отсутствие коллегиальности, самовластие и произвол, некомпетентность, отрицательно влияла на ход войны вплоть до ее окончания. Преступные по своим характеру и масштабам просчеты побуждали Сталина к привычной практике: новым жестокостям, нечестным оправданиям, самовосхвалениям. В 1941 г. козлом отпущения стало первое командование Западного фронта. Новые просчеты вызвали печально знаменитый приказ № 227 от 28 июля 1942 г. На этот раз Сталин обвинил, по существу, всех командиров и солдат в «недисциплинированности».
Доводы — «история отвела нам мало времени», «наша миролюбивая страна не могла приложить большие усилия в интересах укрепления обороны» — не имеют реальной основы. «В отведенное нам время» мы могли сделать много больше — и в военной экономике, и непосредственно в вооруженных силах, — если бы не допустили просчетов и самоуспокоенности, если бы следовали рекомендациям передовых ученых, а не заслуженных псевдопрофессионалов. И главное, по всем основным характеристикам, вопреки упомянутым
288
негативным явлениям Красная Армия ни в чем существенно не уступала немецкой. Наоборот, она, безусловно, имела громадные преимущества в идейно-политическом, нравственном отношениях, выгоды обороняющейся стороны.
Ряд авторов сообщают о превосходстве вермахта в боевом опыте. Внешне это так. Но ложная трактовка действительно приобретенного опыта привела вермахт к грубой переоценке собственных сил и, в конечном счете, к краху. Степень же использования опыта современных войн Красной Армией зависела во многом от субъективных, но не объективных условий. Тезис о том, что вермахт при нападении на СССР опирался на военно-экономический потенциал всех стран, захваченных Германией или зависимых от нее, также не является выводом из серьезного научного исследования. В действительности вермахт в июне 1941 г. лишь в незначительной мере использовал некоторые ресурсы этих стран. Когда же Германия привлекла большую часть этих ресурсов, она тем не менее стала безнадежно отставать в военно-экономическом отношении от СССР.
Однолинейность мышления не позволяла Сталину охватить все составляющие сложной военно-политической обстановки в тогдашнем мире.
При нарушении ленинского принципа коллективности руководства другие политические и военные руководители часто оказывались не в состоянии направить события по правильному пути. Тяжелые последствия имела, например, ошибочная оценка намерений противника летом 1942 г. Красная Армия вынуждена была отступить до Волги и Кавказского хребта...
Порой приходится слышать нелепые утверждения, что якобы вообще не было нашей победы, поскольку ее добились такой великой кровью. Прошлого не переделаешь и не отменишь, хотя цена победы и была неимоверной.
Стратег всегда оценивался по тому, сумел ли он победить малой кровью. Слова «пиррова победа» недаром пережили тысячелетия как нарицательные. Сохранить жизни — не только нравственная задача. Люди — главное достояние нации. Ложный авторитет Сталина как «великого полководца» до сих пор держится в основном потому, что не уточнены общие потери СССР и Германии — главных противников враждебных коалиций (20 и 6 млн.), а главное — сведения о безвозвратных потерях Красной Армии (10 млн.) и вермахта (2,8 млн.). В печати приводятся и другие данные. Это имеет прямое
289
отношение к профессионализму армий. И нуждается в серьезной оговорке. Многие авторитарные решения Сталина фактически способствовали противнику. Таково запрещение привести войска в непосредственную боевую готовность накануне 22 июня 1941 г., продолжение необеспеченного наступления весной 1942 г. и другие.
Одни принимают число 20 млн. погибших как некую данность, не задумываясь над тем, возможен ли был иной исход. Другие вообще категорически отвергают какие-либо исторические альтернативы. Не исследован вопрос, какое влияние, прямое и косвенное, оказали эти неоправданные потери на последующее развитие страны. Замечу, в частности: разве девизы «план любой ценой» и «победа любой ценой» не имеют общей методологической основы? И как долго еще можно следовать ущербному принципу «победителей не судят», не представляя себе, что он мог возникнуть лишь в то время, когда не существовало и зачатков общечеловеческих морали и права, а люди еще не научились соотносить цели и средства, необходимые для их достижения.
Советским людям приходилось воевать не только против внешнего врага, но и внутреннего — сталинизма и его носителей. Так же как сталинщина с ее грубыми искажениями социализма должна быть решительно отделена от марксизма-ленинизма, так должны быть отделены от искажений и героические действия советских патриотов фронта и тыла.
Прошлое жизненно необходимо для нынешнего дня, подчеркивается в редакционной статье «Правды», для решения задач перестройки. И если мы сегодня вглядываемся в свою историю критическим оком, то лишь потому, что хотим лучше, полнее представить себе пути в будущее.
290
«Труд», 1988 20 апреля
Михаил Томский — каким он был!
Ответ на некоторые вопросы, связанные с судьбой этого человека, даст беседа, которую ведут кандидат исторических наук О. И. Горелов и сын Томского — Ю. М. Томский.
О. Горелов. — Юрий Михайлович, по свидетельству товарищей, хорошо знавших вашего отца, по тем материалам, с которыми я познакомился, изучая его жизнь, Михаил Павлович представляется мне сильным, волевым человеком. Он несколько раз арестовывался царской полицией, сидел в тюрьмах, отбывал пятилетнюю каторгу. Все вынес — побои, одиночки, этапы, голод и холод...
Ю. Томский. — А вот унижений и оскорблений, облыжных обвинений в предательстве партийного дела отец не смог пережить. Мне в 1936 году было 15 лет. Все помню. И особенно — август, тот жуткий месяц, ставший последним в его жизни. Тогда начался процесс над Зиновьевым, Каменевым и другими. После газетной публикации материалов процесса отец позвонил Ежову, который в то время был секретарем ЦК ВКП(б) и председателем Комиссии партийного контроля при ЦК, и сказал ему: «Если всякую грязь и клевету валят на мою голову, то что же мне делать? Сдавать дела? Видимо, я партии больше не нужен». На что Ежов, по словам отца, ответил: «Не говори глупости, все это ерунда. Работай. Мы тебе верим». В ту пору, после снятия с поста председателя ВЦСПС, отец руководил ОГИЗом, ведал издательской деятельностью в стране. 21 августа в ОГИЗе состоялось партийное собрание. Отец вернулся на дачу в Болшево поздно и не спал всю ночь.
Утром 22 августа за ним, как обычно, пришла машина и с ней доставлена газета, в которой был опубликован материал о партсобрании в ОГИЗе. Отец прочел и вышел в сад. Потом позвал меня. Мы ходили по саду. Отец говорил. Я не знал тогда, что это было его последнее напутствие мне, младшему
291
сыну. Он говорил, что ни в чем не виноват, что без партии жить не сможет. Этим же утром его не стало.
О. Г. — В 1937 году по поводу его смерти писали так: «Запутавшись в своих связях с контрреволюционными троцкистско-зиновьевскими террористами, в августе 1936 года кончил жизнь самоубийством». Сейчас даже произносить такие слова как-то неудобно. Но все-таки почему, по вашему мнению, он принял такое решение, чего хотел добиться своей смертью?
Ю. Т. — Причин этого поступка, видимо, много. Не мне судить. Для нас же, его детей, совершенно определенным представляется, что этим отец хотел еще и уберечь нас, семью. В день самоубийства отца у него в кабинете на даче было найдено письмо на имя Сталина, в котором Томский просил не трогать семью. В ОГИЗе, в рабочем кабинете отца, было обнаружено второе письмо, адресованное в ЦК. Это был объемистый пакет, и мы с братом Виктором передали его лично в руки Ежову. Тот прочитал и заявил, что это документ огромной важности и будет жить в веках. Он заверил нас, что ни один волос не упадет у нас с головы и что он постарается заменить нам отца.
О. Г. — Ну а цена этих заверений? Какова дальнейшая судьба семьи Томского?
Ю.Т. — Двое старших братьев — Михаил и Виктор — расстреляны. Мать приговорена к 10 годам, умерла в 1956 году в Сибири. Все они реабилитированы посмертно. Сам я — единственный из семьи, оставшийся в живых. С 16 лет репрессирован — 10 лет тюрьмы и 9 лет ссылки. По возвращении и реабилитации я свыше 20 лет работал в системе Министерства энергетики и электрификации СССР.
О. Г. — Многие историки сейчас сходятся на том, что предложения группы Бухарина, Рыкова и Томского тогда, на рубеже 20-х и 30-х годов, содержали здравые зерна. Были плюсы в их позиции, были, конечно, минусы. Но в стране стала утверждаться командно-административная система руководства, всякий иной взгляд на социализм оказался неприемлем из-за нетерпимости Сталина, а носители этих взглядов — опасны.
Сейчас, когда мы решительно отказываемся от административно-бюрократической системы, включаем экономические рычаги, человеческий фактор, углубляем демократию, нам могут быть очень полезны портреты людей, мысливших в том же направлении. В этом смысле интересно, что собой пред-
292
ставлял Михаил Павлович Томский как человек? Каким он был?
Ю. Т. — Решительным. Помню, брат мой Виктор рассказывал о случае, который на его глазах произошел в поезде, когда отец ехал с ним и своими товарищами в Париж. Едва состав отошел от какого-то полустанка в Польше, как в открытое окно вагона что-то влетело — все увидели гранату, она волчком вертелась на полу. Оцепенение длилось миг, а потом отец схватил ее и швырнул в окно: взрыв прогремел далеко под откосом...
О. Г. — Профсоюзная биография М. П. Томского началась еще до Октября: в 1905 году он создает в Ревеле профсоюз металлистов, в 1906 году в Петербурге создает профсоюз граверов и хромолитографов, избирается на V (Лондонский) съезд РСДРП в 1907 г., который принял важные решения о профсоюзах. Ваш отец не рассказывал об этом времени?
Ю. Т. — Я был еще подростком. Могу привести две выдержки из воспоминаний отца, опубликованных в 1927 году и неизвестных ныне. Отец размышлял о важности практической, повседневной работы профсоюзов: «У нас был... краткий период между 1907 и 1908 годами, когда... мы не поняли резолюции Лондонского съезда (в резолюции речь шла о признании профсоюзами партийного руководства. — Ред.), пришли в профсоюзы и начали: «Вот вы резолюцию Лондонского съезда принимаете или нет?» А те говорят: «Мы не насчет резолюции Лондонского съезда, а вот насчет того, нельзя ли нам, чернорабочим, на 5 коп. добиться повышения зарплаты?!» «Это, — им отвечали, — пустяки, а вот как насчет резолюции Лондонского съезда?» — «Мы этого не обсуждали». — «А мы требуем, чтобы вы обсудили». — «Тогда, — говорили нам, — выйдите за дверь и там обсуждайте». Так было в 1907—1908 гг., когда с этой резолюцией многие не по уму горячие ребята бросились прямо к рабочим. А к концу 1909 г. уже в значительной части московских и петербургских профсоюзов в правлениях сидели большевики. Что они для этого сделали? Они стали резолюцию Лондонского съезда не обсуждать, а проводить на деле».
Вторая выдержка связана уже с периодом реакции, когда перед партией с особой важностью встала задача использования не только профсоюзов, но и других легальных организаций рабочего класса: «В конце 1907 года большевики обсуждали в Териоках, в большевистском Центре, под пред-
293
седательством Владимира Ильича, вопрос о платформе нашей работы в профсоюзах. И там зашел спор. Владимир Ильич яснее всех нас видел, что наступает полоса реакции, требующая известной перегруппировки сил. Обсуждали вопрос о работе профессиональных и других рабочих организаций, об использовании легальных возможностей и т. д. Причем я, будучи тогда профессионалистом довольно ортодоксальным, все мог перенести, но не мог перенести того, как это мы, большевики, пойдем работать в кассы взаимопомощи, которые я тогда считал архиоппортунистическими организациями, не стоящими нашего внимания. «Вот профсоюзы — это классовая организация рабочих, в ней работать можно, и ее мы должны строить, а кассы взаимопомощи — чепуха». Как один из своих аргументов против Владимира Ильича я — по молодости лет — выдвинул тогда следующее: «Вы что же, хотите нам еще рекомендовать идти работать в кружки балалаечников?» Владимир Ильич сказал: «Если это рабочие кружки балалаечников, — я рекомендую вам идти, хотя бы там было 3—5 человек рабочих. Если же они играют на балалайке «Боже, царя храни», то научите их для первого раза играть «Марсельезу».
О. Г. — Февральская революция застала Томского в Сибири, на поселении в Иркутской губернии. В конце марта Томский приезжает в Москву, а после возвращения В. И. Ленина из-за границы едет в Петроград, где после беседы с Ильичем начинает работать в ПК РСДРП.
После Октября Томский работает в Московском совете профессиональных союзов, где в декабре избирается председателем. На I съезде профсоюзов в январе 1918 года выступает с заключительным словом по докладу о задачах профсоюзов. Вскоре он становится руководителем профсоюзного движения страны. В чем было его кредо?
Ю. Т. — Отец неоднократно говорил о том, что работа профсоюзника складывается из массы мелких, порой незаметных дел. Профсоюзник, по его словам, всегда должен быть в массе, чувствовать ее интересы, знать чем она живет, что ее волнует. Говоря о задачах коммунистов в области профсоюзного движения. Томский так определил свою позицию на пленуме Исполкома Коминтерна 2 марта 1926 года: «Могут ли коммунисты недооценить роли и работы профсоюзов? Откровенно говоря, для литераторов, привыкших писать пышные статьи на отвлеченные темы об очень важных мировых вопросах, для агитаторов, которые считают единственно важ-
294
ным выступления на больших митингах и произнесение, под гром аплодисментов, звонких речей о мировых задачах, — работа профсоюзов, которая иногда сводится к борьбе за пяти- или семикопеечную прибавку рабочим или к отстаиванию требования о кипяченой воде, — кажется будничной, серенькой работой. Чтобы борцу за революцию важно было бы разбираться в каких-то пятаках, — не стоит пачкаться! Вы помните, что величайший вождь рабочего класса В. И. Ленин в одном из своих первых произведений написал о требовании кипяченой воды, умывальников и т. п. Вот подход к массе, вот человек, который с первых шагов понял, как нужно подходить к массе».
Выступая на траурном заседании II съезда Советов в Большом театре 26 января 1924 года, отец так сформулировал ленинские заветы в области профдвижения: не отделять политики от экономики; не противопоставлять профессиональное движение политическому движению пролетариата; приносить в жертву, если этого требуют интересы класса, все личное, все групповое, все цеховое; неустанно воспитывать новые сотни тысяч рабочих, вливая их в госаппарат для его оздоровления, перестройки, укрепления и приближения к массам; союзы должны быть «ближе к массам», должны стать «школой коммунизма» для широких масс.
О. Г. — Томский был ярый противник методов администрирования и командования в профсоюзах. Именно он первым забил тревогу, когда в ноябре 1920 года с лозунгами «перетряхивания» профсоюзов выступил Троцкий.
Ю. Т. — Он был против бюрократизма в профсоюзах. Так, на VI съезде профсоюзов он поднял вопрос об излишнем количестве циркуляров профсоюзов. Томский всегда говорил, что если не начать вовремя лечить такие, казалось бы, безобидные болезни, то дело может для больного кончиться плохо. Он говорил, что подобного рода зачатки болезней союзного аппарата могут вылиться «...в окостенение аппарата, в создание касты, стоящей над массой, в создание рабочей аристократии, касты профчиновников, для которых работа в рабочих организациях является не делом классового долга, а средством к существованию, — профессией...»
О. Г. — Вы сказали о циркулярах и о речи Томского на VI съезде профсоюзов, а мне вспомнилась карикатура в «Крокодиле» за 1924 год: «Читали вы, — гласит подпись под рисунком, изображающим двух профсоюзников, — как Томский-то, на съезде, насчет циркуляров? Циркуляр, говорит, —
295
это враг профдвижения!» — «Да, да, замечательно, верно! Надо будет обязательно разослать циркуляр».
Ю. Т. — Это очень показательно. Тогда действительно с критикой вопрос стоял как-то проще, демократичнее. И критика воспринималась нормально. Мать, например, рассказывала, что отец приходил иногда и без всякой трагедии говорил: «Ну, Ильич меня сегодня хорошо побил, положил на обе лопатки!».
О. Г. — Да, Ленин не раз критиковал Томского. Но как на крутом переломе, в пору профсоюзной дискуссии, когда решался вопрос о политике партии в отношении профсоюзов, Томский стоял на последовательно большевистской позиции. Ленин поддержал его. Когда у Томского произошло столкновение с Троцким по вопросу «перетряхивания» профсоюзов, Михаил Павлович пришел к Ленину и, по словам Ильича, стал возбужденно рассказывать о том, как Троцкий говорил о «перетряхивании» и как он, Томский, с этим полемизировал. «...Когда это произошло, — продолжает В. И. Ленин, — я сразу и бесповоротно решил для себя... что в корне не прав в этом споре т. Троцкий со своей политикой «перетряхивания» против т. Томского».
Защищая Томского от критики его якобы серьезных теоретических ошибок, В. И. Ленин отметил: «Я никогда не слыхал, чтобы в Томском преобладал теоретик... может быть, это его недостаток, это другой вопрос. Но что Томский, сработавшийся с профессиональным движением, должен отражать... этот сложный переход, и если у массы что-то болит и она сама не знает, что болит, и он не знает, что болит, если он при этом вопит, то я утверждаю, что это заслуга, а не недостаток. Я совершенно уверен, что частичных теоретических ошибок у Томского найдется много. И мы все... все поправим, а может быть и поправлять не станем, ибо производственная работа интереснее, чем исправление мельчайших теоретических разногласий».
Если продолжать говорить об ошибках Томского, то они в основном имели место в начальный период его деятельности на посту руководителя советских профсоюзов. Резкой критике со стороны В. И. Ленина, например, подверглось поведение Томского весной 1921 года на IV съезде профсоюзов. ЦК партии создал специальную комиссию и поручил ей подготовить проект резолюции съезда о деятельности ВЦСПС. Томскому, как члену комиссии, поручалось внести этот проект на рассмотрение коммунистической фракции съезда, а затем отстаи-
296
вать его на съезде. Но он этого не сделал, в результате чего была принята ошибочная резолюция, предложенная Рязановым. Пленум ЦК отстранил Томского от руководства работой съезда и от дальнейшей работы в ВЦСПС. Некоторое время, до января 1922 года, Томский работал председателем Комиссии ВЦИК по делам Туркестана, после чего вновь возвратился на профсоюзную работу. Серьезных ошибок после этого в работе председателя ВЦСПС уже не было.
Ю. Т. — Ошибки Томского, явные и мнимые, были поставлены ему в вину в августе 1936 года, спустя многие годы после того, как он отошел от профсоюзной деятельности. Сталин ничего не забывал.
О. Г. — В каких взаимоотношениях был Томский со Сталиным?
Ю. Т. — В годы становления Советской власти отец со Сталиным нередко бывали друг у друга. У нас хранилась фотография Сталина, датированная 26-м годом с надписью: «Моему дружку — Мишке Томскому. И. Сталин». В 1927—1928 годах мы семьей бывали у Сталина в Сочи на Пузановке. Там жил и А. Рыков, приезжал Н. Бухарин. Помню, был чей-то день рождения. Мама со Сталиным готовили шашлык. Сталин сам жарил его на угольях. Потом пели русские и революционные песни и ходили гулять к морю.
О. Г. — С кем дружил Томский, о ком он рассказывал?
Ю. Т. — Рассказывал отец о С. М. Кирове. Он и отец в 1929 году вместе занимались апатитовыми разработками в Хибинах, когда после ВЦСПС отец работал во Всехимпроме. Киров резко выступал против правого уклона, против взглядов отца. Но дружба между ними никогда не прерывалась. Отец бывал у него в Ленинграде, вместе охотились. Он называл Кирова замечательным человеком.
В 1934 году, осенью, Киров приехал в Москву, кажется на пленум ЦК ВКП(б) и ночевал у нас. Убийство Кирова потрясло отца и сильно повлияло на его здоровье.
Много теплых слов слышал я от отца о Михаиле Васильевиче Фрунзе. В 1921 году отец был послан в Туркестан. Там тогда были Рудзутак и Фрунзе. Отец и Фрунзе очень дружили.
О. Г. — Какие у Томского были увлечения?
Ю.Т. — Отец хорошо рисовал — углем, акварелью, маслом. Увлекался фотографией, коллекционировал оружие. Помню, например, что ему дарили оружие Рудзутак, Орджоникидзе, Фрунзе, Дзержинский, Блюхер, Сталин, тульские рабочие. После нашего ареста коллекция пропала.
297
О. Г. — Где захоронен Томский?
Ю. Т. — В ночь на 23 августа на дачу в Болшево приехал Ежов. Он долго беседовал с матерью и сказал ей, что захоронение предполагается у Кремлевской стены. Утром 23 августа матери передали по телефону, что захоронение произойдет на кладбище Новодевичьего монастыря. Через некоторое время было сообщено, что захоронение будет произведено временно на Болшевском кладбище. Тело отца было забальзамировано. В день похорон у дачи скопилось очень много народу. Срочно кем-то было принято решение о захоронении Томского на территории дачи. Позже его тело ночью было вырыто. Имеется ли где-нибудь его захоронение, мне узнать не удалось...
О. Г. — Спасибо за беседу. Сегодня мы вновь и вновь обращаемся к непростой истории профсоюзов, учимся на ее уроках. М. П. Томский был заметной фигурой в профсоюзном движении, и подробности о его жизни будут интересны читателям.
298
«Комсомольская правда», 15 января 1988
А. Афанасьев
Победитель
В январе 1945-го года он был избран первым секретарем Ленинградского обкома и горкома партии. Это, по сути, явилось признанием его роли в обороне города, в прорыве блокады, в победе над врагом. Через четыре года А. А. Кузнецов был репрессирован по ленинградскому делу»...
Как раз в эти тяжкие для всей семьи Кузнецовых месяцы дядя Сима привез в Москву из Ленинграда очень модную игру «дженкинс». Семья садилась за обеденный стол, делилась на две команды. Одна команда вытягивала на столе руки. Другая должна была угадать, у кого и под какой рукой монета или кусочек бумаги. Гипнотизируя по очереди взглядом игроков, капитан второй команды громко кричал: «Снять!» Руки поднимались. Бумаги (или монеты) не было. Все участники игры весело смеялись. А капитан кричал вновь: «Снять!»
И опять повторялось все.
Семья не знала, не могла знать, что в те же месяцы другие игроки и за другими столами разыгрывали иную игру — не столь невинную.
15 февраля 1949 года секретарь ЦК ВКП(б) Алексей Александрович Кузнецов пришел, как всегда, на работу и обнаружил на своем столе бумагу, из которой явствовало, что он от занимаемой должности освобожден.
В этот день, 15 февраля, преемник А. А. Кузнецова в Ленинграде, первый секретарь обкома и горкома Петр Сергеевич Попков был вызван в Москву, на заседание Политбюро, откуда возвратился в совершенно разбитом, подавленном состоянии.
На этот же день, 15 февраля, у Кузнецовых был назначен праздник. Праздник не отменили. Был накрыт большой нарядный стол: старшая дочь Кузнецовых, Алла, выходила замуж за Серго, сына Микояна. Приехал Алексей Александрович. Выглядел он обычно: весел, энергичен, подтянут.
Трагедии не чувствовалось.
299
Трагедии не чувствовалось и на следующий день, когда гости уехали и жена Алексея Александровича, Зинаида Дмитриевна, собрала детей и тихо сказала: «Ребятки, папу сняли. Все, конечно, разъяснится...»
Трагедии детям не дали почувствовать и все последующие шесть месяцев.
Алексей Александрович стал много читать. Представлял ли он, что уже происходило там, в Ленинграде? По его глазам было заметно: он что-то взвешивал, сопоставлял, продумывал. И оставался уверенным, собранным. Или просто своим видом показывал тем, кто его в эти дни наблюдал: Кузнецов уверен, не боится и, стало быть, никакой вины за собой перед народом и партией не чувствует?
21 февраля (назавтра после дня рождения Алексея Александровича) второй фактически человек в партии Георгий Максимилианович Маленков был в Ленинграде. 22-го Маленков выступил на объединенном пленуме обкома и горкома с сообщением об антипартийных действиях члена ЦК тов. Кузнецова А. А. и кандидатов в члены ЦК тт. Родионова М. И. (председатель Совмина РСФСР) и Попкова П. С.
25 февраля прямо из президиума партконференции бывший ленинградец первый секретарь Ярославского обкома Иосиф Михайлович Турко был отозван в распоряжение ЦК... Маленков вышел из-за стола, встретил Турко, заложив руки за спину: «Не хитрите с Центральным Комитетом партии. Скажите, группа у вас была?..»
В марте сняли еще одного ленинградца, академика Николая Алексеевича Вознесенского. Его вывели из состава Политбюро, освободили от обязанностей заместителя Председателя Совета Министров СССР и председателя Госплана СССР.
Шесть месяцев, с 15 февраля по 13 августа, — как шесть часов. Шесть часов рассказа дочери Кузнецова, Галины Алексеевны.
Через некоторое время Алексея Александровича вызвали в ЦК. Это было в марте... Нет, наверное, попозже. 8 марта в их девчачью школу (тогда обучали раздельно) разрешили пригласить ребят. Галя собралась на вечер. Мама осторожно спросила: «Может, не надо?» Галя удивилась: «Почему?!»
Трагедию семье давали почувствовать постепенно. Папу направили в Перхушково. Папа пришел радостный, принялся собирать вещи: «Сбылась моя мечта. Я буду учиться!..»
Семья приезжала к нему на такси. Запомнилось: поместили папу на втором этаже в узкой, как камера, комнате с же-
300
лезной кроватью. Запомнилось: там в это время обучались почему-то в основном пожилые генералы. Они очень хвалили Алексея Александровича за проведение сложнейшей игры.
Только потом, говорит Галина Алексеевна, выяснилось: почти все обучавшиеся были арестованы.
21 июля министр МГБ Абакумов (правая рука Берии) сообщил Сталину, что снятый еще в феврале с должности второго секретаря Ленинградского горкома Яков Федорович Капустин — не кто иной, как английский шпион. Основание? Еще в 30-х годах Капустин, будучи старшим мастером на Кировском заводе, ездил в Англию, изучал производство паровых турбин.
10 августа Галя приехала в Перхушково на такси за отцом: обучение в Перхушково завершилось. Папа, не скрывая радости, говорил: «Ребятки, я оправдал ваши надежды! Я не получил ни одной «четверки»!» Показывал с удовольствием выданную ему амуницию. Значит, не игра? Следовательно, все всерьез? Выходит, все должно действительно разъясниться?
Адам Осипович Каршеник, член ВКП(б) с 1904 года, давший Алексею Кузнецову рекомендацию в партию, выделял в его характере постоянное стремление к ясности. Лишь спустя годы, сквозь призму трагической судьбы видишь: из этого качества прорастет, как из зерна, его сила, а значит, и его гибель...
К середине августа, вероятно, завершилось обучение не только в Перхушково. 13-го, взяв младших детей, Алексей Александрович пошел гулять по Москве. Выглядело это так, как описывал позднее дядя Сима: впереди идет смеется Кузнецов с детьми. В нескольких шагах, неназойливо — кто-то из двоих охранников.
Домой вернулись к обеду. Алексей Александрович пошел мыть руки. А Зинаида Дмитриевна негромко сказала: «Ленюшка, тебе звонил...» (и она назвала фамилию человека, работавшего в ту пору в КПК). Алексей Александрович вышел из ванны заметно бледным. Быстро собрался. В прихожей поцеловал жену и детей. Закрылась дверь.
Улыбаясь, помахал рукой с улицы. Вот и все, кажется?
Ожидали его возвращения, накрывали на стол. Мама повторяла, как заклинание: «Ничего-ничего, ребятки. Все разъяснится». К вечеру под окнами остановилась странная машина. Было светло. И потому увидели: из машины вышли энергичные мужчины в черных костюмах и черных шляпах.
И вот уже позвонили им. И вот уже распахнули их дверь.
301
Первый (значит, самый важный?) с порога вопрос:
— Где письмо?!.
Мы сидим с Галиной Алексеевной за большим обеденным столом, покрытым белой скатертью. Это, конечно, другой стол. И совсем другая квартира. Смотрим фотографии: «Вот папа еще в Боровичах. Он четырнадцати лет поступил на лесопильный, где и его отец работал... Вот он секретарь укома комсомола... А это они с мамой, молодожены, и у них родилась Алла... А потом, в Луге, секретарем окружкома комсомола... Знаете, сколько ему было, когда его избрали вторым секретарем Ленинградского горкома партии? Тридцать три года!..» Блестящая, стремительная карьера. Вся она — в паре фотоальбомов. В двух военных тетрадях маминого брата — дяди Симы (в блокаду Серафим Дмитриевич Воинов у члена Военного Совета Ленфронта Кузнецова был военным порученцем — имелась в те годы такая должность).
Рядом толстая пачка описей и актов, оставленных семье после арестов и обысков — папиного и маминого. И еще несколько писем. Вот и весь архив. Письма папины? Нет, папа без права переписки. Мамины: из Владимира, из бывшей царской каторжной тюрьмы. После папы остались только описи. При обыске все его бумаги рвали. Разорвали даже коробку из-под папирос «Герцеговина Флор». Коробку Алексей Александрович хранил с 1940 года. Ее подписал и подарил Кузнецову сам. А то письмо? Письмо Сталина?
Того письма здесь нет...
Листаю тетради Серафима Дмитриевича Воинова. Слушаю Галину Алексеевну. И одолеваю первый пласт «ленинградского дела». Первый пласт сшит белыми нитками. Но сшит мастеровито.
Воинов, проходивший по тому же «делу», описывал, по каким правилам разыгрывалась обычно игра: «Подозреваемый должен был почувствовать себя в пустоте. Для него изменялась атмосфера в учреждении, на заводе. Попавший в список ощущал, что чья-то рука организует для него служебные неприятности. Но догадаться о действительных причинах не мог. Он становился нервным, терял деловые качества и уже сам прибавлял просчеты... Я проходил по списку тех, кого следовало чернить любыми способами. Я шел вместе с теми, кто перед трибуналом должен был предстать ошельмованным, с клеймом антиобщественного человека или пьяницы, морально неустойчивого, нравственно опустившегося. В это число включались и те, кто, попадаясь в подготов-
302
ленные капканы служебных нарушений, оказывался не только оклеветанным, ошельмованным, но и ответственным перед законом и людьми» (выделено мной. — А. А.).
Значит, не просто брали и хватали. «Дела» готовились тщательно, долго, иногда годами. Кузнецова «готовили» по меньшей мере полгода. Воинов — тот даже считал, что «ленинградское дело» вообще уходит корнями... в 41-й, в блокаду. Формальное же его начало: январь 1949 года.
В декабре 48-го в Ленинграде провели областную и городскую партконференции. Там было объявлено: секретари обкома и горкома переизбраны единогласно. Вскоре в Москву ушло анонимное письмо: члены счетной комиссии видели, что «фамилии Попкова, Капустина и Бадаева во многих бюллетенях вычеркнуты». И это действительно имело место: больше всех, 15 голосов против, получил будущий «английский шпион» Капустин. Что заставило пойти на подлог? Самостоятельное желание не испортить радужной отчетности? Или тот самый капкан сработал? Достаточно ведь, кому надо, просто намекнуть: к чему ронять репутацию колыбели революции! А чуть позже вытащить свежеиспеченный факт на всеобщее обозрение...
Нет, не будем утверждать, что это было так. Кто автор подлога и каковы его мотивы — теперь сложно выяснить. Во всяком случае история с голосованием послужила основательным поводом. Хорошо отлаженная машина сделала первый оборот. Второй: в январе 1949-го в Ленинграде провели всероссийскую оптовую ярмарку. В ней участвовали и союзные республики. Значит, уже получается, всесоюзная? А санкционировано ли это центральными органами? Нет. Следовательно, тут можно усмотреть факт разбазаривания, а также еще более серьезный факт: групповщины, противопоставления себя Центральному Комитету. Третий оборот: П. С. Попков, абсолютно неопытный партийный работник, оказавшись на ответственных постах, подвергался, вероятно, обработке так же, как и Кузнецов. Но с другим результатом.
Читаю в записках Воинова: «Незадолго до января 1949 года... увиделся с Попковым. Это произошло в Смольном, в столь хорошо знакомом мне кабинете Кузнецова. Попков поразил меня своим видом. За столом Кирова и Кузнецова сидел больной человек. Особенно поразили меня его бегающие глаза и какая-то жалкая, вызывающая к снисхождению улыбка потерянного человека. Что и кому Петр Сергеевич
303
говорил в том состоянии — помнил ли он сам? Во всяком случае из его выступлений и бесед выудили третий факт: будто бы Кузнецов и Попков «вынашивали» идею создания компартии России».
На этих трех фактах первый кон был отыгран. Теперь следовал кон второй. Следствие. Подключился игрок — ни больше ни меньше — в ранге министра МГБ. Как велось следствие? А как оно могло вестись, ежели ни одна сила в мире не могла его объективно проверить? Чем способно было завершиться, если поверх писаных законов действовали железные правила: царица улик — признание самого обвиняемого; главное — внутренняя убежденность следователя; враг народа не стоит того, чтобы с ним обращаться как с товарищем по партии...
Только еще подозреваемому Турко следователь, то ли шаманя, то ли гипнотизируя, кричал: «Если ты не признаёшься, то ты тем самым ведешь борьбу с Центральным Комитетом партии...» Вдумаемся: подозреваемых и не могло быть. Были заранее автоматически виноватыми в принципе все: ты есть враг, хотя бы потому, что не признаёшься в этом!
Итог: приговорены к высшей мере А. А. Кузнецов, Н. А. Вознесенский, М. И. Родионов, П. С. Попков, Я. Ф. Капустин. Чуть позже в Ленинграде — второй секретарь обкома Г. Ф. Бадаев, председатель облисполкома И. С. Харитонов, уполномоченный МГБ по Ленинградской области П. Н. Кубаткин, секретарь горкома П. И. Левин... По всей стране бывшие ленинградцы: председатель Госплана РСФСР М. В. Басов, второй секретарь Мурманского обкома А. Д. Вербицкий, первый секретарь Крымского обкома Н. В. Соловьев... Всего по «ленинградскому делу» репрессировано более двухсот человек. За три года снято с работы свыше двух тысяч руководителей (подробнее документальная сторона «дела» — по материалам партархива — изложена в ленинградском «Диалоге», №№ 18— 19 за 1987 год).
Машина, запущенная на полный ход, подминала оставшиеся священные аксиомы, признанные юристами всего мира. Вслед за презумпцией невиновности под жернов отправилась первейшая заповедь законника: «Закон обратной силы не имеет». А дело в том, что Кузнецов и другие казненные были арестованы в момент, когда в стране отменяли смертную казнь, а в соответствии с названной цивилизованной нормой их должны были судить по закону, действовавшему в момент ареста. Но... восстановили смертную казнь. И казнили.
304
Владимир Николаевич Базовский, ныне начальник Главного управления государственного таможенного контроля при Совете Министров СССР, а тогда секретарь одного из райкомов комсомола в Ленинграде, мне рассказывал, как снимали за «неправильное воспитание» молодежи комсомольских секретарей, чуть ранее награжденных орденами за плодотворную работу по коммунистическому воспитанию молодежи...
От Владимира Николаевича я впервые и узнал, что Кузнецова, избрав секретарем ЦК партии, оказывается, «поставили на кадры». А до Кузнецова кадрами (в том числе и по ведомству Берии) занимался самолично Георгий Максимилианович, избранный теперь членом Политбюро. Другими словами, Кузнецовым Маленкова «с кадров» как бы вытеснили...
Кузнецов это знал. Видел. Просто не мог не знать и не видеть. И вместо того, чтобы максимально позаботиться о безопасности, он, по воспоминанию Турко, став секретарем ЦК и занявшись кадрами, критиковал... Маленкова. Причем не в закрытом помещении (и этого было бы достаточно). А открыто, как бы мы сейчас сказали, гласно. И мало того, по воспоминанию уже Базовского, начал всерьез интересоваться ведомством Абакумова.
Что же происходило с ним, в самом-то деле? Неужели он был просто наивен?
После ареста Алексея Александровича Кузнецова прошло некоторое время. И вот уже осенью 1949-го в МГБ какой-то материал на него был готов. С одной стороны, почувствовалась необходимость объяснить хоть как-то создавшуюся абсурдную ситуацию. С другой, вероятно, появилась возможность «проверить» не только Кузнецовых, но и семью Микоянов. И вот осенью, рассказывает Серго Анастасович, отец усадил меня напротив за столом. Вполне отдавая себе отчет, что разговор может подслушиваться, с совершенно каменным лицом, отец стал зачитывать показания, будто бы данные Кузнецовым следователю...
В «признаниях» речь не шла ни о терактах, ни о «принадлежности» к иностранной разведке — как зачастую было в делах 37-го года. Самое, пожалуй, тяжелое по тем временам «признание»: «Мы не любили Сталина...» И тогда Серго спросил отца: не допускает ли он, что все придумано следователем? Отец ему ровным голосом объяснил: нет, под каждой страницей стоит подпись. И, кроме того, встречаются такие выражения, которые вряд ли следователи употребляют. Отец говорил убедительно. Но по лицу можно было догадаться,
305
что сам он вряд ли верит. Ну хорошо, сказал сын, однако ведь здесь в худшем случае одни мысли, высказанные вслух. Где же факты? Алексея Александровича наверняка оправдают! В ответ на что отец, естественно, ничего не сказал. Только удивленно приподнял брови. И сын понял: приговор в принципе вынесен. А отец добавил: бывать в семье Кузнецовых я тебе не могу запретить. (Еще бы! — подумал сын. — Так бы я тебя и послушал!). Но в разговорах с Зинаидой Дмитриевной надо быть осторожным... Серго расценил это сначала лишь как совет не травмировать ее лишний раз разговорами о муже. И только когда Зинаиду Дмитриевну арестовали, он предположил: может, уже тогда отец знал об этом?
Я слушаю Серго Анастасовича. И простодушно спрашиваю:
— Почему он в квартире заговорил? Почему не подобрал более подходящую обстановку? В саду, например, там бы и рассказал все подробно!
— А вы представьте его ситуацию, — грустно улыбается Серго Анастасович. — Я студент, мне девятнадцать лет. Я человек молодой, неопытный. Скажи мне отец откровенно все, что думал, я — еще кому-то, в горячке, в споре. Следовательно, он бы тем самым подвергал всех нас смертельной опасности!..
Видимо, разумнее было говорить как раз там, где подслушивали...
Этот эпизод хорошо иллюстрирует атмосферу, время и то положение, в котором находились люди, даже занимавшие высокие посты в государстве. Нам трудно представить, какова была цена самых простых душевных человеческих движений. Накануне свадьбы Серго и Аллы, как мне рассказывали, с Микояном говорил Каганович: ты что делаешь, там все решилось!
Но свадьбу не отменили.
Когда начались аресты и расстрелы, в спецдетдомах оказались сыновья многих репрессированных. Сына Кузнецова прятали на даче у Микояна. Когда арестовали Зинаиду Дмитриевну, детей не тронули — говорят, благодаря тому, что Микоян просил Сталина...
Я думаю обо всем этом. И тем невероятнее представляются мне поступки самого Алексея Александровича. Откуда это у него? Чем объясняется? Чтобы понять, надо присмотреться повнимательнее к его внутренней, душевной биографии.
22 июня 1941 года. Жданов в отпуске, отдыхает на юге. Вся тяжесть ответственности за судьбу Ленинграда ложится
306
на 36-летнего второго секретаря горкома. Далее. Строительство оборонных укреплений и быт горожан. Формирование народного ополчения и подбор военных кадров. Создание партизанских отрядов и руководство политуправлениями фронта и флота — всем этим каждый день занимался Кузнецов.
А Сталин совершает беспрецедентный поступок. В присутствии приближенных лиц пишет собственноручно письмо. И кому? Второму секретарю горкома! Суть письма: Ворошилов и Жданов устали, издергались... Им нужно дать выспаться, отдохнуть... Во всем, что касается организации обороны, мобилизации всех сил, я могу полагаться только на тебя...
Это было признание истинной роли Кузнецова в той ситуации. Письмо доставил в Ленинград генерал НКВД. И вручил, минуя Ворошилова и Жданова, Кузнецову. Естественно, о письме знали многие. По тем временам такое письмо давало колоссальную власть. Это была своего рода верительная и охранная грамота. Имелся, кажется, и еще один дальний смысл. Такое письмо могло вбить клин между Кузнецовым и Ждановым. Тем более, поводов для того находилось достаточно. Мучительной зимой 1942-го у Жданова началась болезнь. Кузнецов поставил перед его домом охрану: в тот момент ни один ленинградец не должен был заметить у руководителей проявления слабости. Кузнецов вел бюро горкома и обкома — от имени Жданова. Звонил и разговаривал со Сталиным — от имени Жданова. Сталин понимал значение этой ситуации. Понимал и Жданов.
Надо думать, не проходило все это и мимо ведомства Берии. Его глаза и уши не могли пропустить: со стен исчезали портреты вождя. Ленинградцы стали реже употреблять его имя — и устно, и письменно. Воинов подмечает: «Время голодной блокады было временем перелома в общественном сознании».
По существу, сами уникальные условия города, оказавшегося на грани смерти, ускорили процесс нравственного очищения и переосмысления ценностей. Культ, казавшийся незыблемым и неизбежным, угасал сам собой. Город явственно выдвигал из глубин иной идеал и противопоставлял его официальному. Поэт по тем временам просто кричаще подчеркивал самим названием поэмы: «Киров с нами»!!! В железных ночах у поэта Тихонова шел с ленинградцами не Сталин, но Киров.
Мог ли этого не видеть Кузнецов? А если видел, то что предпринимал? Попробуем представить себе тогдашнее его состояние... По идее, в его ситуации следовало ежели не под-
307
держивать, то хотя бы делать видимость неизменности положения вещей.
Однако не забудем: постоянное стремление к ясности. Не забудем и другое: уникальные блокадные обстоятельства, перестраивая общественное сознание, позволяли проявиться и окрепнуть независимому, побеждающему, сильному характеру. Он и был нужен, такой характер в тех обстоятельствах. Нужна была личность, умеющая принимать решения, независимо от авторитетов, расклада мнений и расстановки сил в верхах. (Собственно, лишь это и обеспечивало сохранение авторитетов и самих верхов!)
Если мы этого не забудем, то уже станет понятнее, почему Кузнецов, имевший прямой провод со Сталиным, как все, перестает упоминать его имя. Почему прекращает ссылаться на него. Почему это имя пропадает из официальных выступлений в газетах и с трибун. И почему Кузнецов цитировал Кирова. И почему в семье Кузнецовых всегда хранились фотографии Сергея Мироновича (отношение Сталина к нему для многих и тогда не было большим секретом).
Понятнее, почему. И все-таки: почему?
В нынешних публикациях о людях, так или иначе пострадавших во времена культа, по какой-то необъясненной пока причине настойчиво подчеркивается одна мысль: они были невинными жертвами произвола. В этом есть правда. Но задумаемся: доказываем с таким завидным упорством, как будто степень невинности их несколько уменьшилась после XX съезда партии.
Чего мы хотим: доказать доказанное? Совместить несовместимое?
Наверное, нет. Конечно, нет!
Ну а коли так, то не время ли прояснить, перед кем они были невинны? Перед партией и народом? Да! А перед преступниками, авантюристами и карьеристами, творившими произвол? Перед ежовыми, бериями, абакумовыми? И разве отсутствием вины исчерпывается трагизм и правда того времени.
Ведь наверняка были и те, кто не принял культ на веру? Кто не смирился с ним? Кто, наконец, сопротивлялся?
Смею думать и утверждать: Алексей Александрович Кузнецов не был невинной жертвой.
Стало быть, что же — правы авторы «ленинградского дела»? Нет, ситуация сложнее и тоньше. Он не был врагом
308
народа. Но он не был, судя по всему, и наивным человеком, призванным послушно сыграть эту роль.
«Вот что необходимо учесть, — пишет очевидец и участник событий С. Д. Воинов, — для понимания причин «ленинградского дела». Ведь его главными пунктами были: «противопоставление» Кузнецовым себя ЦК (читай — Сталину); требование большей самостоятельности в хозяйственных делах для каждой области, края; признание больших заслуг Российской Федерации; устройство выставки достижений, первых достижений восстановленного Ленинграда; а главное то, что вновь назначенный секретарь ЦК проявил самостоятельность и по-серьезному отнесся к задаче проверки бериевского министерства...
А в целом, что такое «ленинградское дело», каковы еще более глубокие причины возникновения этого и подобных «дел»? Если меня спрашивают об этом, я отвечаю: нужно было скрыть от народа истинных виновников нашего военного поражения 1941 года, когда немцы, как нож в масло, врезались в территорию нашей страны? Нужно было скрыть виновников перегибов в сельском хозяйстве, приведших к тому, что крестьяне разбегались из колхозов от нужды, от того, что продукт их труда ценился ниже его действительной стоимости? Нужно было, наконец, скрыть истинных виновников беззаконий и произвола, жертвами которого становились тысячи и тысячи людей? Вот поэтому и фабриковались такие «дела», как «ленинградское дело», «дело врачей» и еще многие другие, не получившие своих названий, которые можно назвать как «краевые», «областные», иногда даже и «районные»...».
Думается, имелась и еще одна причина. Появилась не только настоятельная необходимость переключить общественное внимание, сбросить «пар», переложить в очередной раз ответственность на плечи невинных. Появилась жгучая потребность «поставить на место» целое фронтовое поколение, вышедшее из войны победившим и прозревшим. Поколение, ценою огромных жертв обретшее нравственную силу. Поколение, предопределившее, по сути, феномен XX съезда.
Впрочем, все по порядку...
В марте 1946 года, избрав секретарем ЦК ВКП(б), нарушив традицию, Кузнецова не оставляют первым секретарем горкома и обкома, как было в случаях с Зиновьевым, Кировым, Ждановым. Одно это должно было Кузнецова насторожить (и он, как свидетельствуют очевидцы, без радости принял
309
такое решение). А имелся и другой нюанс, который мы уже называли: Кузнецова, без опыта работы в аппарате ЦК, сразу же поставили курировать кадры МГБ и МВД.
Это был второй факт, поразивший, как говорят, Анастаса Ивановича Микояна (первый — письмо Сталина, написанное «блокадному» Кузнецову). Третий факт из того же поразительного ряда: однажды, отдыхая на озере Рица, Сталин неожиданно для своего окружения поделился. Я стал стар, будто бы сказал он в приливе откровенности. И думаю о преемниках. Наиболее подходящий преемник на посту Председателя Совета Министров — Николай Алексеевич Вознесенский. А на посту Генерального секретаря — Алексей Александрович Кузнецов... Как, не возражаете, товарищи?
Никто, как говорят, не возразил. Но, надо думать, всяк, узнавший о сенсационном замысле, немедленно и догадался о его втором плане: неспроста такую идею этот скрытный человек решил обсудить гласно. По сути, если поразмыслить, назывались и объединялись имена действительно наиболее достойных и подходящих. И именно потому наиболее опасных конкурентов тем, для кого это было сознательно вслух сказано. Результат, исход был уже предсказуем. Однако не эта ли предсказуемость и укрепила дополнительно Алексея Александровича?
Получив столько подспудных предостережений, Кузнецов не стал осторожнее. Не изменил прежних привычек, даже не попробовал переломить независимый характер. Сверх того: фактически протестовал против общепринятой тогда культовой нормы. Имени Сталина в его послевоенных выступлениях не прибавилось. По-прежнему ссылался на Кирова. После войны открыто навещал тяжелобольную вдову Сергея Мироновича (это были нелегкие свидания с женщиной, потерявшей в результате смерти мужа разум). Словно демонстративно встречался с инструкторами, разрабатывал их командировки. Однажды, проводя Секретариат, с ходу разжаловал генерала, уличенного в обворовывании лагерей.
Он прослыл белой вороной. Невооруженным глазом, уже не на расстоянии, всем, кому надо, стало видно: в Москве появился настоящий кировец. Причем какой! Руководитель блокадного города, фронтовик, победитель. Продолжал укреплять свою репутацию.
Да что там репутация! Провел, как куратор, совещание работников госбезопасности, где их (!) критиковал и ставил
310
перед ними (I) новые задачи. Впечатление очевидца: совещание это было как гром среди ясного неба.
И, наконец, последняя капля. В ту пору было принято работать и по ночам, и по воскресеньям. Так вот Алексей Александрович приказал министру МГБ Абакумову привозить ему судебные дела по воскресеньям на дачу. И Абакумов возил. Возил дела пачками.
Что за дела были? По «врагам народа». В частности, 37-го года. Говорят, Кузнецов ставил перед собой цель: разобраться и с запутанной историей убийства Кирова.
Подчеркивал независимость? Стремился выяснить все, хотя бы для себя, до конца? Или уже начал бороться?
Не успел. Его противники, его враги раньше успели.
Он целует на пороге жену и детей (тут нет знака судьбы. Так они всегда делали). И, прежде чем выйти, говорит: «Сходите за мороженым. Накрывайте на стол. Я вернусь к обеду».
Он не вернулся к обеду. Он вообще не вернулся... «Согласно ордера арестован Кузнецов А. А., 1905 г.р. ...» Когда семье дали подписать опись, Галя увидела в первый раз слово «арестован» и поседела. А мама подписала демонстративно не глядя: «При обыске от арестованного и других присутствующих лиц (указать, от кого именно) жалоб не заявлено». Жаловаться некому и не на кого. Форма правильная. И соблюдена с доскональностью дьявольской: «Изъято для доставки в МГБ СССР следующее:
Ордена Ленина — 2;
Орден Красного Знамени — 1;
Орден Кутузова I степени — 1;
Орден Кутузова II степени — 1;
Орден Отечественной войны I ст. — 1;
Медали «За оборону Ленинграда» — 2;
Медаль «Партизану Отечественной войны» — 1;
…………………………………………………………….
Погоны генеральские — 7 пар;
Сапоги мужские хромовые — 1 пара;
…………………………………………………………….
Зубной порошок — 1 короб.;
Зубная щетка — 1 шт.»
От вида этого удручающего списка что-то внутри содрогается. Нет, не просто человека забирали. Уничтожали всяческий след его существования. Знак его присутствия в этой жизни, на этой земле.
311
Когда их судили, Кузнецов не каялся, и не просил прощения. Уходя, он мог чувствовать себя победителем. В последнем слове, как свидетельствует очевидец, Алексей Александрович сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает...»
А потом... Потом, ровным голосом говорит Галина Алексеевна, увозили маму. Обыск был еще более унизительным: ворошили даже детские вещи. Семья осталась с парализованной бабушкой. Как они жили и выжили, это отдельный рассказ. Искали. Писали. Ходили. По указанному в описи адресу («за всеми справками обращаться... Кузнецкий мост, 24, вход со двора»). Наконец, мама прислала письмо, другое, третье... Ни слова, как и что с ней.
Умер Сталин. Арестовали Берию.
Анастас Иванович Микоян дважды спросил Аллу: не вернулась ли мама? Вернулась она ночью, 10 февраля 54-го. Вес 48 килограммов. Белая. Шатается. Галя позвонила Микоянам. Прибежала Алла. И только в подъезде Гале призналась: «Маме не говори. Но папа у нас погиб...» Когда? Где? Галя хотела искать, Анастас Иванович не посоветовал: «Если не хочешь потерять здоровье, не делай этого. Ты его не найдешь».
Мама заговорила только после XX съезда. Рассказала... Как сидела сначала в одиночке. В кандалах.
И как потом сидела в одной камере с Галиной Серебряковой и Лидией Руслановой. Они имели право получать хоть небольшие, но посылки. Поддерживали ее, как могли, плавлеными сырками.
Потом вызвали двоих, двух жен — Вознесенскую и Кузнецову. Они шли и не знали, что уже не жены, а вдовы... Им сказали про освобождение. Правда, они это вначале как дежурное издевательство приняли. Но стали собираться...
Хотя, конечно, там люди были разные. Один следователь орал на нее на допросе, делал все, как полагалось. А потом включал радио на полную громкость и говорил: «Зинаида Дмитриевна! Не верю я в то, о чем вас спрашиваю!» А еще был надзиратель, много лет спустя бросился он радостно к ней из троллейбуса. Хотела остановиться. Заговорить. Но не смогла. Прошла. Только поздоровалась.
О муже всегда повторяла, как заклинание: «Я Ленюшку не хоронила. Нет.» Или еще: «Мне все время кажется, что ему дали просто какое-то большое задание... Вот зазвенит когда-нибудь звонок. И он придет...»
Когда умер Сталин, Галя плакала навзрыд. А ей говорят: чего ты ревешь? Теперь, глядишь, все разъяснится! И действительно, Анастас Иванович собрал их на даче и сказал: ваш отец никакой не враг народа. Это вы знайте!
Вот так все и разъяснилось.
312
Пройдет время и Кузнецова официально реабилитируют. И установят мемориальную доску в Москве, на доме по улице Грановского, где Алексей Александрович жил последние годы.
Галина Алексеевна держит в руках описи. На них, четкими цифрами, номер ордера на арест отца. А мне кажется, она думает сейчас и о тех, кто был до этого номера— 1075 и после него...
А еще я вспоминаю последнюю фразу из знаменитого письма. Знал ли многоходовый ум, какую пронзительно-правдивую мысль он тогда выговаривал? Ведала ли начинавшая очередную игру беспощадная рука, какие пророческие горькие слова она выводила? Эти слова, равно как и цифра 1075, врезаны, вколоты, врублены в семейную память навеки.
— Алексей, Родина тебя не забудет! — написано было в письме рукою Сталина. И этот след из памяти, и это свидетельство из истории не изъять. Оно не подлежит изъятию.
313
«Социалистическая индустрия», 1988, 8 июля
Леонид Сотник
Когда такие люди...
...Я знаю —
город будет,
Я знаю —
саду цвесть,
Когда такие
люди
В стране
в советской
есть!
Трудно встретить человека, который не помнил бы и не любил эти звонкие строки поэта. И все же, несмотря на огромную популярность стихотворения, едва ли десять человек из ста знают его точное название. Их было два — старое и новое, точное и приблизительное. Под новым названием оно вошло в школьные хрестоматии, в полное собрание сочинений Маяковского, вышедшее в свет в 1940 году, и только после XX съезда КПСС ему было возвращено прежнее.
Судьба стихотворения чем-то сходна с судьбой человека, чья фамилия вынесена поэтом в заголовок. О нем стоит рассказать особо.
Шел 1929 год — самый противоречивый год нашей истории. Росли леса новостроек, тарахтели трактора, распахивая столетние межи. Реальный энтузиазм народа еще не успел вступить в конфликт с реальной политикой сталинской диктатуры.
Маяковский был захвачен общим энтузиазмом. Он много ездил по стране, и каждая такая поездка рождала десятки новых произведений.
И все же публикацию в ноябрьской книжке журнала «Чудак» за 1929 год стихотворения «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» можно было бы истолковать как отступление поэта от утвержденной им самим же традиции: он описывал город, в котором не был, события, свидетелем которых ему не довелось стать. Поэт даже не пытается скрыть это, вынеся в заголовок фамилию человека, поставившего «литературное сырье». На самом же деле никакой ломки традиции не произошло. Просто сказалась одна из черт поэ-
314
тического дарования Владимира Маяковского, подмеченная литературоведом В. Катаняном: «...сила воображения, восприимчивости, заинтересованности, творческого темперамента была так огромна, что и услышанное или прочитанное тоже подчас вызывало самые подлинные молнии в вечно насыщенном электричеством творчества воздухе.
Поразительный пример тому, — продолжает В. Катанян, — стихотворение, которое называется «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», целиком написанное, что называется, с чужих слов.
Помню этот житейский рассказ только что приехавшего из Сибири товарища И. П. Хренова (одного из работников Кузнецкстроя) за обеденным столом в Гендриковом переулке, рассказ о трудностях, мокром хлебе, простейшей крыше над головой, о миллионе вагонов стройматериалов, которые будут превращены в город... И помню потом свое безграничное удивление, когда вдруг увидел в журнале, как горячо сплавились эти детали с чувством и воображением поэта, какую новую бессмертную жизнь обрели они в лирическом стихотворении».
Фамилия Хренова после тридцать седьмого года из заголовка была изъята. Но после того, как стихотворению было возвращено его подлинное имя, в начале шестидесятых годов мы вместе с библиографом Александром Зелепугиным решили узнать побольше о человеке, которого Маяковский сделал своим соавтором, и начали поиск документов и свидетельств о нем — от Прибалтики до Чукотки.
Часть материалов нам удалось опубликовать тогда же, но многое, самое интересное и значительное, осталось в архиве — ни одно издательство не взяло на себя смелость издать книгу о связях великого пролетарского поэта с «репрессированными». Рукопись была утеряна.
И все же попытаемся восстановить то, что можно. Судя по архивным данным, Иульян (Ян) Петрович Хренов родился в 1901 году в текстильном поселке Лежнево. В 1917 году возглавлял молодежную большевистскую организацию в Коврове. В 1918 году его приняли в партию. В семнадцать лет он становится секретарем Лежневской райпарторганизации. В годы гражданской войны — на партполитработе в 13-й и 14-й армиях. В 1921 году участвовал в подавлении кронштадтского мятежа, служил порученцем у Павла Дыбенко.
В 1922 году работал секретарем президиума союза металлистов, а затем был призван в Красный Флот, на Балтику.
315
После учебы в Высшем инженерном морском училище демобилизовался и вернулся на работу в союз металлистов. Оттуда часто выезжал в Кузнецк, в командировки. А одно время в качестве экономиста работал на Кузнецкстрое постоянно.
Из письма жены Хренова Марии Ильиничны Хреновой (6 июля 1964 г.):
«С Маяковским и Бриками Ян Петрович познакомился в 1926 году в Москве, куда он приехал из Ленинграда после его демобилизации с флота за голосование за оппозицию.
Владимир Владимирович и Брики очень хорошо относились к Яну Петровичу. Он был человеком большой воли и большого ума. Не представлял себе жизни без партии. Узнав, что члены оппозиции ведут недостойную борьбу с партией, группа товарищей, в том числе и Ян Петрович, подали заявление, что они отказываются поддерживать оппозицию. За это их объявили предателями.
Ян Петрович был просто влюблен в Маяковского. Часто бывал в гостях в Гендриковом переулке... Владимир Владимирович с большим интересом относился к его рассказам о строительстве этого гиганта. Вот так после одного из приездов родилось стихотворение «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое».
В донецком партархиве нам удалось разыскать «Дело Хренова». Из него мы узнали многое. От первых шагов по земле донецкой до последних... В постановлении бюро Сталинского обкома КП(б)У от 19 июля 1932 года есть краткая запись: «Утвердить т. Хренова помощником секретаря обкома т. Акулова». А пролить свет на то, как Акулов и Хренов оказались в Донбассе, помогла все та же Мария Ильинична:
«Об отношениях Яна Петровича с Акуловым могу рассказать вам следующее. Акулов был направлен Центральным Комитетом партии для работы в НКВД СССР в 1931 году, и через ЦК были ему направлены в помощь несколько товарищей, в том числе и Ян Петрович. Ян Петрович работал в экономическом управлении НКВД. Это, наверное, записано в его деле.
В 1932 году Ивана Алексеевича Акулова направили на работу в Донбасс первым секретарем обкома, и он, естественно, захотел взять с собою людей, с которыми работал и которым доверял. Знакомство Хренова с Акуловым началось с работы в НКВД».
В 1933 году Хренов был назначен заместителем директора строящегося машиностроительного гиганта — Краматорского машиностроительного завода.
316
Об административной деятельности, как теперь принято говорить, этого удивительного человека нам удалось собрать немало сведений. Тридцать лет прошло после ареста Хренова, а люди помнили о нем с чувством благодарности и боли. Перебирая сейчас наши записи шестидесятых годов, даже затрудняюсь решить, что именно, какой документ стоит предать гласности. Ну вот хотя бы рассказ кузнеца П. Романенко:
«Среди тех, кто особенно заботился о культуре производства и быте рабочих, хочу назвать Хренова. Его усилиями был перепланирован и посажен парк имени Пушкина, открыты новые и окультурены старые сады социалистического города. Началось озеленение улиц, разбивались цветники.
Хренов чутко относился к просьбам застройщиков. По характеру он был добр. Умел слушать посетителей и всегда делом отзывался на их просьбы.
Как-то на собрании зашел разговор о бюрократизме и его ликвидации в управлении нашего завода. Обращаясь к работникам, он сказал примерно так: «Смелее откликайтесь на все обращения рабочих. Просто от ничего трудящиеся на приемы не ходят. Если рабочий идет на прием в управление завода и часами ждет своей очереди, значит, он нуждается в помощи, она ему нужна и ее следует оказать».
Рабочие уважали его как чуткого и внимательного товарища. Он был всегда в гуще народа. Часто приходил и к нам в кузнечный цех. Изучал наши условия труда. Гонял снабженцев за несвоевременную выдачу спецовок и особенно рукавиц. Много помогал молодым кузнецам. По его предложению были открыты четырехмесячные курсы кузнецов паровых молотов. Для молодых рабочих он организовал хорошее общежитие. Следил и требовал хорошей организации общественного питания. Мне приходилось к нему обращаться из массы, и он всегда откликался делом».
Мне думается, найдется немало руководителей, которые позавидуют такой характеристике из уст рабочего.
В феврале 1935 года И. П. Хренов был назначен директором Славянского изоляторного завода.
Из письма М. И. Хреновой:
«Какие ему были предъявлены обвинения при исключении из партии, я знаю. Хочу вам сообщить (и это верно), что арестован он был по заявлению секретаря Славянского райкома партии Емельянова. Мне об этом сказали в Наркомтяжпроме. Там была копия заявления, которую Емельянов писал на имя Ежова.
317
В мае 1956 года меня вызвали в МВД СССР и спросили, почему я не хлопочу о реабилитации мужа. Следователь, который работал над архивом НКВД, разобрался в деле и убедился, что Хренов честный человек. Через две недели он был реабилитирован. Следователь подтвердил, что заявление Емельянова с резолюцией Ежова есть в деле.
Завод, на который пришел работать Ян Петрович, был в ужасном состоянии. В течение года он стал краснознаменным.
И вдруг почему-то испортились отношения с Емельяновым... Испортились они после того, как тот весьма прозрачно намекнул, что ему нужно пианино для дочери. Хренов удивился, но Емельянов сказал: у тебя большой директорский фонд, это не будет чувствительно для завода. Ян Петрович категорически отказался, и отношения резко изменились.
После ареста Хренова я с детьми вернулась в Москву. Очень тепло меня принял Акулов. Успокаивал, говорил, что Ежов разберется в этом деле, что уверен в невиновности Яна Петровича. Но не прошло и двух недель после моего визита, как был арестован сам Акулов. И больше о нем я ничего не слышала, так как жену его тоже арестовали».
В архиве сохранились документы, проливающие свет на так называемое «дело Хренова». Есть в нем и донос Емельянова, и постановление бюро Славянского горкома партии об исключении из партии Хренова, как «врага народа». Есть письмо Хренова на имя первого секретаря обкома партии С. Саркисова, в котором Ян Петрович доказывает свою невиновность, и равнодушная резолюция Саркисова: «Оставить без внимания». Есть и другие документы той страшной поры и среди них... покаянные письма клеветника Емельянова и старого большевика Саркисова с резолюциями на них: «Оставить без внимания». Оба вскоре были арестованы и в тридцать восьмом году расстреляны.
В чем же обвиняли Яна Петровича Хренова? Да в чем угодно. Даже в том, что ссужал деньгами из своей зарплаты заболевших рабочих. Некий Красюк, выступая на партсобрании, жаловался, что «вскрытие личности Хренова представляло довольно трудную задачу. В то время Хренов, стремясь создать себе дешевый авторитет, часто давал сам лично взаймы рабочим денег до получки, чем подрывал авторитет завода». Всякое лыко шло в строку. Вспомнили, конечно, и ленинградскую оппозицию, и связь с «врагами народа».
Из решения бюро Сталинского обкома КП(б)У от 7.10.1936 г.:
318
«За время работы в Славянске с апреля 1935 года по август 1936 года Хренов несколько раз ездил в Москву и Ленинград. Во время этих поездок он встречался с контрреволюционером Примаковым».
Из объяснительной записки И. П. Хренова:
«В декабре 1935 года ездил на фарфоровые заводы Ломоносовский и Пролетарий, где находился в порядке обмена опытом — был три дня.
В то же время был на квартире у Примакова, вернее у Бриков, которые живут вместе с Примаковым. Семью Бриков я знаю свыше девяти лет, и с Примаковым познакомился в 1931 году у Бриков в Москве.
Будучи в Ленинграде, я пришел к ним. Также бываю у них в Москве, когда они там живут».
Последнее архивное свидетельство о Хренове — это сообщение о том, что Особым совещанием при НКВД СССР от 7 июня 1937 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы. И краткая приписка: умер в заключении.
Ну что ж, бывает, что ошибаются и архивы. И. П. Хренов был действительно осужден, но пробыл в заключении в два раза больше положенного срока. А умер, можно считать, почти на воле.
Так уж сложилось у нас, то ли в застойные времена, то ли до них, что рассказ об очередной жертве сталинских репрессий обычно обрывался на дате ареста. Дескать, раз человека арестовали, то дальше и говорить не о чем. Лагерная жизнь — дело известное, для всех одинаковое. Ничего в ней не может быть ни интересного, ни поучительного, ни, тем более, героического. Мне хочется нарушить эту заповедь. В моих руках 30 тетрадочных страничек, исписанных крупным, уверенным почерком, — примечательный и замечательный документ не только своего, но всех времен. И особенно времени нашего — времени возрождающейся из пепла правды, времени раздумий о нравственных началах, о силе духа, о богатствах человеческой души. Ценен этот документ еще и тем, что проводит жесткий водораздел между сталинским произволом и подлинным духом большевизма. Автор этих воспоминаний — Михаил Евсеевич Выгон, отбывавший вместе с Хреновым заключение. В шестидесятых годах он возглавлял в Магаданской области знаменитый Билибинский золотой прииск.
«С Иулианом Петровичем Хреновым я познакомился в июле месяце 1937 года в пересыльной камере Бутырской тюрьмы (Москва). За полчаса до этого расписался в ведомости, что мне
319
объявлено: решением Особого совещания за антисоветскую агитацию и неверие в правильность действий органов осужден на 5 лет с отбыванием в режимных лагерях. И когда я с молодой наивностью (мне тогда было 22 года) спросил, за что, ведь я же за Советскую власть готов жизнь отдать, надутый и уверенный в своей важности лейтенант (примерно моего возраста) ответил: «Расписывайся, паразит, и не выкобеливайся. Ты не у следователя на допросе». Подавленный несправедливостью, я вошел в битком набитую камеру и прислонился к закрывшейся за мной двери. Сколько так простоял — не помню, очнулся от мягкого, полного сердечности возгласа: «За дверь не удержишься. Пропустите ко мне молодого товарища». Меня подталкивали к бледному, красивому, улыбающемуся, среднего роста человеку, который с трудом поднялся с нар мне навстречу. Мне шепнули: «Это наш староста».
Так мы познакомились и впоследствии стали друзьями одной беды и одной веры.
В камере мы прожили 9 дней. Он много рассказывал о себе... У Яна Петровича было больное сердце, и он удивлялся, что его сердце стойко держалось во время диких допросов, но оно не выдержало при известии о смерти обожаемого им Орджоникидзе. Он вспоминал, что Серго превратил здание Наркомтяжмаша в неприступный уголок Москвы от ОГПУ и старался задерживать в этом здании крупных хозяйственников.
Второй сердечный удар был при известии о расстреле группы маршала Тухачевского. Был арестован и уничтожен друг Хренова талантливый военачальник, настоящий герой-коммунист Примаков. Это были черные, мрачные дни. Что делается? Куда смотрит Сталин?
И в это время в камере Хренов прочитал цикл лекций о легендарных стройках пятилетки — Магнитострое, Кузнецкстрое, Новокраматорском машиностроительном заводе в Донбассе. Страна под руководством партии строила социализм, трудовой героизм народа был необычаен, и активный строитель коммунист Хренов читал в прозе поэму о превращении своей страны в индустриальную державу. И мы забывали в эти часы о своем горе. Это были славные годы первых пятилеток.
На девятый день пребывания в камере пересыльной тюрьмы при утренней проверке был зачитан список человек на пятьдесят и велено было приготовиться с вещами. Значит, этап. Но куда? Никто не знал. Однако все оживились, а Хренов воскликнул: «Не унывайте, ведь мы едем на работу».
Не стану описывать трудный, полный унижения этап. Останов-
320
люсь только на одном незабываемом моменте. Темной дождливой ночью наш товарный состав, состоящий из 30 вагонов, битком набитых людьми, остановился на большой станции в глухом тупике. Когда рассвело, примерно в пять утра, открыли вагоны и приказали выходить. Шел мелкий дождик. Под строгим контролем с большой сворой собак нас повели. На подходе к станции прочитали — «Красноярск». Прошли не на вокзальную площадь, а каким-то переулком, и вдруг команда: «Остановись!» Мы не верили своим глазам: впереди, по обе стороны дороги молчаливо стояло огромное количество людей. Конвой растерялся, но так как середина улицы была пустой, нас повели. А с тротуаров в нас летели пачки папирос, буханки хлеба, куры, свертки с продуктами... Это был настоящий шквал сочувствия, причем все делалось молча, без единого возгласа. Кричал только конвой и лаяли собаки. Так продолжалось до самой бани, причем, заметьте, в седьмом часу утра. Эта молчаливая демонстрация ошеломила нас. Шедший рядом со мной Хренов ничего не ловил, что бросали из толпы, молчал и все время смотрел на людей. В бане он мне сказал: «Пойми, мы не враги народа и никогда ими не будем. Где бы мы ни были, в каких бы условиях ни были, будем трудиться».
На 33-й день мучительного пути мы прибыли во Владивосток. Нас привели в палаточный городок, расположенный в сопках, огороженный несколькими рядами колючей проволоки, с вышками через 50 метров. Тут нам такая была встреча... Начиная от ворот, большие толпы «друзей народа» (бандиты, воры, уголовники всех мастей) с воплями: «Бей троцкистов, шпионов, врагов народа», с матерной руганью проводили нас до бараков. Эта дикая глупо организованная инсценировка даже развеселила нас. Ян Петрович перефразировал выражение Ленина, что если тебя ругает враг, значит, ты прав. Помню, говорил: «Ну, если нас ненавидит такая шпана, значит, те, кто ее учит этому, не на высоте». И он предложил организовать группу из самых физически сильных молодых людей для внутренней охраны барака от этих подонков. Ночью непрошенные гости пришли, были достойно встречены и, будучи по натуре трусливыми, оставили нас в покое. Многие из них впоследствии были в бригадах Хренова, моей и других и стали порядочными людьми, настоящими тружениками.
В пересыльном лагере мы иногда имели возможность читать газеты и вместе со всеми радовались большим успехам в промышленном строительстве и с тревогой и возмущением следили за действиями немецких фашистов. Было грустно чи-
321
тать в газетах о непрерывных разоблачениях «врагов народа». Неужели Сталин не понимал, что не могли все секретари обкомов и горкомов, председатели исполкомов, командиры воинских частей, директора заводов и фабрик, сотни тысяч коммунистов и беспартийных быть врагами партии и Советской власти?
В августе 1937 года нас погрузили в трюмы корабля «Кулу», и мы поплыли на неведомую, страшную по рассказам, необжитую Колыму — край, где героическими усилиями геологов экспедиции Билибина, Цареградского, Раковского и других было найдено несметное богатство — золото. После 11-дневного плавания корабль пришвартовался к примитивному пирсу бухты Нагаева. Нас выгрузили и повели вдоль скалистого крутого берега вверх, к будущему городу Магадану.
Магадан — это вечный памятник его первым строителям — заключенным, коммунистам и беспартийным мрачных 1937— 1938 годов. Здесь нас встретили как рабочих, нужных людей для большой стройки и для добычи крайне нужного стране золота.
Дальстроем в то время руководил несгибаемый большевик, легендарный командир латышских стрелков, один из первых комендантов Кремля, человек большой души и сердца Эдуард Петрович Берзинь. Собравшаяся вокруг Яна Петровича группа обратилась с просьбой к командованию лагеря направить нас всех вместе, как целую бригаду, на один из новых приисков. Бригадиром мы избрали Хренова.
На прииске «Партизан» мы выгрузились из открытых автомашин... Зачислили нас в седьмую роту, где командиром был уголовник-рецидивист. Окружившие нас старые лагерники настойчиво стали расспрашивать о новостях с «материка». И тут я впервые увидел настоящих троцкистов. Их было четыре человека, стояли они особняком. Один из них вплотную подошел к нам и громко с издевкой спросил: «Что, товарищи сталинцы, получили от своего мудрого бати благодарность за верность и преданность? Так вам и надо». Мы были ошеломлены, но тут послышались возгласы: пошлите их... Нам объяснили, что это настоящие троцкисты из пятого барака. Пишу об этом штрихе потому, чтобы бытующее сейчас мнение, что 100 процентов арестованных в те годы были невиновны, неверно. Были тогда и настоящие враги нашего социалистического строительства. Они и в лагере вели антипартийную работу, стремясь поколебать ленинскую убежденность. Но их было мало, очень мало по сравнению с подавляющим большинством невинно
322
осужденных — коммунистов, комсомольцев, беспартийных советских людей.
Для нас само собой разумеющимся было то, что отвечать на все вопросы товарищей будет Ян Петрович Хренов. Никогда не забыть эту импровизированную беседу-доклад. У меня было впечатление, что выступает докладчик ЦК партии. Он говорил о самоотверженном труде советских рабочих, о преданности партии и Сталину... Да, и Сталину. Он и все мы, несмотря на обрушившиеся на нас несчастья, продолжали его боготворить. На наших глазах этот диктатор с замашками восточного злодея прямой наводкой с мстительной жестокостью стрелял по своим, злодейски уничтожал лучшие кадры партии, Красной Армии и всего народа, а мы продолжали верить в его непогрешимость, прозорливость, мудрость и верность ленинизму. Мы продолжали писать ему непрерывным потоком письма и жалобы, рассказывали правду о засевших в органах негодяях и предателях, пытались раскрыть глаза своему вождю.
Разве могли мы знать, что осуществлялась его идея расправы. Одно было ясно и непререкаемо: продолжала существовать и руководить страной многомиллионная Коммунистическая партия. Наша Родина успешно двигалась вперед по пути к социализму. И это историческое движение ничто не могло остановить. Были ослаблены только темпы этого движения.
Благодарные слушатели в лагерной среде готовы были носить Хренова на руках. Перед ними появился человек, такой же, как они, но не убитый, не опустошенный, а полный веры в жизнь. И он призывал здесь со всем советским народом строить социализм. Он так и говорил: «На любом клочке земли мы остаемся советскими людьми».
Никто не заметил подошедшего человека с палочкой в руке. Он стоял и вместе со всеми слушал Хренова, а потом воскликнул: «Ну, комиссар, говоришь хорошо. Вот и поведешь завтра свой отряд в бой». Это был, оказывается, начальник прииска Рябов (он впоследствии дорого заплатил за свое гуманное отношение к заключенным и понимание истинного положения вещей, разделив участь осужденных).
До глубокой ночи продолжалось сооружение примитивных палаток, на 100 человек каждая. Доски, предназначенные для нар, мы разместили на земле и улеглись на них.
В 6 часов утра был дан сигнал подъема, примерно через полчаса пришел наш «командир» роты и повел на завтрак. Затем строем пошли к трибуне. На ней стояло все начальство.
323
Начальник прииска произнес напутственную речь, начав ее словами:
— Рабочие, для завершения годового плана по металлу не хватает девяти процентов. Остались считанные дни до зимы. Необходимо как следует поработать.
Мы поняли слово «рабочие», как слово «товарищи». Ни разу в своей речи Рябов не упомянул слово «заключенные» и дал отчетливо понять свое отношение к нам.
После развода начальник оперативного отдела лагеря (ему, очевидно, доложили о беседе Хренова) дал приказ: «Хренов, останься», и Яна Петровича с нами на работу не пустили.
Свою палатку мы обустраивали после работы без него. На вопросы, где он, нам отвечали, что политруки в лагере не нужны. Хренов был направлен в роту усиленного режима, и больше месяца мы о нем ничего не знали. Затем лагерная сенсация. Все удивлены, и прежде всего начальство: РУР (рота усиленного режима) впервые почти в полном составе вышла на работу. Здесь нужно учесть, что в РУРе находились отъявленные бандиты, воры «дворянского происхождения», короли блатного мира, которые считали, что работа — удел только «фраеров». Да, выход на работу этой банды был действительно исключительным событием.
Хренова посадили туда с одной целью: отдать на растерзание «врага народа», а этот человек своим обаянием, силой воли, убежденностью, тактом и культурой сумел подчинить себе анархический сброд. То, что не удавалось никому, удалось Хренову. Он вывел их на работу, и, к изумлению всех, они выбрали его, а не короля «блатарей», своим бригадиром.
За этот подвиг Хренова освободили из РУРа и дали индивидуальную работу — машиниста небольшого парового котла (с помощью пара проходили скважины в горных породах).
Начались холода. Палатка наша укрывала только от снега. Круглосуточно топили четыре бочковых печи, но они, конечно, не могли спасти от 50-градусных морозов. Мы группировались возле них и сидя спали. Очень многие не выдерживали, заболевали, плюс свирепая цинга...
Смертность была ужасная, нужно было что-то немедленно делать. Лес был в 10—15 километрах от лагеря. Хренов уговорил Рябова нарушить инструкцию и пустить нас после работы на заготовку леса. И вот наш лагерь превратился в стройку при свете костров. Новый год мы встречали в утепленных бараках.
1938 год был самым мрачным и жестоким для Колымы.
324
Начальник Дальстроя Берзинь, ряд руководящих партийных работников были оклеветаны и обвинены как японские шпионы. Берия сфабриковал повстанческую организацию на Колыме. Берзинь и другие руководители Дальстроя были уничтожены. Начальником Дальстроя был назначен комиссар госбезопасности Павлов, начальником лагеря — палач, настоящий убийца Гаранин. Весь 1938 год известен на Колыме под черным названием гаранинщины. Все заключенные по статье 58-й были взяты на строгий режим, материальное стимулирование отменено. Начало поощряться самое жестокое обращение. В лагерях были созданы тюрьмы.
Гаранин взял курс на физическое уничтожение коммунистов. Немало расстрелял он лично, как садист и изувер. На разводах ежедневно зачитывались списки расстрелянных, так называемых участников колымской повстанческой организации.
В то время дикого произвола надо было иметь нечеловеческую выдержку, неиссякаемую веру в победу ленинской правды, чтобы не поддаться чувству озлобленности против самой Советской власти. Велика заслуга Яна Петровича Хренова, что сотни советских людей сохранили веру. Он убеждал: все творимое здесь — чуждо социалистическому строю, противоречит политике Коммунистической партии. Это дело рук истинных врагов народа, и они будут разоблачены.
В январе 1939 года меня, бригадира лучшей бригады забойщиков (план мы выполняли на 200 процентов), арестовали вместе с лучшими рабочими и посадили в тюрьму смертников под названием «Серпантинная». Нас обвинили в том, что якобы мы хорошей работой прикрывали свои враждебные взгляды и подготовку к бунту. Все старые колымчане хорошо знают этот мрачный каземат, откуда, как правило, не возвращались Гаранинская банда уничтожила там много тысяч преданных Советской власти людей. Спаслись мы только потому, что арестовали самого Гаранина как «подосланного диверсанта». Начальника нашего расстреляли, нам в порядке профилактики добавили еще по 10 лет.
С тех пор я с Хреновым расстался до 18 июня 1944 года, но знаю, что в годы войны он жил и работал на прииске «Туманный».
В 1941 году, в начале войны, на прииске «Туманный» создали особо режимный лагерь. Там собрали всех осужденных Особым совещанием по литеру КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) и лиц немецкой национальности. Культурно-воспитательный отдел северных лагерей издавал
325
один раз в неделю печатную многотиражку для заключенных. Из этой газеты я узнавал о жизни и деятельности Яна Петровича Хренова. Его бригада работала в шахте, проходящей под руслом речки (об условиях работы в этой шахте я узнал подробно, когда прибыл на прииск «Туманный» в 1944 году уже вольнонаемным начальником смены). Хренов — человек с больным сердцем, прошедший через горнило немыслимых испытаний, пошел на самый трудный участок, где разрабатывалось месторождение с самым богатым содержанием золота, организовал бригаду и под сплошными потоками ледяной воды вместе со всем народом ковал победу. Его бригада была инициатором трудового соревнования. На протяжении двух лет занимала первое место в этом соревновании и прославилась на всю Колыму. О нем писали очерки в лагерной печати, как о герое труда, и фамилию этого большевика с ярлыком «врага народа» знали многие тысячи людей и следовали его примеру.
В мае 1944 года, несмотря на категорический запрет Берии освобождать лиц с литером КРТД, Хренова освободили, как отмечалось в приказе, за трудовую доблесть и выдающийся личный вклад по добыче золота в годы Великой Отечественной войны.
Надо отдать должное тогдашнему начальнику Дальстроя генерал-лейтенанту Никишову за этот благородный приказ, за то, что поверил Хренову и потом, предоставив ему возможность проявить свой талант организатора на руководящей хозяйственной работе на приисках «Штурмовой» и «Туманный».
На этом заканчивается письмо Михаила Евсеевича Выгона, присланное автору этих строк в 1965 году. Думаю, что этот честный и безыскусный рассказ ни в каких журналистских комментариях не нуждается. Правда, иной раз Михаилу Евсеевичу изменяла память, и он неточно указывал имена и даты. На самом деле Хренова освободили немного раньше, чем считал М. Выгон. Об этом свидетельствует его последнее письмо.
«Колыма, ночь с 17 на 18 декабря 1943 года.
Дорогая Леночка!
Сегодня, вернее час тому назад, мне сообщили, что приказом по Дальстрою я освобожден.
Доченька моя, родная, я получил твое письмо. Спасибо тебе за твою учебу и работу. Я знаю, что трудно вам сейчас без меня, но сейчас трудно всей нашей Родине. Это тяжелое время переживем. Мне, родная, было очень тяжело и физически
326
и, особенно, морально, но я старался трудом и упорством пробить путь к своему освобождению. Было очень трудно и тяжело, были минуты, когда я опускал в отчаянии руки, в сплошной темноте совершенно теряя перспективу, но я перебарывал эти настроения, брал себя в руки и опять старался вновь и вновь доказать, что я не чуждый человек, что я верный сын своей Родины и что все свои силы и умение в пределах возможного я отдаю делу Родины.
Что бы я ни делал, я всегда думал о вас, мои любимые, зная, что вы там, далеко-далеко, также думаете обо мне, любите меня. Вот те невидимые нити, связывающие меня с вами за тысячи километров. Всегда поддерживали меня письмо, телеграмма, придавали мне больше бодрости и силы.
Ленуся! Где я буду работать и кем, я не знаю, но все, что смогу, будет мною для вас сделано. Мне писали бабушка и Таня, что ты очень плохо себя чувствуешь. Береги себя, родная. Тяжелое время позади, впереди ждут лучшие времена.
Обо всем буду писать подробно.
Целую крепко, крепко,
твой папа».
Это его последнее письмо. Через три года он умер — сердце не выдержало. Умер на руках у Марии Ильиничны. Последние годы они жили вместе. Мария Ильинична не долго раздумывала после освобождения мужа: связала узлы, подхватила детишек и отправилась на Колыму.
327
«Неделя», 1988 №22
Олег Темушкин, доктор юридических наук, заслуженный юрист РСФСР
На кого они равняются!
Знамя консерваторов.
Правосудие без правосудия.
Преодолеть отжившие стереотипы!
Гарантии: демократия, гласность,
верховенство закона.
Сейчас часто можно услышать: «альтернативы перестройке нет». Действительно, она и только она способна разобрать завалы, образовавшиеся на историческом пути социализма вследствие его деформации и извращений. Чем больше людей осознает это, тем динамичнее, эффективнее пойдет намеченный партией процесс.
Но многих и многих от реального участия в ней отпугивает пока отсутствие надежных гарантий необратимости этого процесса. Для общественного сознания таким гарантом мог бы стать закон, который обезопасит нас от бюрократа, зажимщика критики, чинуши и мстительного начальника. Но, увы, никакой, даже самый хороший закон не в состоянии обеспечить желаемого, если исполнять его и следить за его исполнением будут непригодные к тому люди с отсталым, консервативным правосознанием. Люди, психология которых была взращена и сформировалась во времена беззакония и произвола, правового нигилизма, а если говорить о правосудии, то и обвинительного уклона.
Поэтому мне представляется необходимым поразмышлять о ряде волнующих общество правовых проблем.
Три года перестройки потребовались нам, чтобы понять: намеченные реформы невозможны без преодоления идеологии, политики, социальных стереотипов, связанных с культом личности. Точнее, культом Сталина. А это не одно и то же.
328
Ведь речь идет не просто о возвеличивании той или иной фигуры, а о присущих Сталину коварстве и мастерстве интриги, патологической подозрительности и жестокости. Культ Сталина связан не только с физическим уничтожением тысяч и тысяч людей, но и с отравлением сознания народа, внедрением самых отрицательных качеств, не свойственных ему: подозрительности, страха, чувства безысходности, а отсюда — равнодушие к делу, бездумное повиновение командному окрику, неуверенность в себе, то есть те пороки, которые питают ныне механизм торможения.
Культ Сталина явился трагедией для истории нашей страны. А когда 11 лет спустя его пост занял другой «верный ленинец» — Л. И. Брежнев, трагедия превратилась в фарс.
Противники перестройки видеть всего этого не желают и, как бы они свою позицию ни объясняли, продолжают быть единодушны в своей приверженности к сталинизму, пусть и с оговорками — поклоняются своему идолу.
Вот почему так жизненно необходимо преодоление тех установок, стереотипов, которые сформировались при Сталине и напрямую связаны с его именем.
Что это означает применительно к праву?
Культ личности, как явление реакционное, антидемократическое, мог существовать и даже процветать только в условиях полнейшего беззакония и произвола, удушения прав и свобод человека, низведения его до уровня безгласного «винтика», лишенного какой бы то ни было инициативы, исполнителя чужой злой воли.
Сталин отлично понимал, что сохранение такого противного человеческому естеству режима, тем более в обществе, где почти все искренне верили в то, что строят социализм, возможно лишь методами ничем не ограниченного произвола, отказа от демократических гарантий. Иначе говоря, полного бесправия, концентрации всех видов государственной власти, в том числе законодательной, исполнительной, судебной, в руках командно-административной системы, во главе которой стоит самодержавный владыка, «вождь всех времен и народов».
Действенным инструментом, с помощью которого столько лет поддерживался созданный Сталиным антидемократический режим, стали карательные органы. Те самые органы, которые мы теперь привычно называем правоохранительными. Но они не охраняли закон и права человека, не обеспечивали строжайшее соблюдение социалистической законности, а карали! Ко-
329
го? Того, на кого укажет перст вождя, его ближайшего окружения, многочисленных приспешников на местах.
Сталинизм отбросил такие демократические принципы уголовного судопроизводства, как состязательность сторон, гласность и непосредственность, объективность и всесторонность расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, право обвиняемого на защиту, наконец, презумпция невиновности — это подлинно животворное достижение передовой мысли, выстраданное человечеством, завоеванное в кровавой борьбе со средневековым произволом и беззаконием, знаменующее собой веру в добропорядочность человека. То, без чего правосудие есть просто фикция.
Страшную роль в этом деле сыграло, в частности, постановление Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке ведения дел по подготовке или совершению террористических актов», согласно которому срок следствия сокращался до 10 дней, обвинительное заключение обвиняемому положено было вручать за одни сутки до суда, в котором дела рассматривались без участия сторон (то есть без адвоката и прокурора). Обжалование приговора и подача ходатайства о помиловании не допускались, приговор к высшей мере наказания должен был приводиться в исполнение немедленно. Аналогичный порядок вводился 14 сентября 1937 года и по делам о вредительстве и диверсии.
Был реанимирован и принят на вооружение карательных органов давно забытый в цивилизованном мире принцип «признание вины — царица доказательства».
«Теория» ярко осветила путь следственной практике, обосновав применение физических и психических методов воздействия на арестованного, в том числе пыток, провокаций, всякого рода изощренных издевательств, унижающих человеческое достоинство, убивающих волю к сопротивлению.
Самым сокрушительным ударом по правовой системе было низведение суда до положения бесправного придатка предварительного следствия. Ему было доверено лишь скреплять своей подписью произвол, творимый «органами», тем самым легализуя его. Ведь «органы не ошибаются».
«Главной обязанностью суда при рассмотрении уголовных дел, — пишет Председатель Верховного Суда СССР В. И. Теребилов, — стало не самостоятельное и независимое исследование предъявленного человеку обвинения, а лишь определение размера наказания. Оправдание или возвращение дела на новое расследование в те годы расценивалось как чрезвычай-
330
ное событие. Обвинительный приговор выносился по 99 % всех уголовных дел».
Здесь нелишне вспомнить, что при В. И. Ленине в период гражданской войны и послевоенной разрухи даже революционные трибуналы, не говоря уж об общих судах, не «пекли» так приговоры. Оправдательный приговор был нередким явлением — без этого правосудие просто немыслимо.
В период культа Сталина пренебрежение судом выражалось и в том, что в стране широко применялись методы внесудебных репрессий. Так называемые «тройки», «двойки», Особое совещание при НКВД СССР принимали постановления, заменявшие приговоры. На их основании сотни тысяч осуждались и наказывались заочно и без приведения мотивов и доказательств. Просто по списку. Материалы XXII съезда КПСС свидетельствуют, что по инициативе Кагановича эти несудебные органы получили право применять к обвиняемым смертную казнь. Учитывая большое количество дел о так называемых государственных преступлениях, по предложению Молотова наказание производилось по спискам.
Еще большим издевательством, но уже не только над правосудием, а и над здравым смыслом, общечеловеческой моралью и нравственностью, над самой идеей законности было игнорирование и злостное неисполнение вынесенного судом и обретшего силу закона оправдательного приговора.
24 июля 1941 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР в составе председательствующего диввоенюриста М. Р. Романычева и военюриста I ранга А. А. Чепцова и В. Д. Буканова (мы должны знать эти имена — ведь судьи совершили акт гражданского мужества, что было далеко не безопасно по тем временам) вынесла оправдательный приговор в отношении Михаила Сергеевича Кедрова, старого большевика, соратника В. И. Ленина и Ф. Э. Дзержинского, бывшего члена Коллегии ОГПУ. Суд признал, что выдвинутые против Кедрова обвинения во враждебной деятельности, измене Родине вздорны и необоснованны. Согласно закону Кедров подлежал немедленному освобождению из-под стражи, что, однако, не произошло. Меркулов, тогдашний нарком внутренних дел, обратился к председателю Верховного Суда СССР И. Т. Голякову с требованием опротестовать неугодный НКВД приговор. Последовал мотивированный отказ. Но и это не спасло Кедрова. 25 октября 1941 г. он был расстрелян по личному указанию Берии, у которого были старые счеты с Кедровым. Еще в двадцатые годы, будучи членом Коллегии ОГПУ и помогая че-
331
кистам Закавказья, Кедров уличил Берию, работавшего тогда в ЧК, в беззакониях и поставил вопрос о его отстранении. Увы, Берия остался тогда на месте. А обид, как известно, он не забывал. Мстил жестоко.
Одновременно с Кедровым вообще без всякого приговора были расстреляны еще 24 человека, незаконно арестованных и находившихся под следствием. Имена их уже были названы мною по телевидению, в печати. Но я вновь назову отдельных из них, видных военачальников, павших не на поле брани при защите Родины (вспомним — враг стоял под Москвой), а от рук сталинских палачей: среди убитых дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Я. В. Смушкевич, Герой Советского Союза, генерал-полковник Г. М. Штерн, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации П. В. Рычагов, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации И. И. Проскуров, заместитель наркома обороны, командующий войсками Прибалтийского Особого военного округа, генерал-полковник авиации А. Д. Локтионов, заместитель начальника Главного артиллерийского управления НКО СССР, генерал-майор Г. К. Савченко, начальник Военно-воздушной Академии, генерал-лейтенант авиации Ф. К. Арженухин.
Размышляя о перестройке правовой системы, при которой полностью исключались бы не только подобные вопиющие факты, но и вообще случаи любого отступления от закона, перестройке, которая обеспечит реальные гарантии защиты прав и свобод личности, мы в первую очередь должны все поставить на свои места. Суд, который в силу самого своего устройства — коллегиальности, выборности, гласности — является наиболее демократичным органом, должен занять принадлежащее ему по праву положение на вершине пирамиды правоохранительной системы. Ведь только суд правомочен вершить правосудие: признавать человека виновным или невиновным, назначать наказание или объявлять оправдательный приговор.
Что же касается предварительного следствия, то оно потому так и называется, что выводы его о виновности лишь предварительны. Его задача — собрать материалы, имеющие отношение к расследуемому преступлению, соблюдая при этом объективность и всесторонность, а затем, при наличии оснований, передать эти материалы на рассмотрение суда.
Об этом приходится говорить вновь и вновь, поскольку не всем это нравится, и, более того, мы продолжаем встречаться с попытками прямого противодействия возвращению
332
«пирамиды» в нормальное положение. Чем не механизм торможения в правовой сфере?
Напомню опубликованную в «Советской культуре» за 29 марта с. г. статью «Коллекционеры и милиционеры». В ней рассказывалось о произволе и беззаконии, допущенных отдельными работниками московской милиции. При расследовании уголовных дел на коллекционеров антиквариата ими применялись недозволенные методы, воспринятые из арсенала тридцатых годов: необоснованные задержания, незаконные обыски, всякого рода провокации. Невиновные люди длительное время незаконно содержались под стражей. И что характерно: наиболее ретивый исполнитель всех этих «художеств», капитан милиции М. Хоркин, творил беззаконие под портретом Сталина, который красовался в служебном кабинете ГУВД Мосгорисполкома. Я уверен, что бравый капитан милиции под сенью вождя ощущал себя, конечно, не работником советской милиции, а «сотрудником органов» образца тридцатых годов, чем, видимо, и вдохновлялся.
Что Хоркин, к сожалению, не одинок, видно хотя бы из недавно изданного приказа Генерального прокурора СССР «О строжайшем соблюдении законности при применении ареста в качестве меры пресечения и продления сроков содержания под стражей на предварительном следствии».
«Некоторыми недобросовестными следователями, — говорится в этом документе, — задержания и аресты используются как средство незаконного воздействия на граждан с целью получения нужных показаний, так называемых «явок с повинной», не имеющих ничего общего с предусмотренными законом случаями добровольного обращения граждан о совершенных ими преступлениях...
Некоторые прокуроры лично не допрашивают подозреваемых, обвиняемых перед дачей санкции на арест, когда того требует закон... , не проверяют возможности самооговора... Некритическая оценка материалов следствия, данных о личности подозреваемого, обвиняемого способствует принятию незаконных решений об аресте невиновных лиц».
Откуда все это? Не из тех ли времен, когда приговор выносился по списку, когда данные следствия сомнению не подвергались, а главным способом изобличить подозреваемого были незаконные аресты?
От всего этого перестройка начала очищать правоохранительные органы. В частности, в упомянутом приказе объявлена бескомпромиссная война всем этим беззакониям. Всерьез
333
ведется работа по подготовке субедно-правовой реформы. Сформулированы предложения о месте предварительного следствия, выведении его из-под административного подчинения прокуратуре, дабы обеспечить бескомпромиссный прокурорский надзор за законностью при производстве расследования, о существенном расширении функций защиты путем допуска адвоката на предварительное следствие.
Необходимо разработать и дополнительные правовые гарантии, служащие повышению авторитета суда, обеспечению его полной независимости. В частности, подумать о том, чтобы суд, поскольку он независим и подчиняется только закону, обладал правом оценки и признания незаконными актов, ведомственных инструкций, приказов и соответствующего реагирования на те из них, которые противоречат закону и даже препятствуют его реализации.
Но, вернувшись к той мысли, которую я высказал в начале этих заметок, напомню: никакой, даже очень хороший, закон не в состоянии защитить права граждан, если применять его будут негодные люди. Намечаемые изменения в правовой системе должны, разумеется, поднять как авторитет, так и ответственность кадров правоохранительных органов — судей, прокуроров, следователей, обеспечить создание необходимых условий для их работы, исключающих неправомерное вмешательство в их деятельность, особенно в деятельность судей.
Об этих переменах, которые, надеюсь, коснутся всех уровней правовой системы, и надо вести разговор. О человеческом факторе следует помнить всегда: консервативные силы, противящиеся перестройке, выбрали себе в качестве знамени Сталина.
Противостоять их идеологии, преодолеть ее можно, лишь раскрыв всю правду о преступлениях и беззакониях сталинизма.
Пусть все знают: к чему зовут консервативные силы, к какому времени обращают они свои восторженные взгляды, на кого равняются!
334
(Продолжение следует)