
ЛЕВ СЛАВИН
МОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДРУГ
Рассказы. Записки. Портреты
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1973
Художник Г.Г.Филипповский
OCR и вычитка Давид Титиевский, декабрь 2007 г., Хайфа
Библиотека Александра Белоусенко

Рассказы
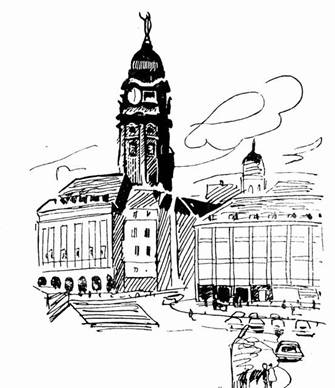
РОМАН С БАШНЕЙ
Начнем с того, что в 1970 году я прочел роман Курта Воннегута «Бойня № 5», где впервые пером писателя описана гибель Дрездена, как известно, разрушенного с воздуха американскими и английскими боевыми самолетами в течение трех суток в феврале 1945 года.
В том же 1970 году я приехал в Дрезден под сильным впечатлением от этого поразительного романа и подумал тогда, что Дрезден отныне город Воннегута, — конечно, в том смысле, в каком Петербург город Достоевского или Лондон — Диккенса.
Хотя должен сказать, что Воннегут видел не все. Он не видел, к примеру, печку, сделанную из полутонной фугаски. Признаться, и я не встречал раньше такого своеобразного использования боевого оружия. В дни войны мне приходилось видеть в окопах светильники из гильзы отстрелянного патрона крупнокалиберного пулемета, пепельницы из поршня подбитого танкового мотора, табакерки, выточенные из плексигласового купола рухнувшего самолета.
Февраль — месяц холодный. Дрезенская жительница, молодая девушка Марта Д., тщательно присматривалась к валявшимся вокруг фугаскам. Она не кинулась на первую попавшуюся. У нее был богатый выбор. Она нашла наконец бомбу с довольно прилично сохранившимся корпусом. Марта не смогла бы сказать, на какой улице она сделала эту приятную находку, потому что после ночи 13 февраля улицы в Дрездене потеряли свои очертания. Марта превратила эту бомбу — одну из тех, что убили в течение трех суток 135 тысяч ее сограждан, — в печь. Она спасла Марту от замерзания и сохранила ей жизнь. Я видел эту бомбу-печь в музее истории города Дрездена. Я с уважением смотрел на столь человеколюбивого убийцу.
Я видел также Марту Д.
Приехав в Дрезден, я поселился в реставрированной гостинице «Гевандхауз», возле ратуши, на цоколе которой видны шрамы от разрыва фугаски. Их ничего не стоило бы заделать, но они сохранены как память о тех диких февральских ночах.
Ратуша увенчана высокой башней, и надо сказать, что она страшно привязалась ко мне, как если бы она была не башней, а собакой. Ее старое каменное тело застилало почти весь проем моего окна, и с течением времени мне стало казаться, что она живет у меня в комнате. Поначалу было похоже, что она пытается занять должность моего личного будильника. Этот грандиозный будильник обладал двумя голосами. Четвертушки часов отбивал Маленький колокол, очень, по-видимому, довольный своей самостоятельностью. Целые часы отбивал сам Большой колокол. Все же Маленький успевал забегать вперед со своими высокими, звонкими взвизгами. А потом комната, улицы, город наливались глубокими голубыми вздохами Большого.
Когда я уходил из гостиницы, Башня следовала за мной с какой-то поистине собачьей верностью. И когда я оглядывался на нее, она мне дружески подмигивала своим большим сияющим глазом, на котором так отчетливо обозначалось время. Впоследствии я уехал из Дрездена в Эрфурт, мне было жаль расставаться с Башней, и я думал, что ей тоже жаль, и смутно надеялся, что она последует за мной.
Правда, в Эрфурте тоже оказалась башня. Но какая-то угрюмая, неуклюжая. И хотя она лезла из кожи (вероятно, правильнее сказать: лезла из камня), чтобы понравиться мне, в ней не хватало изящества, я сказал бы — светскости, и уж никаких даже намеков на остроумие, которым так отличалась та, в Дрездене. Кроме того, в дрезденской была мощь, недаром она устояла, когда американцы и англичане с неба испепеляли город, и она пережила Гитлера, а до него Вильгельма II, и помнила еще то время, когда Германию называли страной философов и музыкантов.
Да, это у меня был, можно сказать, настоящий роман с Башней.
Однако я хочу рассказать и о другом романе, — нет, не моем, а Марты Д., — что и выполню несколько позже.
Когда я выходил из отеля «Гевандхауз», я попадал на маленькую площадь, посреди которой бьет небольшой круглый фонтан. Она так соразмерна, эта площадь, так спокойна, так уютна, что кажется мне знаком этого города, наиболее чистым выражением его живой, элегантной сущности. Я не уставал приходить сюда, иногда я присаживался на борт тихо журчащего фонтана, и неторопливое, благоухающее спокойствие Дрездена входило в меня.
Дрезден называют Северной Флоренцией, иногда Немецкой Флоренцией, вероятно, потому, что здесь много искусства. По правде сказать, здесь, конечно, нет ничего равного флорентийской площади Синьории, и я ни за что не уподоблю горбатенький мост Понте-Веккьо над Арно, весь уставленный лавками ювелиров и сам словно выточенный ими, этому грохочущему железному хоботу над Эльбой, который дрезденцы самоупоение прозвали «Голубым чудом». Но все же, скажу еще раз, здесь много искусства, притом не только упрятанного в музеи, но и на улицах, площадях, фронтонах домов. Сам город — произведение искусства, и это отличает его от Берлина, от его холодной величественности. Дрезден живет своей — для себя — вкусной жизнью.
И это несмотря на то, что в центре города мрачнеют руины Королевского замка и церкви Фрауенкирхе. Из пустых оконных глазниц прет бурьян, какой-то невероятно пышный, древовидный, что ли. На втором этаже господь бог вырастил целый сад сорняков, устрашающую флору развалин... Но даже и это зрелище не в силах опровергнуть мягкую прелесть Дрездена. Может быть, это происходит потому, что трудно старому русскому солдату, оборонявшему свою землю в двух мировых войнах от вражеских нашествий, трудновато, говорю, ему чрезмерно расстраиваться при виде следов былых сражений на чужой земле.
Кроме Марты Д., у меня не было в Дрездене знакомых, если не считать рафаэлевской Мадонны Сан-Систо, более известной под прозвищем Сикстинская Мадонна. Но она так изменилась, товарищи! Летом 1955 года я видел ее в Москве, в Музее имени Пушкина. Почему-то там она казалась шикарней, даже словно бы и моложе. Такова, очевидно, сила первого впечатления. А здесь, у себя, она словно опустилась, потускнела, как это бывает с некоторыми женщинами, когда они возвращаются из гостей домой, стирают слица румяна, перепрыгивают из вечернего туалета в затрапезный халатище и погружаются в кухонные заботы, даже не очень стесняясь присутствием посторонних — в данном случае папы Сикста VI, святой Варвары и целого сонма чистеньких, благовоспитанных ангелочков.
Марта Д. была одной из немногих уцелевших жительниц Дрездена. Спасло ее, собственно говоря, то, что утром 13 февраля она поехала провести денек в предместье Дрездена — Вайсер Гирш. Погнала ее туда усталость. Усталость от войны. Правда, война долго щадила Дрезден. Его ведь ни разу не бомбили, и поэтому туда сбежалось множество народу со всей Германии, — конечно, главным образом женщины, старики, дети. Еще инвалиды, которых тошнило при воспоминании об окопах. И еще раненые, их здесь кое-как заштопывали, чтобы поскорее отправить обратно на фронт. Но пока что они резво притопывали за дамочками, и это от них тоже, и от дрезденского многолюдства, и от надоедливых поисков еды, и от мыслей о том, «что же, в конце концов, будет со всеми нами», бежала Марта Д. в хвойную тишину Вайсер Гирш (что означает Белый олень), сейчас слегка припорошенную негустым снегом.
Здесь она увидела заколоченный ресторан, телефонную будку с оторванной трубкой, отель, превращенный в госпиталь. На теннисной площадке был выстроен барак, где выдавали продукты по карточкам. Маленький кинотеатр был открыт, но он пустовал — всем надоели военные кинохроники. Кирха, стоявшая в самом парке, была закрыта, и непонятно, ведется ли в ней служба.
По аллее медлительно шагал худой старик в хорошо сохранившемся демисезонном пальто и широкополой бархатной шляпе, из-под которой торчали большие прозрачные уши. Шею его обнимал твердый стоячий воротничок— для военного времени довольно чистый, — охваченный широким старомодным бантом. Старик торжественно нес свое значительное лицо с трагически изломанными бровями. Толстая нижняя губа его, несколько отвислая, шевелилась, словно он про себя сочинял стихи на ходу. Марте показалось, что он похож на капризного льва. Ей шепнули его имя: Гергарт Гауптман, знаменитый писатель. Он приехал сюда потому, что Дрезден и его окрестности — единственный тихий уголок во всей Германии.
Марта пошла за писателем как завороженная. Она знала, что хотя он остался в Германии, но не осрамил себя прислуживанием нацистам. Набравшись храбрости, она подошла к нему.
— Господин Гауптман... — сказала она. Машинальным жестом воспитанного человека старик приподнял шляпу. Ветер тотчас взметнул его седую гриву.
Глотнув слюну, Марта преодолела спазму робости и продолжала:
— Я играла фею Раутенделейн в вашей пьесе «Потонувший колокол». В любительском кружке на фабрике... Ах, как это прекрасно... Простите, господин Гауптман, я просто хотела сказать, как мы любим ваши пьесы...
Гауптман наклонил голову и, как показалось Марте, внимательно и благосклонно прислушивался к ее словам. Воодушевленная этим, она решилась спросить:
— Осмелюсь узнать, господин Гауптман, вы, вероятно, сейчас готовитесь порадовать немецкий народ какой-то новой...
Она не докончила, потому что Гауптман вдруг выдвинул из крахмального воротничка свою худую, змеиную шею и резко проквакал:
— Кворракс! Кворракс! Бре-ке-ке-ке-кекс! Девушка в панике бросилась бежать.
В феврале дни короткие. Марта легла спать рано в небольшой комнатке госпиталя, куда ее впустила знакомая монахиня — сестра милосердия. Уже засыпая, Марта вспомнила, что эти странные лягушачьи звуки, которые издал знаменитый писатель, — это ведь не что иное, как реплики из «Потонувшего колокола». Ну конечно! Как она могла забыть! Их выкрикивает сказочный персонаж Водяной, обитающий на дне реки. Марта засмеялась и решила, что завтра же принесет извинения господину Гауптмапу за свое глупое поведение. Но она увидела его раньше.
Часов около одиннадцати ее вдруг разбудил глухой беспрерывный грохот. Она выбежала на террасу. Вдали горел Дрезден.
Курт Воннегут приводит в своем замечательном романе цитату из предисловия американского генерала Айры Икера к книге англичанина Дэвида Эрвинга «Разрушение Дрездена»:
«Я глубоко сожалею, что бомбардировочная авиация Великобритании и США при налете убила 135 тысяч жителей Дрездена, но я не забываю, кто начал войну, и еще более сожалею о гибели более чем пяти миллионов жизней воинов в настойчивом стремлении союзников окончательно победить и бесповоротно уничтожить фашизм».
Хорошо. Допустим. Между прочим, не мешало бы этому генералу хотя бы упомянуть и о двадцати миллионах жизней, которые положил Советский Союз в борьбе с Гитлером.
Но я сейчас о другом. Я тоже хочу процитировать и тоже англичанина — очень известного английского военного историка Фуллера, из его книги «Вторая мировая война»:
«В первую ночь (то есть 13 февраля. — Л. С.) 800 американских бомбардировщиков сбросили 650 тысяч зажигательных бомб вперемежку с четырех- и двухтонными фугасными бомбами. На следующий день американцы предприняли налет на город армадой, насчитывавшей 1350 бомбардировщиков и 900 истребителей сопровождения и повторили его еще раз 15 февраля 1100 бомбардировщиками. В это время город был наполнен тысячами беженцев, пытавшихся спастись от армий маршала Конева. Началась ужасная кровавая бойня...»
Для чего она была учинена, эта кровавая бойня? Я продолжаю перестрелку цитат. Курт Воннегут цитирует второе предисловие к книге Дэвида Эрвинга, написанное британским маршалом Робертом Сондби:
«Никто не станет отрицать, что бомбардировка Дрездена была большой трагедией. Ни один человек, прочитавший эту книгу, не поверит, что это было необходимо с военной точки зрения».
То же утверждает и цитируемый мной автор, Фуллер, даже еще более веско:
«Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило то, что союзникам якобы важно было помешать немцам использовать Дрезден, являвшийся важным узлом дорог, для спешной переброски войск с целью остановить русское наступление. Однако для того, чтобы парализовать работу этого узла дорог, достаточно было бы непрерывно бомбить выходы из города, — другими словами, блокировать город с воздуха, а не засыпать его бомбами».
Но в чем же все-таки глубинная причина этого массового убийства, превзошедшего по количеству жертв Хиросиму?
Мой Фуллер видит ее в «варварской жажде разрушения». Куртвоннегутский Сондби полагает, что «это было страшное несчастье, какие иногда случаются в военное время, вызванное жестоким стечением обстоятельств. Санкционировавшие этот налет действовали не по злобе, не из жестокости...»
А из чего?
Пока Марта Д., и стоящий рядом с ней Гергарт Гауптман, и раненые, и монахини из госпиталя, и все прочие с ужасом смотрят на горящий Дрезден, а ураган, поднятый этим ливнем взрывов, доносит к ним из Дрездена, за двадцать пять километров, обугленные клочья бумаги, и Гауптман, не отрывая глаз от этой гигантской жаровни, в которой испекались десятки тысяч людей, шепчет: «Кто разучился плакать, тот снова научился, глядя на это...» — попытаемся разобраться, где же причина этого неистового налета на беззащитный город.
Дело в том, что как раз накануне закончилась Ялтинская конференция, участники ее, руководители антигитлеровской коалиции, еще не разъехались, и Черчилль, по чьему личному распоряжению и был учинен этот террористический налет, шмякнул на круглый стол только что закончившейся конференции испепеленный Дрезден как наглядное доказательство англо-американской воздушной мощи. Ну, к тому же не пренебрег еще и тем добавочным соображением, что к Дрездену приближаются советские армии, — зачем же отдавать России целенький город, кушайте развалины...
Примерно через полгода из тех же соображений была сброшена атомная бомба на Хиросиму. Сделавший это летчик Изерли сошел с ума. Летчики, бомбившие Дрезден, не сошли с ума. Их были тысячи. Ответственность за преступление была распылена. Каждый из этих тысяч Изерли рассуждал: «Я сбросил только мой скромный бомбовый паек. Остальное меня не касается...»
С Мартой Д. и ее мужем я познакомился в кафе на площади Альтмарк. Я присел на свободное место за их столиком. Марта узнала во мне русского, мы разговорились, и она рассказала мне свою историю. Позже я был у них в их квартирке, в одном из новых домов на Ленинградерштрассе. Муж работает в строительном комбинате. Это спокойный, любезный толстяк, который обходится без шеи. Большая курчавая голова его сидит прямо на массивных плечах, и он вращает ею, словно она насажена на невидимый стержень. Его хобби — сочинение афоризмов. Он записывает их в тетрадь. Я списал некоторые из них, чем доставил ему большое удовольствие:
«Каждую минуту надо быть гениальным».
«До открытия Америки перед европейцами не стояла проблема, как бросить курить, ибо табак был впервые ввезен из Америки».
«Немцы не только фашисты и антифашисты. Как и во всем мире, были и просто обыватели, которые ради выгоды готовы стать либо ангелами, либо чертями».
«Зубные врачи искажают наши лица».
«Когда обезьяны научатся писать, они начнут с пародий».
«Гитлер добывал больше стали, чем Сталин, а победил Сталин».
«Все мы бывшие дети».
«Когда говорят о ком-нибудь, что ничто человеческое ему не чуждо, то порой имеют в виду, что ему не чуждо как раз ничто животное».
«Самая банальная вещь на свете — смерть. По банальности она может сравниться только с рождением».
Однако уцелев в Дрездене во время февральской бойни и не замерзнув благодаря печи-бомбе, Марта Д. едва не погибла в мае 1945 года от руки нациста.
Когда передовые советские части подходили к Дрездену, навстречу им вышла группа антифашистов во главе с профессором Р. Фетшером. Они вышли приветствовать войска, освобождающие их от нацистской тирании. В этой группе была и Марта Д. Фашистские подонки, притаившиеся в развалинах, стреляли им в спину. Профессор Фетшер был убит. Марта спаслась.
Ее сыну Вальтеру сейчас двадцать четыре года. Только недавно Марта открыла ему тайну его рождения. Она показала мне фото его отца. С полинялого снимка глянуло на меня скуластое лицо младшего сержанта инженерно-технических войск Семена Халютина. Нос короткий, глаза маленькие, да еще щурятся. Но, может быть, в прищуре и таится обаяние этого некрасивого лица, полного доброты и удали. То был счастливый, стремительный роман. Они решили пожениться немедленно после победы. Семен Халютин был убит миной, разорвавшейся под его руками, когда он разминировал здания побежденного Берлина.
Вальтер похож на отца: тот же короткий, как бы еще не вполне сформировавшийся нос, те же чуть прищуренные глаза, то же открытое, веселое лицо. Когда Вальтер узнал, что его отец русский, он был потрясен. Он не поверил в его смерть. Он вбил себе в голову, что настоящая фамилия его отца не Халютин, а Ханутин. До сих пор на одной из колонн дворца Цвингер в Дрездене видна надпись, сделанная когда-то советским сапером:
Музей
проверен.
Мин нет.
Проверял
ХАНУТИН
И Вальтер поехал в Россию искать отца. Он вообразил, что этот Халютин-Ханутин страдает от невоплощенного чувства отцовской любви. Бродя по Москве, он был уверен, что отец и он не раз сталкиваются в уличной толпе, может быть, соприкасаются локтями и расходятся, не узнав друг друга. Но хотя Вальтер и не встретил отца, он нашел нечто для него не менее важное: в душу к нему хлынула Россия. Да, Россия с ее лесами и широкими поймами, с ее болями и надеждами, иконами и луноходами, с ее добродушием и щедростью, и Достоевским, и Василием Блаженным, с ее беспечностью, и ухарством, и терпеливостью, с ее ржаным хлебом с розовыми пятнышками тмина, страшно вкусным, с Инной Чуриковой, московской Жанной д'Арк, вдохновенной русской мужичкой, о которой Вальтер подумал, что повзрослей она столетия этак на два, она стала бы боярыней Морозовой, а в XIX веке — Софьей Перовской, а в войну — Зоей Космодемьянской…
Курт Воннегут вспоминает в своем романе, что президент Трумен, сбросив на Хиросиму атомную бомбу, заявил:
«Японцы начали войну нападением на Пирл-Харбор. Они получили стократное возмездие».
А вот Дрезден отомстил своим убийцам тем, что возродился. Это тоже возмездие, и в нем есть благородство. Быть может, это единственная достойная человека форма отмщения. Самые руины среди возрожденного города как бы говорят: всякое злодеяние не только отвратительно, но и бесполезно.
Вот почему вместо разочарования жизнью, которое ощутил здесь Курт Воннегут, я, бродя по Дрездену, по его радостным улицам, словно прорубленным в огромном кристалле света, ощутил очарование жизнью. Мне не хватило рук, чтобы обнять на прощанье каменный торс моей милой старой Башни. Я только помахал ей рукой, и она подмигнула мне своим сияющим глазом совершенно по-заговорщицки.

КОНЦЕРТ
1
Работа подходила к концу.
В последний раз вспыхнули сказочные голубые зарева электросварки.
Коля Косовицын снял шлем и оглянулся.
У сварочных автоматов еще работали. Коля пошел туда, громыхая по стальным плитам, разложенным на полу для сварки. Его небольшая фигурка даже в мешковатом комбинезоне выглядела ловкой.
О Коле Косовицыне говорили только хорошее, но всегда в уменьшительной степени: «крепенький», «умненький», «ладненький». Действительно, все в нем было невелико, но скроено чисто. Глазки живо ходили под тонкими бровками. Подбородок маленький, но отлично вылепленный. Глядя на Колю, думаешь: «Малый хватает, быть может, недалеко, но сильно»...
Он остановился возле Вениамина Орликова. Веня тщательно вымеривал расстояние от стыка двух листов до рельсиков, по которым ходит автомат. Добившись строгой параллельности, он поднял лицо.
Черты его крупны. Большой рот сложен энергично и насмешливо. Брови подняты высоко. Выражение силы и мечтательности.
Он присыпал будущий шов флюсом, желтовато-серым, как древесные опилки. Потом включил ток. Маленький автомат покатился по рельсикам. Он доходил Вене до щиколотки. Это было похоже на игрушечную железную дорогу. Веня следовал за аппаратом, большой и могущественный, точно Гулливер в стране лилипутов. С электрода, как чернила с вечного пера, стекал огонь.
Коля смотрел на автомат с жадностью. Он даже сделал глотательное движение, словно у него действительно текли слюнки. На лице его — чистая, беспримесная зависть.
Да, он завидовал! Не потому, что его труд «ручника» был шумней и грязней. Коля не боялся никакой работы. Но этот маленький чудесный аппарат, чистый и тихий, почти разумный, казался пришедшим из будущего. Он убыстрил работу вчетверо. Он развенчал ручных электросварщиков, как пневматический молот — кузнецов, экскаватор — землекопов, подъемный кран — грузчиков, автомобиль — ямщиков. Он казался гонцом из века коммунизма, старшим братом межпланетных кораблей. Да, тут есть чему позавидовать!
Но автоматов, или, как их прозвали рабочие, «тракторов», покуда на заводе не много. И не кто иной, как сам Коля Косовицын, настоял, чтобы один из них был передан Вене Орликову.
— Что же, ребята, я сам горюю по «трактору», — заявил он месяц назад на летучке сварщиков, — но я же вижу: на автоматы мы должны бросить наших лучших передовиков.
— А я что, не передовик? — крикнул с места Сережа Сучилкин.
— Ты? — сощурился Коля. — Ты передовик тире лентяй. Не ершись, Сергей, ты же только на штурмовщине вылазишь к концу квартала. Как это у тебя там называется? «Дни высокой цикличности»? А Венька во как работает! У меня, товарищи, нет милых. А что, разве я сам не управился бы с «трактором»? В механизме его я все чисто понял. Потому что до меня техника всякая доходчива. Тем более — я человек терпения. Но, прямо сказать, разве меня можно приравнять к Веньке? Он сварщик ровный, ученый, лютый. Одним словом, профессор своего дела. Извините, больше говорить нечего, слова не клеются.
— Ну, это, я считаю, неверно, — сказал Веня, встав со стула. — Как раз на автомате может работать каждый. Даже ученик. Недели две получишься...
Коле это сравнение с учеником показалось неуместным.
После летучки отношения между тремя друзьями охладились. Сережа Сучилин из цеха вскоре ушел. Говорили о нем, что и вечерний техникум он бросил. Его только и видать было на собраниях, где он бойко ораторствовал. Веня Орликов по вечерам исчезал, у него подошли зачеты в музыкальном училище. В общем эта тройка, когда-то неразливанная, постепенно разбрелась по разным путям. Все трое жалели об этом. И Колино предложение провести сегодняшний вечер вместе было встречено хорошо.
Веня кончил работу и собрал инструмент. Коля нагнулся и уважительно пощупал шов, покрывшийся шлаковой коркой, свежепропеченной, выпуклой, цвета дубовой коры.
— Доломит, верно, кладете в шихту? — спросил он тоном знатока.
Теперь он понимал, что прав-то был Веня: работать с «трактором» не в пример проще.
Веня вытирал концами свои длинные, сильные пальцы.
— И доломит, — сказал он, — и графит, и кварц, и марганец... Так ты освободился на сегодня?
— А как же, — сказал Коля радостно, — с мастером я утрёс...
— Не утрёс, а утряс, — поправил его Веня. — А где Сергей?
— Будет ждать нас возле Дворца культуры. Мировой фильм — «Первый бал». Я вчера смотрел.
Коля замолчал, увядая под пристальным взглядом Орликова.
— Я лично иду в консерваторию, — сказал Веня, отвернувшись.
— Музыка? — вежливо и кисло осведомился Коля.
У себя, в десятом классе вечерней школы, Коля шел первым по химии, физике и математике. На уроках литературы ему было скучновато. Музыка, как и стихи, казалась ему несущественной, каким-то баловством, которому иногда почему-то привержены и неглупые ребята, — например, Веня.
Гораздо больше расположения было у Коли к кино, которое он помещал в одном ряду с пивом, футболом и прочими развлечениями мужчины в свободные от работы часы.
— Эх ты, кремень-мужичок, — сказал Орликов с сожалением.
— Да брось ты! — торопливо заговорил Коля.— В чем дело? Давай рванем на концерт. Не знаю, как Сергей. В общем, столкуемся. Там, между прочим, в фильме, тоже музыка, одна певица так дает жизни...
2
К Дворцу культуры вела широкая аллея. Коля Косовицын шагал между липами. Он приоделся. Веня и Сережа были городские ребята, москвичи. Коля приехал из деревни. Правда, тому уже немало времени, но летний отпуск он проводил в колхозе, обычно во время уборки, и оттуда, из родной Ольшанки, он вывез свой идеал щегольства. Черные, в полоску штучные брюки были заправлены в русские сапоги и франтовато пузырились над приспущенными голенищами. Тесный пиджачок с узким перехватом в талии плотно обтягивал торс. Шея голая. Из-под маленькой круглой кепки, сделанной на заказ у кустаря, спускался на лоб роскошный чуб.
Когда Коля приходил в гости к Вене, отец Венин, старый вальцовщик листопрокатки, оглядывал Колю и говорил с притворно восхищенным видом:
— Ц-ц-ц! До чего шикарный, спасу нет!
Коля краснел, но не сдавался.
Сейчас он шел по благоухающей аллее, бойко стуча каблучками по асфальту. Он с удовольствием посматривал на цветущие липы, а иные, не умеряя шага, похлопывал по шершавым стволам с белыми подтеками извести. Многие деревья были посажены им лично — нынешней весной Коля включился в бригаду по озеленению района. И сейчас во взгляде его светилась хозяйская гордость: «Черт побери, а здорово мы переделали наши улицы!»
Ему казалось, что улицы переменились только в самое последнее время, когда были высажены липы и проложена линия троллейбуса. Коля был так юн, что память его простиралась не далее чем до середины второй пятилетки. Он не застал ни деревянных хибарок, ни вечно разбитой булыжной мостовой, ни огромного пустыря со зловонной свалкой. Все это он видел только на старых фотографиях в читальне Дворца культуры и ощущал как седую древность.
Дворец культуры выходил фасадом на небольшую полукруглую площадь. Нарядный дизельный автобус сделал крутой вираж, отчихнулся соляркой и стал против дворца. Из автобуса вышел Веня.
— Давно? — сказал он, подойдя к Коле. — А Сергей, конечно, опаздывает...
Но Сергей Сучилкин был здесь. Он стоял, прислонившись спиной к постаменту громадного уловителя, всасывавшего из воздуха фабричную копоть.
Как всегда, Сережу обступила кучка ребят, и он им что-то увлеченно рассказывал. Это был высокий красивый юноша, одетый с тем особым шиком, который выражается в нарочитой небрежности костюма. Ворот шелковой рубахи распахнут, пиджак просторный, чуть мятый, брюки ниспадают на башмаки широкими мягкими складками. Голова непокрытая, светлые волосы красивой копной поминутно валятся на лоб, что дает Сереже повод эффектным жестом отбрасывать их назад.
Увидев друзей, он быстро пошел к ним навстречу.
Они поздоровались немного смущенно, оттого что отвыкли друг от друга.
Сучилкин, самый бойкий из троих, оправился первый.
— Обсуждали с ребятами участие комсомольцев в конкурсе на рационализаторские предложения, — горячо заговорил он. — Есть у нас, понимаешь, такое явление: предложений до черта, а с внедрением отстаем. Так я что намечаю: провести собрания по цехам и выявить, где мы технически отстаем. И сигнализировать наверх. Я хочу, понимаешь, поднять это на принципиальную высоту.
В голосе Сережи Сучилкина часто слышались обиженные интонации. Сущность этой обиды такая: «Разве вы не видите, что то-то и то-то нужно сделать совершенно иначе? Почему же, черт побери, вы не делаете? Ведь это так просто: только слушайтесь меня!..»
Говоря, он повелительно и даже гневно вперял в собеседника свои круглые глаза с крупными, как у птиц, веками.
— Собрания собраниями, — сказал Веня, — а лучше всего сделать, как мы сделали у нас в цехе. Мы составили список по агрегатам и по процессам — где в первую голову нужна рационализация. И так по списку и идем. А если бросаться от одного к другому как попало, ни черта, Сергей, не выйдет. Знаешь, есть такие ребята: надкусил и бросил...
— Ты к чему это? — беспокойно спросил Сергей. Пока они говорили, Коля тихонько и, как ему казалось, незаметно для Вени и Сережи вел их к дворцу.
Однако, оказавшись у самых дверей, Веня остановился.
— Ну чего ты модничаешь, Венька? Пошли в кино,— сказал Коля.
— Да знаю я эту картину, — сказал Орликов с досадой. — Одно слово — мура...
— Целиком и полностью поддерживаю тебя, Вениамин!— горячо подхватил Сучилкин.
— Ты ж вчера смотрел ее, и вроде тебе понравилось,— возразил Коля. — Идем, Венька, да ну тебя! Обхохочешься, ей-богу! Сергей, скажи ему.
Но гибкая, схватчивая натура Сучилкина уже настроилась в лад с Веней. Сережа не помнил, что он говорил о картине вчера. Сейчас он испытывал непреодолимое желание быть заодно с Орликовым.
— Я принципиально против этой дряни! — пылко воскликнул он. — И вообще вынесу этот вопрос на правление Дома культуры, чтобы нам, понимаешь, не присылали подобной пакости. Что же это выходит, скажите на милость? Полицейские — ангелы. Капиталист — добрый дядя, с рабочими живет в обнимку и тому подобное. Какой-нибудь несознательной девчонке подобная мура вконец собьет мозги набекрень. А тебе, Николай, уж совсем не пристало санкционировать, понимаешь, подобную безобразную ситуацию!
— В чем дело? — спросил обиженный Коля. — Картину дает наше Министерство культуры, уж оно-то понимает, чего давать.
— Мало ли что! — перебил его Сергей, разгорячаясь все больше. — Водку тоже дают наши заводы. Но это еще не резон хлестать ее с утра до вечера. Ты уже не маленький. Не все же вести тебя за руку да тыкать носом, приговаривая: «Это цаца, а вот это кака». Сам соображай. И сигнализируй.
Веня одобрительно хмыкнул. Нет, нельзя отрицать. Сережка парень с головой. Вот если бы только, говоря все это, не посматривал он на окружающих так победоносно: дескать, примечаете, ребята, какие тонкие мысли водятся у меня в черепушке и до чего толково я их выкладываю…
Коля торжествовал. Он добился своего: друзья шли вместе, как когда-то, неразливанной тройкой. Но и Веня добился своего: они шли в консерваторию.
Им наскучило трястись в такси, поминутно останавливаясь у светофоров. Вечер был славный, ясный. У Кривоколенного переулка они расплатились с шофером и пошли пешком.
— А здорово! Смотри! — сказал Веня.
Коля добросовестно уставился перед собой. Ох, эти вечные Венькины причуды! Дома как дома. Направо — обыкновенные новые здания. Налево — обыкновенное метро. Из-за крыш выглядывает верхушка обыкновенной высотной стройки. Коля покосился на кафетерий, который уже зажег свою синюю неоновую вывеску на углу Черкасского переулка. Вывеска так гостеприимно подмигивала…
Солнце закатывалось где-то за Минским шоссе. Продольные улицы налились золотой пылью. Стекла в домах превратились в пылающие щиты. Посреди асфальта цвела большая круглая клумба. Вокруг нее лакированной каруселью скользили машины. Больше всего Веня любил смотреть вниз, в зеленую котловину Охотного ряда, где таким ладным, плечистым молодцом возвышался Дом Совета Министров.
— Вот это вправду красота! — воскликнул Коля, когда друзья спустились в долину площади Свердлова. — Я не знал, что тут целых два фонтана. С каких пор?
«Не два, а три», — хотел было сострить Орликов, покосившись на без умолку говорившего Сучилкина. Да удержался, чтобы не обидеть его.
— У меня нынче по три, по четыре заседания в день, — говорил Сережа. — Вас, между прочим, ребята, я там почти не вижу, никуда не годится такая практика. Да вы не обижайтесь, я вас по-товарищески бичую. Иногда, конечно, у нас наблюдается сползание в заседательскую суетню, не без того. Но ведь жизнь, как правило, понимаешь, вносит свои поправки, и я, конечно, делаю для себя ряд выводов на основе этого. Да, ребята, жизнь у меня нынче пошла волнистая...
«Вот дрозда дает!— думал Коля, смотря на Сережу с чисто спортивным интересом. — Язык у него ходит прямо как на шарикоподшипниках».
— Ты лучше расскажи, — не выдержал наконец Веня,— как ты развалил кружок политучебы.
— Я?
Сережа опешил. Но только на одну секунду. Он картинно откинул прядь волос, и слова опять быстро, вольно и ловко пошли выкатываться из его большого красивого рта:
— Ты допускаешь ошибку в отношении меня, Вениамин. Конечно, с моей стороны на определенном этапе было опущено некоторое отставание благодаря тому, что я частично не дорос. Но в дальнейшем...
...Покойное широкое здание консерватории величественно стояло в глубине двора. Со всех сторон стекалась публика. Друзья поднялись по нарядной лестнице и вошли в зал.
Веня глубоко вздохнул. В нем пробуждалось знакомое торжественное и радостное чувство.
3
Коля вслушивался в музыку со свойственной ему добросовестностью. Но звуки, которые пианист извлекал из рояля, казались ему лишенными значения. Они не складывались в мелодию. Как ни тужился Коля, он слышал только разрозненные звучанья.
С досадой вгляделся он в пианиста, высокого белокурого юношу. Казалось, тот шарит руками но клавишам как попало, не заботясь о том, чтобы людям было приятно.
Коля зевнул. И испуганно оглянулся. Он все-таки понимал, что не зря такое множество людей собралось в этом зале. Они все что-то слышат — и что-то очень важное, судя по их сосредоточенному вниманию.
Коля сделал над собой усилие и снова стал прислушиваться. Нет! Звуки по-прежнему ничего не выражали. Если бы их можно было сплести в одно целое! В этом, вероятно, вся штука. Но они не сплетались. Каждый существовал отдельно. Коля чувствовал скуку и утомление. От нечего делать он занялся наблюдениями.
Эстрада показалась ему похожей на внутренность гигантского яйца. Рояль понравился: он был отлакирован на славу, как новенький автомобиль. Он был широко открыт: распахнутое окно из мира звуков. В стороне стоял другой рояль, закрытый. Один работает, другой спит. Как солдат на войне, он привык спать в шуме.
Позади — огромный орган. Некоторые из его гигантских дудок помяты, словно их жевал слон, случайно забредший сюда из Зоопарка. Коля усмехнулся. И, чтобы скрыть это, притворно закашлял. На него зашикали, сердито оглядываясь. Коля сделал строгое лицо, подражая соседям.
Вдруг стало тихо. Коля поднял руки, собираясь из вежливости похлопать пианисту. Но тут на эстраду вышел человек с черной бабочкой под подбородком и сказал жестяным голосом:
— Часть третья: менуэт.
Коля весь напрягся. На этот раз ему удалось уловить в музыке последовательность. Он обрадовался. Звучало что-то бальное и милое. Словно танцевала пара, юноша и девушка, и они были влюблены друг в друга. Но потом все опять распалось. И сколько Коля ни собирал звуки, они сыпались из распахнутого рояля, как из лопнувшего мешка.
Он оглядел публику. Все поглощены музыкой. Впереди сидел молодой майор в щегольском кителе. Он уставился на эстраду с таким волнением, словно оттуда ему рассказывают что-то необыкновенно существенное для его жизни. Рядом женщина поднесла к глазам платок. Коля с досадой отвернулся. Он не мог отделаться от мысли, что эти переживания притворны, что люди прикидываются друг перед другом для того, чтобы подчеркнуть тонкость своей натуры.
«Форсят», — подумал Коля с раздражением и откинулся на спинку кресла. Глаза его уставились на потолок. Он с удивлением обнаружил, что потолок простеган, как тюфяк. Он стал размышлять, для чего это сделано. Глаза его слипались. Тюфячный потолок располагал ко сну. Коля таращил глаза, щипал себя, тихонько тряс под креслом ногой и чувствовал, что в промежутках между этими усилиями он все глубже погружается в сон...
В это время грянули аплодисменты.
Человек с черной бабочкой вышел к краю эстрады и металлически прошелестел:
— Антракт!
4
Они гуляли в фойе. Коля сказал:
— Ребята, видите эту женщину?
Проходила немолодая женщина с гладко зачесанными волосами и в белом отложном воротничке. Рядом — девочка, вероятно ее дочь: то же выражение доброты и задумчивости, такой же высокий чистый лоб.
Сережа живо сказал:
— Знаешь, кто это?
— Нет, да не в том дело. Она сидит недалеко от нас, и я видел, как во время концерта она вытирала слезы. Вот чудачка!
— Что же тут такого? — холодно сказал Веня. — От хорошей музыки вполне можно взволноваться.
— От музыки? — Коля засмеялся. — Брось, Венька. Ты меня разыгрываешь.
— Да вы знаете, ребята, кто она? — таинственно шепнул Сережа.
Но они его не слушали.
— Ну хорошо, допустим! — продолжал Коля. — Зачем тогда ходить на музыку, если она расстраивает?
— Да не расстраивает она! — с досадой сказал Веня.— Плачешь не потому, что она расстраивает. Бывают слезы восторга. Это трудно объяснить. Плачешь потому, что восхищен.
— Это товарищ Своеземцева. Я с ней знаком. Она знаете кто? — Сережа значительно произнес: — Инструктор ЦК!
И, тщательно нацелившись, Сережа поклонился женщине, красиво тряхнув волосами. Своеземцева удивленно посмотрела на него, но ответила.
Сережа повернулся к Коле и сказал строго:
— Ты неправ, Николай. У тебя наблюдается определенная недооценка роли музыки. В целом ряде ответственных документов четко выявлено...
Он продолжал говорить, плавно поводя рукой. Но друзья его не слушали. Да и сам он говорил без увлечения. Когда им не восхищались, он увядал. К тому же другое сейчас занимало его. Он любил антракты. Пестрое мельканье толпы, множество лиц, гул разговоров, размен взглядами, неожиданные мимолетные встречи — весь этот беспорядочный парад публики приятно возбуждал Сережу. Конечно, он возмутился бы, если бы кто-нибудь обвинил его в том, что больше, чем действие, он любит всякий перерыв в действии, заполненный шумным, показным и бестолковым снованьем по жизни.
После третьего звонка они вернулись в зал. Коля уселся на свое место, неприметно вздохнув. Еще не поздно, во Дворце культуры скоро начнется лекция о последних достижениях в телевидении, потом танцы... Но ничего не поделаешь. Придется во имя дружбы терпеть до конца.
Пианист энергичными шагами пересек эстраду и сел за рояль, взмахнув фрачными фалдами, похожими на ласточкин хвост. Человек с черной бабочкой объявил кастрюльным голосом название произведения, повернулся и тоже энергичными шагами пошел прочь.
Коля заинтересованно посмотрел ему вслед. Его занимало: неужели вся работа этого рослого малого состоит в том, чтобы пять или шесть раз в течение вечера выкрикнуть несколько коротких фраз? Коля причислил это к несообразностям странного мира музыки. А вот и другая несообразность: почему некоторые композиторы, изображенные на стенах зала, имеют такой не артистический вид? Сонные толстяки с неряшливыми бородами и в мятых костюмах, словно опухшие от послеобеденного валянья на диване? Мысли текли, лениво цепляясь друг за друга. Почему в театрах в зрительном зале темно, а в концертах светло? Почему...
И вдруг эта беспорядочная вязь мыслей резко оборвалась. Коля услышал музыку. Всю, целиком, а не отдельные звуки.
И даже не услышал, а увидел. Как это странно! Перед ним словно возникла лестница, величественная, дворцовая. На нее брошен ковер, вытканный длинными светлыми звуками. А вдоль ступеней стоят трубачи и дуют в золотые фанфары, из которых вылетают цветы, вздуваясь пестро и округло, как парашюты.
«Почему я все вижу? — Коля даже испугался. — Наверно, это только я так. Наверно, я неправильно слушаю. Наверно, другие слышат совсем другое...»
Он снова вслушался. Но понимание музыки вдруг пропало. Он уже ничего не видел. Опять отдельные звуки. Он яростно подстегивал внимание. Ага! Вот-вот! Оказывается, сначала это похоже на чтение по складам, а потом вдруг, как и в книге, видимые знаки отступают и ослепительно вспыхивает смысл... Да, это нечто парадное, праздничное, официальное…
Но сквозь эту внешнюю пышность начал постепенно и все настойчивей пробиваться другой голос — не такой нарядный, но хватающий за душу своей чистотой. Музыка как будто раздвоилась, боролись две стихии, и к этой борьбе невозможно было остаться равнодушным.
И по мере того, как второй голос, извлекаемый пианистом, казалось, из самых глубин инструмента, становился все явственней, у Коли отчетливо складывалось одно видение его детства: березка в роще подле родной деревни. Это было стройное славное деревце. Его опутывал от корней до верхушки вьющийся паразит. Своими яркими ремневидными стеблями и мясистыми, преувеличенно желтыми цветами паразит совсем закрывал скромную березку, так что можно было подумать, что он-то и есть в этой паре самое главное.
Коля покосился на Сережу Сучилкина. Тот сидел, значительно склонив голову и храня на своем крупном красивом лице важную сосредоточенность. Почувствовав Колин взгляд, он повел на него бровью. Коля быстро отвернулся, даже покраснел, словно его уличили в том, что он подсматривает в замочную скважину.
Тут музыка кончилась. Пианист снял с клавишей руки и положил их себе на колени с таким видом, будто руки были не частями его тела, а посторонними, но послушными и умными существами. В зале зааплодировали.
Коля повернулся к Вене Орликову. Он хотел рассказать, что ему открылось в музыке. Но он не мог определить словами эту новую бурю ощущений. Да и времени не было. Человек с черной бабочкой уже шел по эстраде. Коля только успел шепнуть, кивнув в сторону пианиста:
— Профессор своего дела!
На его языке это было высшей похвалой.
Веня удивленно посмотрел на Колю. Потом, видимо поняв, что он чувствует, ласково кивнул головой.
5
Коля поудобней устроил в кресле свое маленькое тело и приготовился слушать с приятным сознанием, что он уже понимает музыку. «Быстро, однако, я ее освоил»,— подумал он не без самодовольства. Он благожелательно оглядывал зрителей, ощущая себя равноправным членом этого высококультурного коллектива.
Пианист поднял руки, помедлил мгновение, потом спустил их со сворки, и они стремглав понеслись по клавиатуре.
Коля беспокойно заерзал. Он опять ровно ничего не понимал. Снова хаотическое смешение звуков. Все счастливые приобретения, которые Коля сделал в предыдущем отделении, куда-то провалились. Он снова отщепенец среди людей.
Понимание опять пришло внезапно. Снова кто-то вынул затычки из Колиных ушей. И туда хлынул удивительный мир.
Музыка была многослойной. На заднем плане гудело что-то мощное и неиссякаемое, как природа. Коля понял: это народная сила. Она стояла как стена. То были глубокие, бездонные, низкие звуки, и все остальное происходило на их фоне. А поближе звучали ясные человеческие голоса и слышались взрывы, — Коля воспринимал это как взрывы народных страстей. Все вместе складывалось в знакомый и удивительный образ революции. Коля явственно слышал шаги, — такой гигантской поступью мог шагать только народ.
Чем-то эта музыка напоминала Коле завод — могучий организм, борющийся и побеждающий.
В богатстве звуков он различал линейную глубину, как на чертеже, исполненном в перспективе. Да, там пересекалось много планов. По музыке можно было странствовать, как по просекам, удаляться, достигать опушки, склоняться над цветком и уединенно созерцать его, а потом все бросать и бежать вместе со всеми сквозь шумящее зеленое воинство напролом, к свету, брезжущему вдали, — он воспринимался как счастье. Оно близко, оно достижимо, оно сейчас придет!
Сзади зашептались. Кто-то говорил о работе левой руки пианиста, о том, что в каких-то тактах он допустил ускорение темпа. Коля прислушался: это напоминало разговоры в цехе. Но шепот мешал слушать. Он недовольно оглянулся. Две девушки, видимо студентки консерватории, виновато замолчали.
Теперь Коле пришлось опять долго сосредоточиваться, пока он вернул себе понимание музыки. Это понимание было перемежающимся. Он чувствовал себя шифровальщиком. Когда он находил ключ, музыка сразу прояснялась.
Иногда слышалась словно тонкая прекрасная речь. Иногда виделись мятущиеся облака. Деревья гнулись под ветром. И шли толпы, шли и пели. А в стороне кто-то страдал, отставший, может быть, раненый.
И все это казалось Коле неизбежным — иначе не скажешь. Он даже предугадывал дальнейшее течение звуков. Это его изумляло. «Может быть, я прирожденный музыкант?» — подумал он. Он повернулся к Вене, чтобы поделиться с ним этим открытием. Но тот слушал так сосредоточенно, что Коля не захотел отвлекать его.
Да, музыка выражала Колины мысли и чувства с такой точностью, будто он сам сочинил ее. Он поискал на стене портрет композитора. Вот он! На Колю глянуло изрытое оспой трагическое лицо, глаза, которым глухота сообщила почти безумную пристальность. «Профессор своего дела!» — с уважением подумал Коля, глядя на мучительную маску гения.
А музыка продолжала томить и звать. Она звала к борьбе, к победам. Ее литые звуки становились все радостней. Да, они казались Коле отлитыми из стали, блестящими и звонкими слитками, выколоченными из изложниц. Он слушал с расширенными от волнения глазами, зная, что обещанное счастье придет. Не может не прийти! Да, вот оно! Как хорошо! . .
6
Они вышли из консерватории. Бесшумно подкатил троллейбус. Но друзья решили сделать небольшую проминку. Ночь была теплая, луна блекла в электрическом зареве, поднимавшемся над городом.
Они постояли на обочине улицы Герцена, пропуская поток машин, стремившийся по мостовой, выпуклой и гулкой, как дека скрипки.
Коля без умолку говорил. Казалось, вся говорливость Сережи перешла к нему. Он пытался рассказать свое ощущение от концерта. Это было трудно.
Но Веня понимал его. Высокий, в просторной зеленой блузе из рубчатого бархата, крупной, размашистой походкой шел Орликов посреди друзей, держа их под руки, и довольно улыбался. Он был рад, что музыка дошла до Коли. Как всегда, не сразу, — так было у Коли и со сварочным автоматом. Но в конце концов этот маленький цепкий паренек непременно ухватывал суть, и она прочно входила в состав его душевных приобретений.
Другое дело — Сергей, тут посложнее. Веня озабоченно нахмурился и бессознательно зашагал еще размашистей.
«Сережка мельчает, — думал Веня под немолчный Колин говор, — а ведь как хорошо начинал! Все новое увлекает его сразу. Но — ненадолго. Он быстро остывает. Оттого и жизнь у него рваная, лоскутная. Прерванный на половине техминимум, неоконченные курсы мастеров, брошенный первый курс техникума... Дело дрянь! А сам-то небось уверен, что делает что-то важное. Всюду мелькает, везде выступает… Вечно занятой лентяй! Не зря на него уже косятся и в редколлегии и в комитете. Как только Сергей это учует, он прыгнет куда-нибудь в другое место... И как это мы проморгали в нем!..»
Они шли по Моховой. В воздухе запахло паленым. Здесь асфальтировали мостовую. В ночной прохладе звонко раздавались веселые голоса рабочих. Невдалеке шумели деревья Александровского сада. Сквозь зеленый разлив глядели двурогие зубцы старой кремлевской стены. Высоко в небе горела оранжевая неоновая надпись на крыше гостиницы.
Тяжелый каток уминал дымящийся гудрон, медлительно двигая огромными маслянистыми валами. На катке за штурвалом сидела девушка. И хотя она была в грубой брезентовой робе и лицо ее было в копоти, во всей ее наружности, в посадке головы, во взгляде было что-то такое свободное, изящное, гордое, что Коля, глядя на нее, даже засмеялся от удовольствия.
— Хороша! А? — вскричал он, — А музыка какая хорошая была! А? Здорово! Правда, Сергей, а?
— Я еще не осмыслил, — неохотно отозвался Сучилкин.
Орликов взглянул на него. Сережа отвернулся. Он боялся, что Венька с его чертовской проницательностью сразу разгадает, что с ним происходит. Сережу томило глухое недовольство собой. Это уже не впервые за последнее время. До сих пор он избавлялся от подобных мыслей тем, что прогонял их. Но сейчас, — оттого ли, что он провел вечер со старыми и хорошо его знавшими друзьями, а может быть, то было действие музыки, — недовольство своей жизнью, похожее на тупую, непреходящую боль, не исчезало.
Коля обеспокоенно смотрел на Сережу. Он не понимал его необычной молчаливости. «Обижен он, что ли? На кого и за что?»
Он посмотрел вопросительно на Веню. Тот улыбнулся хитро и понимающе.
Коля не отрывал глаз от Вени. Как и в той девушке на катке, было в Орликове что-то вольное, большое, щедрое.
— Кем же ты все-таки будешь, Венька, — сказал он, любуясь своим другом, — инженером или музыкантом?
— Не знаю, — сказал Веня мечтательно.
Он поднял руки, широко развел их, расправил легкие. Казалось, он обнимал Москву, страну, мир.
— Не знаю... — повторил он. — Кем захочу, тем и буду. Всем буду.

ДЕЯТЕЛИ
Днем завхоз Косицкий и садовник Павло спустились в овраг к реке. Они решили доконать акацию. Косицкий заведует кладовкой, набитой всякой всячиной, и ведет таинственные исчисления в большой конторской книге. Павло по вечерам высаживает в бесплодном песке поздние осенние астры.
Кроме того, оба они делают кучу всяких дел: собирают шишки для самовара, бьют мух, ведут сварливые телефонные разговоры с районом, подымают вечно падающий забор, в праздничные дни укрепляют красный флаг на вышке дома. Они не любят сидеть сложа руки. Их терзает жажда деятельности. Сейчас они решили прикончить акацию.
С бутылью керосина, пилой и коробкой спичек они спустились к реке.
Эта акация не давала им покоя. Она раздражала их своей ненормальностью. Они не могли вынести, что дерево росло лежа. Хоть бы оно засохло! Но нет, акация пускала ветки и толстела. А Косицкий рассчитывал бесплатно пополнить ею свои топливные запасы.
Косицкий невысок, нервен, подвижен. Желания овладевают им со страшной силой. Когда вы просите его затопить ванну или выдать ключ от лодки, он отвечает страстным: «Сейчас!» И в этот момент ему мало выполнить вашу скромную просьбу — он жаждет вас облагодетельствовать. Через минуту от этого желания не остается ничего — он увлечен новым.
Павло — усатый, медлительный, широко раздался в кости. Пиджак трещит на его толстых ключицах. Он тоже не бездельник. Но любое дело он готов бросить для хорошего разговора. Да! Присесть на корточки, разгладить усы и повести разговор о том, о сем — это большое наслаждение!
Они спустились в овраг и начали готовить казнь дереву. Оно лежало, как человек, раскинув сильные ветви и запрокинув крону.
Толстые корни его дугами выходят из земли и, деревенея, вливаются в ствол. Косицкий с минуту смотрит на эти огромные дремучие сосуды, которыми дерево перегоняет соки из земли в себя. Потом он приказывает рубить.
Павло рубит по корням. Топор отскакивает от них. Эта кровеносная система тверда, как камень.
Друзья хватают пилу. Пила визжит и отскакивает. Дерево отбрасывает от себя пилу с какой-то колдовской силой.
Кругом очень тихо. Внизу неподвижно стоит река. С луга тянет острым запахом скошенной травы. Огромное небо пусто, как вылизанное. Оно постепенно наливается темнотой. На дальнем берегу стоит стрелочник, странно неподвижный, как будто он растет из земли.
Косицким овладевает непонятная лень. Ему хочется лечь в траву и лежать, как дерево, покойно смотреть в небо. Но страсть переменять, разрушать, ошеломлять мир шумом своих дел охватывает его неудержимо. Он опрокидывает на корень бутыль с керосином.
Павло натаскивает отовсюду сухие ветки. Он делает это, почти не подымаясь с корточек, шныряющими движениями длинных рук, предпочитая, как всегда, быть ближе к земле, зеленый от вечной пачкотни в песке, похожий на большого кузнечика.
Чиркнула спичка. Со стреляющим звуком, как из пороха, взвился рыжий конус пламени, вписанный в белый конус дыма. Огонь стоит, как палка, выдавая полную неподвижность воздуха. Очень высоко, держась на тепловых струях, пляшут белые хлопья пепла.
Корни шипят. Они сопротивляются огню всей силой земляной сырости, заключенной в них. Они корчатся в огне, как толстые змеи, и шипят, но не рдеют.
Постепенно все же огонь захватывает их. Ничего не меняя в их наружности, он просушивает их изнутри, выпаривает из них студенистость, слизистость, которая и есть жизнь.
Внезапно корни распадаются. Они лопаются на куски со звуком резким и протяжным, оглашающим тихую окрестность. Издав этот звук, дерево оседает тяжелым телом, подминая под себя множество мелких мирков, которые успели под ним развиться и достигнуть благоденствия,— маленькие муравейники, гнезда личинок, колонии грибов. Обугленные артерии чадят.
Друзья молча смотрят на дерево. Они не испытывают удовлетворения. Главным образом — потому, что дерево не упало. Оно и так лежало. Не было радости падения дерева, шумной охотничьей радости, знакомой дровосеку. Нет, это было похоже на убийство спящего.
Павло обрубает ветви, потом вместе с Косицким он распиливает ствол на аккуратные чурбанчики. Скоро на том месте, где была акация, вырастает штабель ровных поленьев.
— Акация хорошо горит, — рассуждает Павло, сидя на полу в кладовке. — С чего она так хорошо горит — непонятно. Смолы в ней нет. Однако она горит себе не хуже сосны. Доброе дерево акация...
Он долго толкует, сидя на полу кладовки, а Косицкий в это время, нервно проводя рукой по закопченному лбу, смотрит в окно.
Он видит вдали дворового пса Серка. Серко дремлет, уложив на лапы свою мохнатую морду могучего добряка.
— А что, Павло, — говорит Косицкий, — не ликвидировать ли нам Серка? Мы бы сделали из него чучело, и вышло бы дивное учебное пособие для школьников. Нас же посещает масса школьников.
Он встает и берет старую двустволку.
— Теперь очень трудно с учебными пособиями, — толкует Павло, — прямо удивительно: куда подевались все те бюсты, чучелы и глобусы? Наверное, поразбивались. Просто жалость берет за пионерчиков. Доброе, доброе пособие выйдет из нашего Серка…
И, прихватив топор, он выходит вслед за Косицким.

ЖЕНА
Сипаев проснулся.
Он старался припомнить сон, а сон выцветал, испарялся, и Сипаев уже ничего не помнил — только то, что ему приснилась Наташа. Еще секунду он лежал, ни о чем не думая, охваченный чувством мучительного счастья. Сквозь неплотно смеженные веки пробивалось мерцанье ночника. Кто-то тихонько приподнялся с табуретки. Сипаев открыл глаза и тотчас вскочил.
Перед ним была Наташа.
Они стояли неподвижно, глядя друг на друга. Он не отрываясь смотрел на нее. Сила страсти или сила внезапного прозрения вдруг сделала ее красавицей. Он взял ее за руки.
— Наташа, — сказал он охрипшим от волнения голосом,— Наташенька, я не знаю, что будет через минуту. Может, я убью тебя. Но сейчас я тебя поцелую. Как будто ничего не было. Хоть одна минута счастья.
Он обнял ее. Но она вырвалась с неожиданной силой.
— А что было? — сказала она. — Что, по-твоему, могло быть?
Он тяжело дышал.
— Ну, я не знаю, — сказал он угрюмо, — ты два года у немцев. Что они тут, в Беркуте, с вами сделали…
Наташа засмеялась.
Старуха, лежавшая в углу на тряпье, удивленно посмотрела на нее.
— Я как будто чувствовала, Толя, что мы с тобой скоро увидимся, — сказала Наташа. — Как Красная Армия взяла Черноград, так я и подумала, что, наверно, мы скоро увидимся.
— Почем же ты знала, что мы взяли Черноград? Немцы, я знаю, не сообщали, — сказал Сипаев, подозрительно глядя на Наташу.
— Люди не знают, а мы знаем.
— Откуда?
— Мы московское радио слушаем.
— Иди ты!
— На прошлой неделе двоих тут поймали за приемником.
— Ну и что?
— Ох, Толя... Ты помнишь наш дуб на Пионерской?
— Конечно! Он жив? — смягчившись, спросил Анатолий.
— Повесили их на том дубу.
— Что ж ты об этом так спокойно говоришь? — крикнул Анатолий.
— А мы привыкли, — сказала Наташа.
Она отодвинула сундук, стоявший у стены. Обнажилась крышка люка. Наташа приподняла ее. Из погреба пахнуло сыростью.
— Игнатьевна, — сказала Наташа, — постережешь.
— Идите, идите, — ответила старуха, поднимаясь. Наташа засветила фонарик и шагнула вниз. Анатолий спустился за ней.
— Вот и ладно, — пробормотала Игнатьевна ему вслед. — Значит, ты свой. Это хорошо. Ты мне понравился. Жалко было бы кончать тебя.
— А то кончила бы? — донесся из темноты голос Анатолия.
— Пришлось бы, — сказала старуха простодушно. Она вынула из-за пазухи нож и принялась чистить картофель.
Маленький самодельный приемник звучал очень тихо. Все же, плотно прижав ухо к трубке, можно было расслышать хорошо знакомый голос московского диктора.
Они сидели в углу на соломе, тесно прижавшись друг к другу, и тихо разговаривали.
Ему хотелось, чтобы это состояние никогда не кончалось. Да, он сейчас в тылу у врага, и жизнь его на волоске, и он не знает, что будет дальше, — и все-таки он счастлив, как давно уже не был.
Большая жесткая рука его гладила Наташу то по голове, то по плечу, то крепко обнимала ее.
— Боже мой, — сказал он, — ты поседела.
Она еще крепче прижалась к нему. Ей хотелось целиком, с головы до ног, собраться в этой большой, жесткой и сильной ладони.
— Немножко, — сказала она. — И знаешь, когда? Когда всех вас, пленных, проводили по берегу и ты бросился в реку.
— Как? Ты видела?
— И тяжелей всего было видеть тебя и притворяться чужой. И все-таки... И все-таки я на что-то надеялась. На чудо, конечно. Положим, я знала, что ты хорошо плаваешь. Но они стреляли в воду. И вообще, если бы не надеяться, я не пережила бы этих двух лет. Надеяться и работать… В этом все... А сейчас хорошо. Почти совсем хорошо. И ты здесь. И русские так быстро идут вперед. Как ты думаешь, скоро русские освободят Беркут?
— Конечно! Если не будет задержки... Внезапно он прервал себя и спросил:
— Отчего ты говоришь «русские»?
— А как же? — сказала Наташа, не поняв.
— «Наши» надо говорить!
— Мы привыкли, — сказала Наташа и, печально улыбнувшись, добавила: — Попробуй скажи при немцах «наши»...
Они помолчали, не выпуская друг друга из объятий.
— Я все видела так ясно... И, наверно, никогда не забуду, как они уткнулись в тебя автоматами. А у тебя лицо было такое веселое, гордое, такое отважное.
— В самом деле? — Анатолий снисходительно рассмеялся.
Он подумал о том, насколько женщины разговорчивей мужчин и что при этом он все-таки ничего еще, в сущности, не знает о ее жизни за эти два года.
Он слегка отодвинулся.
— Ну, расскажи мне, милый, — попросила она, — ну, расскажи же мне, что ты чувствовал, когда бросился в реку?
— А ничего такого. Чтоб скорей все кончилось.
Она удивилась краткости и небрежности его ответа. Она объяснила это его скромностью. Она не знала, что Анатолий никогда не думает о пережитых опасностях. Что вспоминать! Давно уже — по самой профессии разведчика —риск стал его бытом, храбрость — привычкой.
— В общем как-то мне надо включаться в работу,— сказал он задумчиво.
Она поднялась и поправила волосы.
— Это не так просто, — сказала она, — мы посоветуемся.
— С кем?
— Со старухой Игнатьевной. И с другими. Со своими людьми.
— Старуха стоящая,— пробасил Анатолий.— Знаешь, я думаю, надо нам с тобой податься в лес.
— Я не пойду в лес, — сказала Наташа. Она схватила его за руку. — Ох, милый, как же я расстанусь с тобой!
— Почему не пойдешь к партизанам? — спросил он строго.
— У меня здесь работа.
Он недоверчиво посмотрел на нее:
— Какая работа?
Она размышляла вслух:
— Остаться и тебе здесь?.. Одежду подберем... Паспорт достанем через Зойку... Жить будешь у меня...
— Какую Зойку?
— Игнатьевны дочь. Она переводчица в комендатуре.
— Не понимаю... — проговорил он.
Она засмеялась:
— Ох, милый, тебе еще трудно понять. Здесь многое так перепуталось...
Он смотрел на нее, стараясь проникнуть в ее мысли. Вся подозрительность разведчика сразу вспыхнула в нем. Она продолжала размышлять вслух:
— С другой стороны, столько народу видело тебя, когда вас вели через город...
Она с гордостью посмотрела на него. Он стоял, нагнув свою тяжелую голову, полную смутных подозрений. Ей хотелось рассказать ему, как сильно взволновались люди, когда его вели через город — на казнь.
В эту минуту наверху раздались четыре стука: два длинных, два коротких.
Наташа быстро вдвинула приемник глубоко в нишу, заложила ее кирпичами и погасила фонарик.
Анатолий нащупал в темноте тяжелое полено и взял его в руку. Они стояли рядом. Свободной рукой он обнял Наташу. Они старались не дышать. Сверху слышны были шаги и голоса. Кто-то ходил по комнате и двигал табуретками. Послышался плачущий голос старухи. Анатолий рванулся вперед. Наташа вцепилась в мужа и повисла на нем.
Голоса смолкли. Хлопнула дверь. И снова раздались четыре стука, теперь все короткие. Наташа зажгла фонарик.
— Какой ты! — сказала она. — Разве можно так...
В ее голосе были упрек и восхищение.
Они поднялись по лестнице, откинули крышку люка и вошли в избу.
Старуха сидела в прежней позе, с ножом в руках над кучей картофеля. Она подняла голову. Седые космы свешивались на ее лицо. Оно показалось Анатолию еще более скорбным, чем раньше.
— Намиловались? — сказала старуха хрипло.
— Кто был, Игнатьевна? — спросила Наташа.
— Патруль. Четыре солдата. Унтер. Волостной старшина. И моя Зойка с ними.
— Они обижали тебя, мамаша? — спросил Анатолий.
Старуха поднялась. Глаза ее дико блеснули.
— Кто меня обидит? — сказала она презрительно.— Пусть молятся, чтоб я их не обидела. С Зойкой я сцепилась, чтоб она пропала, могила моей жизни.
Она задумчиво посмотрела на нож.
— Давно фрицев не было у нас в Никольском, — продолжала она. — Шукают кого-то. Не тебя ли, сынок?
Скрипнула дверь. Анатолий сделал движение.
— Спокойно, — сказала Наташа. — Нас предупредят. Вошел парнишка лет пятнадцати.
— Так то ж мой Вася, — сказала старуха.
— Снаружи кто-нибудь остался? — спросила Наташа.
Анатолий понял, что это спрошено ради него.
— Естественно, — ответил Вася рассудительно. — Народ расставлен как полагается. Докладывать будем?
— Конечно, — сказала Наташа. — Кликни Манюшу и дядю Ивана.
Манюша оказалась смешливой девушкой лет семнадцати со щеками, торчащими, как шишки; дядя Иван — крепким стариком с седыми солдатскими усами.
Все трое уселись возле Наташи и начали шептаться. У Анатолия был острый слух. Он слышал горячий, задыхающийся шепот Манюшки:
— Из Кривой Нивы, из Редькина, из Дубков, из Малиновки немцы увозят военное имущество, все, все, как есть.
— Куда?
— Говорят, в Германию.
— Вдоль железной дороги... — принялся шептать дядя Иван.
Наташа остановила его и сказала, обращаясь к старухе:
— Игнатьевна, достань, сделай милость, на нашем складе цивильный костюм для... — Она остановилась на мгновение и продолжала, кивнув в сторону Анатолия: — ...вот для товарища Валентина.
— И прихвати, Игнатьевна, бритву и помазок, — вмешался дядя Иван. — Так ведь, Наталья Ивановна?
— Так, — подтвердила Наташа, улыбнулась и посмотрела на Анатолия.
Он смотрел на нее с нежностью, думая: «Вот какая ты...»
Игнатьевна открыла люк и спустилась в подвал. Дядя Иван снова принялся шептать:
— Вдоль железной дороги Смородино — Белая Пустошь через полтора — два с половиной километра, Наталья Ивановна, немцы построили дотки. Солидные дотки, с двумя амбразурами. Про мосты, которые мы разрушили, знаете, на участках Овражково — Киселевка и Киселевка — Советская, так немцы издали приказ восстановить те мосты до пятнадцатого числа. Приказ у Васи.
Вася полез в карман и вытащил бумагу.
— Вот он, — сказал Вася. — А в Копытове, Наталья Ивановна, ежедневно скопление до двух тысяч машин.
Старуха поднялась из подвала с узлом. В нем оказались вполне приличная синяя тройка, ботинки, белье и даже галстук.
Анатолий, уйдя за перегородку, быстро переоделся. Потом, примостившись перед осколком зеркала, принялся бриться.
А Наташа все продолжала шептаться с людьми:
— Манюшка, сходи-ка проверь посты. Ты, Вася, глянь, что там у немцев. А вы, дядя Иван, ступайте к Лазарю, пусть он сейчас же радирует эту информацию. Адрес прежний. А код номер семь, который я ему вчера переслала. Счастливо!
Все ушли. Анатолий вышел из-за перегородки. Наташа всплеснула руками.
— Подумайте! — вскричала она. — Я даже не рассчитывала на такой успех. Вполне приличный вид.
— Совсем переменился Анатолий, и не узнать муженька твоего, — сказала старуха.
— Конечно, — сказала Наташа. — Только он не Анатолий, а Валентин. И не муж, а брат. Понятно? Нет, приличный, на редкость приличный вид.
— Что ты так удивляешься? — спросил Анатолий несколько обиженно.
Он сдувал пушинки с рукава и поправлял галстук.
— Решено, — сказала Наташа, — ты будешь жить у меня.
— На нашей старой квартире?
— На нашей старой квартире.
— Под носом у них?
— То есть не под носом, а просто в самом логове. У нас на квартире живет гебитскомиссар. Если они действительно ищут тебя, им никогда в голову не придет, что ты живешь в одной квартире с самим фон Штуммом. Они иногда очень пронырливы. А иногда глупы до слепоты. Я же их хорошо знаю.
Она говорила это с повелительностью, которой Анатолий прежде не знал в ней. Он усмехнулся. Она вспыхнула и рассердилась на себя за свое смущение. А ведь она мечтала об этой минуте. В самых смелых мечтах своих она жаждала, чтобы он увидел ее на той опасной работе, которую она вела эти два года. И вот он стоит, глядя на нее своим ласковым, чуть снисходительным, мужским, покровительственным и восхищенным взглядом.
В это время вбежал Вася и крикнул:
— Зойка идет сюда!
Наташа тотчас толкнула Анатолия за перегородку.
— Что ты! — сказал он, сопротивляясь из упрямства и по привычке действовать самостоятельно.
— Сиди здесь! — шепнула она.
Он покорился этой новой властности, звучавшей в ее голосе.
Он услышал угрюмый голос старухи:
— Опять пожаловала? Чего надо?
И молодой женский голос:
— А я, мама, на вас не обижаюсь. Другая бы обиделась. А я прощаю. Здравствуй, Наташа! Как жизнь?
Анатолий глянул в щель перегородки.
Он увидел высокую девушку, одетую и причесанную с городской элегантностью. Неестественно золотые волосы вьющейся гривкой падали на спину. Губы были слишком ярки, лицо слишком бело. Однако крупные черты его были правильны. Это была русская деревенская красота, размалеванная с дешевым заграничным шиком. Рядом с ней тихая прелесть Наташи стушевывалась.
«Ну и бабец!» — подумал Сипаев, наблюдая Зою с тем насмешливым вниманием, с каким мужчины смотрят на красивых доступных женщин.
Зоя ходила по комнате с развязной уверенностью женщины, убежденной в своей неотразимости. Половицы трещали под ее ногами, обутыми в туфли на высоких каблуках.
Она вынула из сумки плитку шоколада и положила ее на стол.
— Ешь, Васька, французский.
Вася отвернулся, — видимо, не без труда.
— Чего, дурачок, ломаешься? — сказала Зоя. — Забыл, как я тебя спасла?
— Врешь, не спасла, — сказал Вася с досадой.
— Ах ты неблагодарный щенок! Целый месяц ты бегал в женском платье, чтобы тебя не угнали в Германию, пока я не упросила фон Штумма. Скажи хоть ты, Наташа.
Все молчали.
— Темно у вас как,— сказала Зоя.
Она вскочила на табуретку, блеснув лаковыми туфельками, и зажгла лампу, висевшую под потолком.
— Вы, мама, керосин не экономьте. Я вам пришлю керосину.
— Я тебе его в морду выплесну, твой керосин, — сказала старуха.
Анатолий даже заскрипел зубами от удовольствия.
— Боже, как это скучно! — сказала Зоя небрежным тоном и, чтобы показать, что ей действительно скучно, потянулась всем своим крупным, добротным, белокожим телом.
— Зачем ты приходишь к нам? — сказала старуха тихим, не предвещавшим ничего хорошего голосом. — Сидела бы со своими кавалерами. Я ж тебе запретила приходить.
Зоя пожала плечами. Она сама не знала, что тянуло ее временами с такой неотвратимой силой в эту нищую избу и почему среди той шумной и внешне веселой жизни, которой она жила, на нее вдруг накатывалась волна тоски и страха. Нет, пожалуй, она знала, но не позволяла себе признаваться в этом.
Она досадливо щелкнула пальцами. Нет, визит положительно не удался. Опять не удался. Всякий раз она приезжает в эту грязную дыру, чтобы сыграть роль великодушной, блестящей и щедрой барыни, и всякий раз уходит как оплеванная. Злоба подступила ей к горлу. Уйти бы, да не хочется уйти униженной. Наоборот, хочется их унизить, но как? Зоя не находила для своей злобы ни мыслей, ни слов. И выражала ее только тем, что независимо щелкала пальцами да насвистывала что-то легкомысленное.
Наташа вдруг сказала:
— Зоя, ко мне тут брат приехал из Литвы. Он электромонтер. Хороший электромонтер. Так ему паспорт нужен. Конечно, мы заплатим.
Зоя резко повернулась к Наташе и, вытянув свою большую красивую руку, сложила кукиш.
— Вот тебе паспорт, — сказала она.
Анатолий крепко оплел ногами табуретку, чтобы удержаться и не выбежать из-за перегородки. «Дай ей по морде, — мысленно умолял он Наташу, — ну дай же ей по морде!»
Наташа сказала кротким голосом:
— Что ты, милая, неужели хочешь ссориться со мной? Что ж, если хочешь, давай поссоримся.
Эти простые слова произвели на Зою необыкновенное впечатление. Белое лицо ее стало еще белей, и она робко забормотала:
— Ты меня не поняла. Разве я против тебя? Боже упаси, Наташенька! Просто я думала, что Верка Сбитнева это быстрее сделает. Но и я могу. Пожалуйста!
Наташа усмехнулась и ничего не ответила. Анатолий пошарил в пустых карманах. Ему хотелось курить.
— Верка Сбитнева, подружка твоя, — тьфу! — вдруг пробормотала старуха с отвращением и сплюнула.
— И вовсе она не подружка моя, а самая обыкновенная бэ, — сказала Зоя.
— А ты кто?
— Нет, я не бэ! И вы мне не говорите, что я бэ. Потому что я не бэ!
Вася встал, плюнул и вышел. Мать и дочь, одна маленькая, высохшая, другая тяжелая, блестящая, стояли носом к носу. Казалось, сейчас они вцепятся друг в друга. Наташа сидела за столом, скрестив руки, и смотрела на них спокойным, изучающим взглядом.
— А фон Штумм? Думаешь, я не знаю? — крикнула старуха.
Зоя захохотала.
— А что фон Штумм? Человек за мной ухаживает. Не могу же я ему запретить. А человек он культурный, порядочный... Да, порядочный, чтоб вы знали. Он мне даже с собой в Германию предлагает ехать.
— Туда тебе и дорога!
— Ну да, дура я буду ехать в Германию... — Она вдруг всплеснула руками. — Да! Что я получила, мамочка, Наташа! Письмо от Настьки Бредыхиной, из Германии. Помните, ее угнали? Так она пишет... вот: «Каждый день бегаю в Касьянов кабинет, аж надоело...» Поняли? Да, ведь ты, Наташка, городская... Тут у нас, в Никольском, был мужик Касьян, и он выкопал себе от бомбежек убежище. Так поняли теперь, куда Настька бегает и как там весело?
Старуха встала, на лице ее изобразилась дикая радость. Она крикнула:
— Чего ж ты смеешься, дура? Это мы смеяться должны. А ты должна плакать и рвать на себе кожу ногтями. Это гибель твоя идет! Чуешь? Подыми свою крашеную голову: над ней петля.
Зойка вздрогнула и невольно подняла голову. Потом она досадливо рассмеялась и сказала:
— Что вы каркаете, мама! У немцев сейчас как раз успехи повсюду. Вот, читайте газету.
Она вынула из кармана газету и положила ее на стол.
— На кой мне твоя немецкая газета! — сказала старуха и отшвырнула газету.
— Ну, так я вам переведу, — сказала Зоя. — «…яростные атаки Советов в Донецком бассейне всюду отражены с большим уроном для большевиков. Москва под ударом, в Ленинграде ведутся уличные бои…»
Тут Анатолий не выдержал. Как он ни крепился, а вранье о Ленинграде вывело его из себя. С грохотом он вскочил и выбежал из-за перегородки.
Прежде чем он успел открыть рот, Наташа сказала, не меняя своего спокойного тона:
— А вот это мой брат Валентин, про которого я тебе говорила, Зоя. Знакомься. Выспался, Валентин?
Зоя посмотрела на Анатолия с благосклонным удивлением.
— Очень приятно, — сказала она, слегка жеманясь. — Как же, я слышала. Это вам нужен паспорт? Да что вы стоите? Садитесь.
Анатолий сел за стол. Он мысленно ругал себя за неосторожность.
— Да, ему нужен паспорт, — продолжала Наташа.— Он электромонтер. Он будет работать здесь, в Беркуте.
— Что ж, хорошие электромонтеры нужны, — сказала Зоя покровительственно.
Она посмотрела на Анатолия и улыбнулась.
— Кушайте шоколад, — сказала она, — кушайте, кушайте. Впрочем, что это за еда для мужчины! У меня есть кое-что получше для вас.
Она раскрыла сумочку и вынула плоский флакон с коньяком. К ней вернулась обычная самоуверенность. Ее не интересовало, кто такой Анатолий, откуда он взялся и где собирается работать. Он — мужчина, это главное. И недурной мужчина.
— Мама, дайте, пожалуйста, рюмочки, — сказала она.
— Были у меня когда-то рюмочки, — сказала старуха, — много кой-чего у меня было, да твои же немцы все ограбили.
— Ну что вы, мама, германское командование даже приказ издало о запрещении солдатам грабить. Вы же знаете, мама, лишь бы говорить.
— Попервости, — прохрипела старуха, — попервости они наши сундуки очистили, а потом приказ расклеили.
— Мама, я вам серьезно говорю, оставьте эти разговоры. Хорошо, тут все свои. Молодой человек, не слушайте ее.
Говоря это, Зоя продолжала смотреть на Анатолия, слегка прищурившись, как обычно она смотрела на мужчин. Этот взгляд, одновременно вызывающий и томный, как бы означал, что самое важное — это не то, что она Анатолию говорит, а то, как она на него смотрит.
К тому же ей льстило, что Анатолий тоже неотступно смотрит на нее. Она не понимала истинного значения его взгляда. Но Наташа тотчас оценила подлинный смысл этого угрожающего наклона массивной головы, этой красноты, медленно заливающей лицо и мощную шею. Она крепко стиснула под столом его руку.
Анатолий шумно вздохнул, придвинул к себе газету и углубился в нее.
— О, вы знаете немецкий? — воскликнула Зоя.
— Наверно, лучше вас, — пробасил Анатолий.
— Но-но! — сказала Зоя притворно капризным голосом, который она считала тоже неотразимым. — Я переводчица первого класса.
Анатолий поднял голову и заорал:
— Ты стерва первого класса!
— Как вы смеете! — крикнула Зоя.
Она смотрела на него расширенными от гнева глазами. И все же она не могла сильно рассердиться на него, потому что он был мужчина. Она никогда не могла сердиться на мужчин.
— Мама, — сказала она беспомощно, — что это такое, что на меня все нападают?..
Жалость мелькнула на угрюмом лице Игнатьевны.
— Несчастная, — пробормотала старуха, — что ты с собой сделала, со своей жизнью...
И она вдруг погладила Зою по голове.
Зоя припала к плечу матери и заплакала. Она давно не плакала, и вся потаенная тоска, и стыд, и страх, и жажда чистоты выливались в этих бурных рыданиях.
Анатолий встал и, взяв Наташу за руку, вышел с ней из избы. Зоя посмотрела им вслед с завистью.
На дворе было свежо и темно. Невдалеке шумела река.
Анатолий и Наташа сели на лавку у избы.
— Прялочка. Слышишь? — вдруг сказала Наташа.
— Что? — спросил Анатолий, не поняв.
— Прялочка летит. Верно, от партизан или к ним. Анатолий услышал хорошо знакомый трескучий звук «У-2».
— Ах, вы тут называете его прялкой? — сказал он, улыбнувшись.
Самолет удалялся. Снова стало тихо.
— Бандитская девка, — проворчал Анатолий. — Удивляюсь, как ты можешь разговаривать с ней так спокойно. Положим, вы тут сжились со всякой швалью.
— Ты веришь в любовь на всю жизнь? — спросила Наташа.
Анатолий молча сжал ее руку.
— Так знай, — продолжала она, — что есть и ненависть на всю жизнь. Как я никогда в жизни не могу разлюбить тебя, так я никогда в жизни не могу разненавидеть фашистов. Это навсегда.
Наташа говорила, как всегда, спокойно. Но в тихом голосе ее была такая сила страсти, что Анатолий невольно посмотрел на нее.
— А ты чувствуешь сильно, — сказал он.
— Что ж, — сказала Наташа, — у нас все большое. И земля, и чувства...
Она взяла мужа за руку и погладила ее. Они прижались друг к другу.
Вдалеке снова послышался мотоциклетный треск «У-2». Маленький отважный самолет летел на запад, к партизанам.

ХУДОЖНИК
Цвет Венгрии — золото. Осень больше всего ей к лицу. Золотые поля. Рыжие виноградники. Золотая струя из бутылки токайского. На платанах рыжие, коричневые пятна, словно клал их Ван-Гог размашистым своим мазком.
Я беру в руки старинный меч, — может быть, гуннский. Это сплав — железо, серебро и медь. Художник вместо «медь» говорит «мёд». И эта ошибка мне не кажется смешной: пускай мёд, и он ведь сродни золоту.
Художник любит Ван-Гога. Но мазок у него другой. Собственно, у него нет мазка. Во всяком случае, не видно грубых пленительных следов ван-гоговской кисти. По картинам Художника даже тогда, когда они величиной в стену дома, кисть словно и не гуляла. Будто они сразу впечатаны, влакированы в холст. Будто каток прошелся по краскам. Они подобны фрескам.
В Национальной галерее в Будапеште я сразу еще издали узнал его работу, его мощную и странную кисть. «Ноктюрн». Ночь? Да... Но не образ ночи, а ее ощущение. Всадник мчится сквозь синий воздух. Он — художник ощущений.
Есть городки, насыщенные искусством. Не потому, что там соборы и музеи. А потому, что там художники. Таков был во Франции Аржантейль, у нас — Таруса, в Польше — Казимеж.
В Венгрии — Сентэндре. Есть там и старинные башни, и древние могильные камни.
И — самые левые художники Венгрии. Нет там только XX века.
Там или далекое прошлое, или воображаемое будущее.
Художник подводит нас к своей мастерской. Белая облицовка, красная черепичная крыша, очень покатая, с козырьками. Внутри солнечно, золотисто. На стене «Пейзаж в солнечном луче». Природа и та, и не та. «Во всякой красоте, — сказал некогда Фрэнсис Бэкон, — есть некая странность пропорций». Нет, природа в этой картине не искажена, она заново художником пересоздана.
В окно видны другие мастерские, разбросанные по склонам холмов. Есть ли сентэндрейская школа живописи? Единомышленники они или просто соседи? Во всяком случае, аккуратно-абстрактная графика Соседа совсем не похожа на тревожную плотскую кисть Художника.
И вот я уже вовлечен в его мир. Я становлюсь его жителем.
— Ближе всех мне Шагал, — говорит Художник. — Я люблю Шагала за то, что в его картинах можно увидеть человека, который стоит за картиной.
Вот! Личность! То частное, особенное, в котором общее лучше всего отражается, раскрывается и предвидится.
Я оглядываю полотна одно за другим, по мере того как Художник ставит их на мольберт. Мощная фактура и грустные ассоциации. Здесь нельзя говорить о верности модели, потому что ее вообще не было перед Художником, когда он писал свои картины. Он моделировал свое воображение. Это иногда называют модернизмом, левым искусством. Появился глагол: левачить. Налево во чтобы то ни стало! Леваки рвутся из XIX века в XXI. XX они не замечают. Или замечают лишь настолько, чтобы его проклясть. Но ведь все мы наследники XIX века. Почему же из всего великого его наследства художники воспринимают только мировую скорбь? Ведь он наш отец — XIX век. Он завещал нам мировые идеи, мировое искусство, мировые революции. Правда, и мировые войны.
— Я придумал название во сне, — говорит Художник об одной своей картине.
— Я хотел запечатлеть здесь свои ассоциации, — говорит он о другой.
Я признаю великое значение сновидений в искусстве. Сон Татьяны. Сон Анны Карениной. Сон Иакова в Библии. Сны в «Святом колодце» Катаева, в эпопее Марселя Пруста. Литература набита снами. Это естественно: треть своей жизни человек проводит среди сновидений. Я признаю и великую власть ассоциаций — все равно, в живописи или в литературе. Однако им, как и всему существующему, потребны границы. Иначе это называется: чувство меры. Правда, у всякого своя мера. Однако всегда ли хороша вольность, с какой художник отдается потоку ассоциаций? Не ведет ли это к произволу? Мастер вводит этот поток в берега расчета, формы, сгущает хаос в меткость выстрела. Ибо акт создания — это не только путь, это и прибытие к цели. Достижение. Тот же, кто остается в бесформенном бурлении ассоциаций, тот еще только в дороге, он производит на свет не искусство, а в лучшем случае сырье для него.
Я сказал все это Художнику. Он поморщился и ответил:
— Я боюсь, когда художники пускаются в философию — искусство немедленно скудеет.
Я молча смотрю на Художника. Как сочетать повседневную его обыденность и тот почти безумный мир, который пламенеет вокруг меня на его полотнах? Я знаю, он прогуливает собаку. Он пьет молоко. Покупает сосиски. Гуляет об руку с женой по берегу Дуная. В положенный день голосует на выборах в парламент. Покупает брюки и т. д. и т. п. Он румян, толстощек, благодушен. Но в этой благополучной оболочке, по-видимому, заключен еще один и совсем другой человек. Он-то и неистовствует на полотнах.

НАДПИСЬ НА СТЕНЕ
Утром мы брали Большие пески. Японцы покинули южный склон этого огромного холма и зарылись на северном. К полудню мы остановились. Все порядком устали. Да еще эта проклятая жара!
С правого фланга прискакали монгольские кавалеристы. Увидев их, японцы принялись гвоздить из минометов.
Монголы были воодушевлены победой. Данзан, мой друг, хлопнул меня по плечу и крикнул:
— Ну что, брат, всыпали квантунцам по первое число!
Он стоял надо мной, выпрямившись во весь свой большой рост, и хохотал. Каску он сдвинул на затылок. Обнажилось его потное коричневое лицо. Оспины усиливали в его лице выражение мрачной решимости. Я с силой потянул его за ноги. Он упал.
— Ты что?! — крикнул он, барахтаясь в песке и свирепо глядя на меня.
Я снял с него каску и поднял на штыке из окопа. По ней забарабанили пули.
— Э, брат! — сказал он и захохотал своим смехом удальца. — Живы будем — хрен помрем! А?
Он вскочил на гребень и побежал, вырисовываясь на небе всем своим крупным телом. Японцы открыли по нему стрельбу. Данзан спрыгнул в окоп, помахал мне рукой и убежал под гору, к коням.
Я посмотрел вперед. Передо мной расстилался большой овраг. На желтом песке проступали солончаковые плеши. Кое-где торчал кустарник, колючий и чахлый. Почему ты так мила мне, пустынная и скудная природа?
Рядом со мной на дне окопа храпел Сизов. Он всегда спит после атаки. Я прикрыл рубашкой его голый торс.
Мимо прошел младший лейтенант Кошницкий. Он повертел своей маленькой головой в слишком большой каске.
— Спит? — сказал он.
— Спит.
— Надо бы разбудить. Через полчасика пойдем дальше.
— Я его скоро разбужу.
— Опять без рубашки?
Кошницкий снова повертел своей маленькой головкой и пошел дальше.
Я потряс Сизова за плечо. Он сел и принялся щелчками сбивать с себя песок.
— Ну, как вообще дела? — сказал он. Он оделся и, зевая, посмотрел вокруг.
— Скоро пойдем в атаку.
— Ага, — сказал он. — Слышь, друже, нет ли у тебя напиться? Я свою фляжку, оказывается, посеял где-то.
Я протянул ему флягу. Он прильнул к ней и высосал добрую половину.
— И до чего же вкусна вода в Халхин-Голе! — сказал он. — Лучше крем-соды, ей-богу.
Невдалеке зажужжали моторы. Мы подняли головы. Но небо было пусто. Только два толстых орла пролетели, свистя крыльями. Сизов рассмеялся.
— Опять ошиблись, — сказал он, — это же танки. Действительно, из-за барханов выползали наши танки. Японцы подняли трескотню.
Сизов сделался серьезным.
— Сейчас и мы пойдем, — сказал он. Вскоре пошли и мы.
Мы пробежали шагов шестьдесят и бросились наземь. Так же сделали все, кто был справа и слева от нас. Досадно, что никогда не знаешь, кто просто лег, а кого свалило. Это становилось ясным, только когда подымались, чтобы бежать дальше.
Горячий песок жжет сквозь одежду. Каска тоже накалилась. А японцы беспрерывно сеют из пулеметов. Хуже, когда летят мины. Они падают отвесно. Я съеживаюсь и думаю: поскорей бы эта минута превратилась в воспоминание.
Но вот Кошницкий поднялся и махнул рукой. Встаем. Бежим дальше. Знаком ли вам мягкий и чистый посвист пули, когда она шмыгает над ухом? Снова плюхаемся наземь. Опять бежим. «Беги, беги! Ты должен быть ближе к японцам. Ты должен быть там, где они. Ты должен их вышибить оттуда. Ты должен!» Ноги вязнут в песке. Сизов пыхтит рядом. Он оглядывается на меня. Лицо его искажено жарой и бешенством бега. У него в руке красный флажок. Еще у нескольких бойцов в руке красные флажки.
Помнишь наши старые добрые соцсоревнования в уютно грохочущих цехах и возле ласкового пламени мартеновских печей? Здесь оно состоит в том, чтобы взбежать под огнем на гору, на эту зубчатую верхушку, и воткнуть в нее флаг, ухитрившись при этом остаться в живых. Не так далеко уже вот этот волнистый купол там, наверху. Подымаемся медленно, подъем крут. Оттуда здоровый огонь. Он все сильнее. Кажется, стреляют не люди, которые там, а самый купол палит из каждой своей песчинки.
Уже видны пулеметные блиндажи наверху. Там все изрыто окопами, как муравейник. Темные дырки, плюющие пулями. Я не оглядываюсь. Бегу, бегу. Пули меня не берут. Я бессмертен. Справа кто-то упал. Но я не упал! Впереди кто-то упал. Но я не упал! Что-то замирает под сердцем. Но я не даю этому разрастись. Вперед, ты слышишь, вперед!
Нас нагоняют наши танки. Становится легче. Всегда как-то спокойней, когда рядом эти громадины, которые прут вместе с тобой. Многие бойцы бегут рядом с танками, касаясь их рукой. Я тоже дотрагиваюсь до танка. Он горячий. Ребятам там, внутри, нелегко. Танк выстрелил из пушки, и я вижу, как впереди разлетается блиндаж, куски бревен и что-то еще.
Совсем близко до гребня. И вдруг оттуда бешеный огонь! Теперь все палит — земля, солнце, воздух. Нет ничего в природе, что не стреляло бы в нас. И все-таки мы живы и бежим вперед. Я не чувствую, что бегу. Вершина все ближе. Значит, я все-таки бегу. И в эту минуту Кошницкий голосом, которого я не узнаю, кричит:
— Вперед! Ура!
И я сам голосом, которого тоже не узнаю, кричу. — Вперед! Ур-ра!
От этих слов яснеет голова, и я чувствую себя ловким и сильным. Должно быть, я очень быстро бегу, потому что через минуту я нахожу себя на гребне. Танки, задрав гусеницы, переваливают через него. Теперь мы бежим вниз, в червоточины окопов.
Впервые я вижу японцев так близко. Они выскакивают из всех дырок. И — как это ни странно в такую минуту— в глаза бросаются ненужные мелочи: на поясах у них алюминиевые кружки, на ногах резиновые башмаки, похожие на тапочки. Японцев много. Одни бегут на нас. Другие разбегаются в стороны. Многие заполнили длинный, извилистый ход сообщения и бегут куда-то вдаль. Они орут, судя по их разинутым ртам. Иногда доносятся их голоса, которые кажутся детскими в этой трескотне. Кое-где над головами сверкают длинные самурайские палаши офицеров. Несколько японцев выкатили короткую пушку и быстро закопошились вокруг нее. Они направляют ее на мой танк. Я называю его м о й, потому что я бегу рядом с ним. Танк взревел мотором так, что на секунду заглушил все вокруг, и с неожиданным проворством побежал на пушку. Добежав до нее, он сильно вздрогнул, почти подпрыгнул и побежал дальше. Я увидел на том месте, где была пушка, расплющенный ствол.
Песок кончился. Пошла трава, низкая и твердая. Два бойца залегли с пулеметом на краю большого окопа и стреляют вниз, в окоп.
Оттуда выползает много японцев. Они бегут на меня. Я прячусь за танк и бегу позади него. Вдруг — грохот, треск раздираемого металла, из танка вырвалось пламя. Он стал, накренился. Передние люки его раскрылись, и один за другим, как пловцы, ныряющие в воду, оттуда выпрыгнули три бойца в высоких кожаных шлемах. Они быстро поползли по траве. Я за ними. Трава колется. Иногда попадаются лужи. У одного танкиста в руках пулемет. У другого — диски с патронами. Третий стонет, но тоже ползет. Они легли за пригорком и принялись стрелять. Японцы быстро попрятались в траву.
— Патронов много? — спрашивает пулеметчик.
— Полдиска, — отвечает другой. — Гранаты ни одной. У тебя?
Я:
— Три штуки.
Японцы молчат, как неживые.
— Всех, видно, побили, — говорит пулеметчик. Он достреливает свои полдиска и говорит:
— Пошли вперед. Раненый стонет и ругается.
— Перевяжите меня! — кричит он.
Я откладываю винтовку. У танкиста пробито плечо. Ничего серьезного, но кровь хлещет, как из крана. Я перевязываю его.
— Пошли вперед, — говорит пулеметчик. — Дмитриев, ты полежи здесь, тебя подберут.
Я даю танкистам по гранате, и мы идем вперед. Все тихо перед нами. И вдруг из травы встают японцы. Там, оказывается, были щели, и вот японцы теперь бегут на нас, их человек пятнадцать. Мы разом метнули гранаты и легли. Но это были стреляные японцы, они тоже успели лечь. И вот они снова бегут на нас и беспрерывно стреляют. По-прежнему кажется, что их человек пятнадцать. Все это так быстро, что я не успеваю испугаться. Один из танкистов вскрикнул и перевернулся. У него рот в крови.
Не знаю, что было бы с нами, если бы не набежали наши танки. Японцы сразу куда-то пропали, то ли их побило, то ли удрали.
Трава дымилась. Мы бежали вперед за танками. Я увидел своих и подался к ним. Как это хорошо — увидеть в бою своих! Кошницкий орет: «Давай вперед, ребята!» На нем разорвана гимнастерка.
Танки умчались вперед и все вытоптали позади себя. Но нет, не все, оказывается. Откуда-то появились японцы. Они сидели в глубоких, узеньких окопах, таких узеньких, что танку не залезть туда. И вот теперь они выскочили. Этот кусок земли просто кишел японцами.
Теперь мы дрались вплотную, как дерутся в подворотне. Теперь можно было не бояться ни пулеметов, ни снарядов, ни танков, потому что мы и японцы так перемешались, что никто не станет стрелять в эту кашу. Теперь нужно только оказаться сильней и ловчей того, с кем дерешься, и при этом оглядываться все время, чтобы кто-нибудь сзади или сбоку не вмазал в тебя штык.
Одну драку я помню совершенно ясно от начала до конца. Этот солдат стоял, широко расставив ноги в резиновых штиблетах и черных чулках. Он стоял на краю своего окопа, выставив вперед винтовку. Помню, меня это возмутило: вломился в чужую землю и ведет себя как хозяин.
Прыжок мой был до того стремителен, что казалось, ни одна мысль не успела бы вместиться в это мгновение. Но их вместилось целых две, потому что к этому моменту боя мы все соображали гораздо быстрей. Кто опаздывал, тот погибал. Первая мысль: у него нет гранаты, потому что он давно (то есть еще две секунды назад) швырнул бы ее в меня. Вторая: он не может выстрелить в меня из винтовки, потому что к ней примкнут штык.
Он метнулся влево и избежал моего удара. Я с разбегу перемахнул через его окоп. Мой левый бок остался незащищенным на какую-то долю секунды, вполне достаточную, однако, чтобы японец мог поразить меня. Он этого не сделал. Вероятно, не успел сообразить.
А я уже снова летел на него, выставив штык. Я метил в его широкую грудь. Он отбил мой удар. Наши винтовки, столкнувшись, клацнули, и я открылся для пего весь, от живота до горла. Я знал, что теперь ему нетрудно ударом, скользящим вдоль ствола моей винтовки, пронзить меня или запороть: японский штык может сделать и то и другое. Я отбился прикладом. Все же его штык коснулся моего бока, но не порвал кожи. При этом каждый из пас сделал сильное движение вперед, и головы наши почти сблизились. Я отскочил. Он тоже.
Я успел уловить взгляд его черных, далеко отстоящих друг от друга глаз. В этом взгляде было что-то странное, какая-то сосредоточенность, не идущая к бою. Словно он изучал меня. Казалось, что из этой смертельной схватки, которая длилась всего несколько секунд и состояла из беспрерывных молниеносных движений, он успевал выкраивать время для производства надо мной каких-то посторонних наблюдений.
Может быть, поэтому он в каждом ударе чуть опаздывал.
Так мы плясали друг против друга, тыча штыками, и я чувствовал, что слабею. Руки с трудом подымали винтовку, ноги подламывались. Видимо, слабел и он. Вот его винтовка отклонилась.
Тогда я быстрым движением пронзил его.
Обессиленный, я опустился на землю.
Бой кончался. Японцы ушли, отдав нам две сопки.
Мы не стали рыть новых окопов, а расположились в неприятельских. Мы только насыпали новые брустверы с другой стороны.
Но этим мы занялись позже, а сейчас отдыхали. Я залез в окоп, возле которого только что дрался, и сразу заснул.
Когда я проснулся, позиции уже были устроены. Убрали трупы, вырыли наблюдательный пункт. Подъехали кухни, и раздавали обед. Повара постарались: на первое был рисовый суп, а на второе — пирожки с мясом. Было даже сладкое — горячий абрикосовый компот. Почти как у летчиков.
Спустились сумерки. На востоке выступили первые звезды. Так мирно было все вокруг! Нигде не стреляли, только изредка раздавался окрик: «Воздух!» — люди лениво подымали головы, запоздалые японские истребители шмыгали в темнеющем небе, возвращаясь домой. Выпала роса, и трава вдруг запахла сладко и сильно — полынь, дикий лук, шалфей, — и стало почти не слышно запаха трупов и креозотовой мази, которой японцы так любят мазать себя. Трещали кузнечики, и не верилось, что это война.
Я осмотрелся в своем окопе. Это была просторная яма, устланная соломой. Снаружи она была искусно замаскирована зеленым пологом, а внутри, в стене, было вырыто небольшое углубление. Сюда можно было прятаться во время обстрела с пикирующего самолета. Впрочем, углубление было небольшое, рассчитанное на японский рост, и для меня не годилось.
Обитатель ямы, видимо, был человек хозяйственный. У меня все не выходили из памяти его глаза — черные, тоскливые, устремленные на меня с каким-то странным упорством.
В окопе валялись его вещи: жестянка со сгущенным денатуратом для варки пищи, котелок, алюминиевые палочки для еды, несколько обойм с патронами, банка с консервированной морской капустой, кусок мыла, веер, мешочек с рисом. Ничего особенного. То, что мы находили везде.
Я прожил в этом окопе до утра, пока мы не двинулись дальше, в новые бои. Перед тем, как покинуть окоп, я заметил на глинистой его стене надпись, вырезанную, по-видимому, тесаком.
Повинуясь какому-то безотчетному любопытству, я аккуратно срисовал эти непонятные иероглифы в записную книжку.
Через несколько дней мне случилось быть в штабе дивизии.
Я зашел в палатку переводчиков. Стол был завален японскими полевыми книжками, письмами, дневниками, картами, найденными на поле сражения и у пленных. Некоторые письма были проткнуты штыками и замараны кровью.
Я показал свою надпись и попросил перевести. Один из переводчиков пробежал ее. Он поднял брови и прочел еще раз.
— Где вы ее достали? — спросил он. Я рассказал.
— Интересно! — сказал он. — Беляев, смотри. Второй переводчик взял мою книжку и, бормоча, прочел про себя.
— Здорово! — сказал он. — Надо сообщить в политотдел, это можно использовать в листовках для японцев.
— А что здесь написано? — спросил я. Беляев перевел:
— «Друзья красноармейцы, я коммунист, простите меня за то, что я дерусь с вами».
Я ушел из палатки взволнованный. На следующий день был бой, мы брали сопку Зеленую, и вечером, когда мы отдыхали, Сизов сказал мне:
— Слышь, друже, тебя не узнать. Уж больно лихой ты. За смертью гонишься, что ли? Кошницкий пишет на тебя представление к Красной Звезде.
Я и сам не понимал, что со мной. Должно быть, мне не терпелось, чтоб поскорее кончилась война и чтоб пришло наконец для всей земли такое время, когда людям незачем будет втыкать друг в друга штыки.
Но я не сумел объяснить всего этого Сизову.
Да он больше и не спрашивал.

КАРМЕЛИНА
Конечно, после того как венецианские лодочники, и рыбаки в неаполитанском порту, и лоточницы с площади Сан-Лоренцо во Флоренции, узнав, что мы — русские, воспылали к нам дружелюбием, меня не удивила та простосердечная радость, с какой нас принимала у себя Кармелина.
Собственно, честь открытия Кармелины принадлежит не мне, а моей жене. Она не захотела поехать со мной во всемирную приманку туристов — Лазурный грот: море было в то утро не очень спокойное.
Итак, в то время как я, опустив руку за борт лодки, пропускал сквозь пальцы волшебную бирюзовую воду, Софа бродила по путаным улочкам Капри, наслаждаясь полным отсутствием автомобилей. Этот остров для них запретная зона. Да, впрочем, они и сами сюда не сунутся: им не развернуться в тесных каменистых ущельях, именуемых здесь улицами, а иногда даже и площадями.
Софа шла, то подымаясь, то спускаясь по древним ступеням, соединяющим ярусы городка. Иногда, чтобы пропустить ослика с поклажей, она прижималась к каменному барьеру, нагретому солнцем и ограждавшему крутой склон, обсаженный виноградником. Но тут же отшатывалась, когда из трещины выскальзывала ящерица и, игриво взмахнув чешуйчатым хвостом, ныряла обратно в прохладную скважину. Софа шла мимо лавчонок с плоскими белыми крышами, мимо агав, тянувших к ней свои мясистые листья. Когда солнце, назойливое, как муха, уж слишком досаждало ей, она становилась в тени апельсиновых деревьев, аккуратно обмазанных внизу известкой, словно натянувших на ноги щегольские белые гетры.
Иногда Капри вдруг чем-то напоминал ей приморскую окраину Одессы — Большой Фонтан. Чем? Я думаю, каменистостью, уступчатостью сбегающих к морю откосов, обилием глухих оград, поверх которых лезет вьющаяся «Изабелла», гроздья акаций и алюминиевые кроны олив, — словом, не туристской витринной нарядностью, а своей коренной рыбачьей и виноградарской сутью.
Тут-то и произошло знакомство с Кармелиной. Заурядный домишко. Но дверь необыкновенная: на ней висели картины, как бы выставленные для всеобщего обозрения. Софа рассматривала их с удивлением. Они были написаны так, как если бы художник вознесся с кистью и мольбертом в воздух и оттуда наблюдал землю. Одна картина изображала Капри весь, целиком, окруженный морем глубокого синего цвета. Другая — крохотную каприйскую площадь короля Умберто I, которую все попросту называли Пьяцца. Казалось, картины сделаны ребенком, так они непосредственны и просты. Краски скупые, но сильные, и всюду огромное безоблачное небо.
Так она стояла и смотрела. Вдруг дверь отворилась — и на мгновенье стали видны стены, сплошь увешанные картинами. Вышла женщина, крупная, широколицая, лет сорока, в темном платье, совсем не элегантная, простонародная, даже какая-то старомодная. Это и была синьора Челентано, гораздо более известная — сейчас уже далеко за пределами Капри — просто под своим именем: Кармелина. Обе женщины быстро сошлись, несмотря на отсутствие общего языка, благодаря способности Софы мгновенно располагать к себе людей. Впрочем, нашлась и переводчица. Это была Анна-Мария Ромео. Когда Софа пообещала привести на следующий день меня, Анна-Мария Ромео оживилась и сказала:
— А ты не ревнивая? Я ведь очень люблю флирт.
Ах, как Анна-Мария готовилась к встрече со мной! Насурмила брови, подмазала губы, навела румянец на щеки. Она очень кокетлива. Этот вызывающий смешок! Эти зажигательные взгляды! И если ее нельзя назвать классической красавицей, то в каком-то смысле она героиня: ведь ей девяносто два года...
Много лет назад Анна-Мария была танцовщицей и выступала в Киеве. Это было на заре века. Я не стремился уточнить, на каких подмостках блистала она. По некоторым признакам я догадывался, что это не была академическая сцена Оперного театра. В ту пору существовали так называемые «кафе-шантаны», по-русски сказать — «поющие кафе», попросту помесь эстрады и ресторана. Там, разумеется, не только пели, а и танцевали. Польша поставляла в эти веселые заведения самых грациозных и элегантных хореографисток. Среди них была и Анна-Мария. Она тогда еще не была Ромео. Эта фамилия принадлежала стареющему итальянскому дипломату, возглавлявшему королевское консульство в Киеве. Он влюбился в Анну-Марию и женился на ней. Когда разразилась первая мировая война, супругам Ромео пришлось покинуть Россию, ибо Италия воевала на стороне Германии. Ромео был каприец и увез жену к себе на родину, где и благополучно умер.
И вот передо мной Анна-Мария. Эпоха войн и революций не смогла вытравить из нее резвых ужимок кафешантанной дивы. Она порывисто хватала меня своей иссохшей ручкой, она жеманилась, и во взгляде ее слезящихся глазок было что-то манящее, обещающее. Это было забавно и немножко страшно. Однако в тот момент меня больше всего интересовали работы Кармелины.
Действительно, на одной из картин уместился весь Капри, маленький, скалистый, со своей знаменитой Пьяццой, и с утесом Тиберия, и с длинными пирсами, которые, как языки, высунулись далеко вперед и лижут смарагдово-синее Тирренское море. При этом тело острова выступает из волн, как крутая холка какого-то мощного зверя. Я вспомнил, что название его произошло от греческого слова «капрос», что означает кабан. Стало быть, изящное слово «Капри» — это, в сущности, Кабаний остров.
Другая картина — Пьяцца — в том же ракурсе. Треугольная композиция. Вершина треугольника задана природой: островерхая скала Тиберия. От нее два катета: левый — один из домов, окаймляющих Пьяццу, правый — собор святого Антония. Гипотенуза — нижний край картины. Все строго, очень похоже: тут и ночной клуб, и муниципалитет, и кафе, и полицейское управление, и магазины. И в то же время — наивно и нежно. И, конечно, фон — море, неподражаемая синева Неаполитанского залива. Никаких традиций, никакой преемственности, никакого подражания, ни даже влияния. Это совершенно самостоятельно, как Пиросмани, как Руссо. А ведь за спиной Кармелины страна, набитая мировыми шедеврами!
Еще когда мы только проезжали через Кампанью, приближаясь к Неаполю, внимание мое привлекли пейзажи на горизонте, отчетливо видные сквозь прозрачную дымку пространства. Пейзажи эти поразили меня сходством с традиционным фоном многих прославленных картин Ренессанса: волнообразные холмы, пинии и эта нежная дымка на горизонте. Я считал это чисто условной манерой, принятой в то время. Но там, в Кампаньи, я увидел, что то, что мне чудилось своего рода эстетическим этикетом, уклониться от которого художнику было бы неудобно, на самом деле вполне реалистическое изображение природы Италии.
Я спросил Кармелину, нет ли среди ее картин Лазурного грота. Она презрительно пожала плечами и сказала, что малевать красивенькие пейзажики не в ее характере.
Вся солнечность мира, преломившись в текучей призме моря, входит в пещеру сказочно голубой. Но Кармелина не знала, что меня поразили не столько чары Лазурного грота, сколько орава лодочников, плясавших в своих скорлупках перед входом в прославленный грот. Он настолько узок, что проскользнуть в него может только маленькая лодка. Так образовался этот странный промысел. Они гарцуют тут, на волнах, с утра до вечера. Когда подходит катер с туристами, они слетаются к нему, как воробьи на корку хлеба, отпихивают друг друга, переругиваются, даже замахиваются веслами. Мы достались старику в линялой, заплатанной блузе. Да и весь он был какой-то общипанный и до того жалкий, что мы тут же насовали ему в карман лир. Он пришел в совершенный восторг и в благодарность запел старческим, дребезжащим голосом старинную серенаду «О мой Сорренто!». Он топорщился при этом, вертел головкой и хрипло щебетал, еще больше в эту минуту похожий на изголодавшегося воробья. Остальные смотрели нам вслед, качаясь в своих лодчонках у входа в волшебную лазоревую пещеру.
Мне казалось, что такой образ Голубого грота вполне в духе работ Кармелины. Но моих познаний в итальянском языке не хватило, чтобы объяснить ей это. Не сумела втолковать это Кармелине и Анна-Мария Ромео на своей фантастической смеси из итальянского, русского и польского языков.
Кое-как мы разобрались в том, откуда пошло искусство Кармелины. Они жили вчетвером в чужом сарае — она с мужем и двое ребят. Кармелина зарабатывала на жизнь стиркой, муж батрачил в садах. У нее была неотступная мечта: собственный домик. Пусть маленький, слепленный из известняковых глыб, каменное ласточкино гнездо, но — свое, собственное. Однажды заболел Паскуале, ее мальчик. Во время болезни у него появился странный каприз: он требовал, чтобы мать купила картинки и развесила их над его кроватью. А денег в обрез. И однажды ночью, когда Паскуале уснул, Кармелина начала сама рисовать картинки, используя цветные карандаши и детский набор красок, которые она нашла среди игрушек сына. Когда мальчик проснулся и увидел картинки, он пришел в восторг. Это был подвиг материнской любви. Но не только. В эту ночь родился художник. Паскуале выздоровел, но Кармелина продолжала рисовать. Она стеснялась этой внезапно нахлынувшей на нее страсти изображать мир в красках. Соседи посмеивались над ней. Но она не в силах была отстать от этого. У нее был один поклонник: Паскуале. Он развесил мамины картины на дверях сарая. Кто-то прошел, заметил, восхитился. О картинах Кармелины заговорили. Нашелся меценат. И Кармелина стала «каприйским феноменом», как окрестила ее газета «Ла воче ди Наполи». Сама Кармелина говорит, что ее картины — «это искусство Провидения, которое использует мою руку, чтобы давать людям радость». Работы ее пошли за рубеж, даже за океан. Во время выставки работ Кармелины в Париже одна французская газета писала: «Кармелина подарила Парижу улыбку Капри». И постепенно, картина за картиной, камень за камнем, исполнилась мечта ее жизни — она переселилась в собственный дом. Она, правда, не очень респектабельная, эта каменная лачуга из трех комнат. Зато — собственная.
Во время этого рассказа прибежал, запыхавшись, муж Кармелины. Он спешил, боялся, что московские гости уйдут. Он не успел переодеться и остался в заношенной спецовке, со следами земли на башмаках и руках. Он радостно приветствовал нас, просил называть его Джованни и торжественно поставил на стол, рядом с принесенной нами «столичной», большую бутыль с вином. Вино это особое, из виноделия его зятя, не розовое, которым славится Капри, а темно-красное, почти черное, нежное и коварное, пьянящее незаметно и вдохновляюще.
Джованни оказался человеком радостным, открытым, таким же, как его жена. Он рассказал нам о себе все. Да, он не скрыл, что у него две профессии. Дело в том, что на Капри тесновато. Не хватает места не только живым, но и мертвым. А ведь растет население и то, и другое. Поэтому здесь хоронят в землю только на время. Загробная командировка в могилу длится семь лет. После этого покойника просят удалиться. А так как он сам уже не может этого сделать, ему помогает Джованни. Останки переселяют в стены, специально для этого возведен ные, там их замуровывают.
Некоторое время за нашим столом не было слышно ничего, кроме приветственных тостов, звона стаканов и хруста раскусываемых огурцов, которые принес Джованни, ибо он не только могильщик, но и огородник. Итальянская пылкость и сознание, что мы сегодня расстаемся, разжигали костер нашей дружбы.
Пришли и ребята. Дочка, в противоположность матери, тоненькая, современных спортивных очертаний, замкнутая, изучающая английский язык и мечтающая сменить захолустный Капри на Рим или в крайнем случае — Милан.
Пришел и сын, тот самый Паскуале, каприз которого разбудил в матери талант и рвение художника. Это высокий худой парень. Черные нечесаные космы падают на лоб рассчитанными прядями. Черты лица крупные и мягкие, как у матери. Наша «столичная» имела у него такой стремительный успех, что отец отнял у него бутылку, сказав назидательно:
— Тебе петь сегодня.
Паскуале — шансонье. Он выступает в ночном клубе «Каприйский клан». Он подарил нам ноты своей песни «Мечта о любви». Слова и музыка Паскуале. Это томные, надрывные вопли о неразделенной любви, находящиеся в некотором противоречии с краснощекой, жизнерадостной физиономией певца. На Капри его уже знают, ноты выходят с его портретом. Мать гордится этим. Сам же Паскуале мечтает о славе всемирно известных «идолов», вроде Азнавура или Монтана, и ставит ни во что свою работу на подмостках, как он сам выражается, «самого провинциального кабака очень провинциального города довольно провинциальной страны».
Есть еще один член семьи, так сказать, неофициальный: Анна-Мария Ромео. Она говорит без умолку: то переводит энергично, хоть и не всегда успешно, то рассказывает о себе, не забывая в то же время распространять свои женские чары уже не только на меня, но и на Джованни и на Паскуале. Кармелину это приводит в восторг. Она смотрит на Анну-Марию с умилением, как на шаловливое, но прелестное дитя, и подмигивает нам, как бы говоря: «Какова! А?» Анна-Мария называет Кармелину, которая моложе ее лет на пятьдесят, «мама». Причина тут простая: Анну-Марию подкармливают в этом добром доме. Вообще-то она на иждивении монахинь из соседнего монастыря. Но милосердный паек сестер кармелиток не очень-то густ. И вообще Анна-Мария терпеть их не может. Всему ее легкомысленному, ветреному существу претит молчаливая угрюмость божьего дома.
— Ничего, ничего, когда я разбогатею... — говорит Анна-Мария.
Она не заканчивает фразы. Наступает многозначительное молчание. Мы недоумеваем. Кармелина и Анна-Мария обмениваются взглядами. Повинуясь им, Кармелина подходит к комоду, выдвигает ящик и откуда-то из-под груды белья извлекает пачку бумаг, бережно завернутых в холстину.
Бумаги вручаются нам. Все столпились вокруг. Быть может, много лет ждали, когда же в эту каменную лачугу на гористой улочке маленького острова в Средиземном море забредет случайный путник из далекой России. И вот сегодня это чудо случилось.
Я разворачиваю большие листы. Плотные, зеленые, украшенные печатями и царскими вензелями, они бренчат, как жестяные. Все же я листаю их осторожно, ибо они крошатся на сгибах, полуистлевших от времени. Действительно, текст русский. Из него явствует, что в 1901 году проживающий в городе Киеве господин Габриэль-Данте-Ромео застраховал в акционерном обществе «Саламандра» свою жизнь в пользу своей жены Анны-Марии в сумме 3000 рублей (прописью: три тысячи), в подтверждение чего ему выдан означенный страховой полис.
Я подымаю голову от бумаг. Все выжидающе смотрят на меня. Кармелина снова подмигивает нам, кивая в сторону Анны-Марии, как бы говоря: «Какова! А? Оказывается, она еще и богачка, наша красавица Анна-Мария!»
Я молча возвращаю документы. Вид у меня при этом приличествующий моменту — торжественно-скорбный, — такой, вероятно, как у Джованни, когда он переносит очередного покойника из земли в стену. Всем становится все понятно без слов. Джованни разочарованно вздыхает, принимает у меня семейную драгоценность и замуровывает ее в ящик с бельем. Анна-Мария робко взглядывает на Кармелину. Та ей ободряюще улыбается. Я понимаю, что она-то давно считает эту страховую реликвию не более, чем игрушкой своей любимой девяностодвухлетней девочки.
Мы прощаемся. Поцелуи. Обещания не забывать. Писать. Прислать на Рождество картину. Может быть, приехать.
В конце переулка мы оглядываемся и машем рукой. Кармелина еще стоит у порога, крупная, мясистая, немодная и в то же время какая-то детски-нежная, сама похожая — в рамке дверей — на картину своей доброй кисти.

КРИГСКОРРЕСПОНДЕНТ
На закате хорошего летнего дня наши танки ворвались с боем в деревню Венец. У околицы автоматчики спрыгнули с брони и пробирались в деревню задами. А танки пошли напролом. Они мчались сквозь солнечную пыль и поливали по сторонам. Немцы отстреливались из блиндажей, устроенных посреди капустных грядок, либо из окон, забранных белыми занавесками, позади которых торчали темные стволы противотанковых пушек. Снаряды их бились о толстую броню «Т-34» и ничего не могли с ней сделать. Иные танки ломали дома грудью, проходили сквозь них, как нож сквозь масло, и некоторое время тащили на себе кусок стены или целую крышу с чердаком. Трудно представить себе, с какой легкостью крепкая немецкая пушка превращается под тяжестью доброй «тридцатьчетверки» в длинный металлический блин.
Немцы разбегались кто куда, многие бросались в пруд и прятались с головой в воду. Какой-то офицер подскочил к танку и в неистовстве бил саблей по его борту. Видимо, он впал в умоисступление или был страшно пьян. Потом он повернулся на пятках, каким-то расслабленным жестом поднес пистолет к голове и застрелился. Бойцы, рассыпавшись по дворам, пронзали штыками навозные кучи. Оттуда выползали немцы, смрадные, дымящиеся, протирая залепленные глаза.
В суматохе боя из одного дома выбежал немец. За спиной у него висел ящик. Под каской блестели очки. Он встал посреди улицы и высоко задрал руки. Видя перед собой человека, сдающегося в плен, танки обегали его не трогая. Так он стоял посреди грохочущего потока боевых машин и помахивал белой тряпкой, привязанной к пустым ножнам от тесака. При этом он широко разевал рот, — видимо, изо всех сил кричал что-то. Но ничего не было слышно в шуме боя.
Скоро все было кончено. Над колокольней взвился советский флаг. Боевое охранение пошло вперед. Остальные расположились на отдых. Задымили уцелевшие трубы. Связисты потянули провода сквозь дворы. Где-то заиграла гармошка. Люди чистили оружие, мылись, другие пошли по деревне осматривать следы пребывания фашистов.
Немец с белым флажком по-прежнему стоял посреди улицы, слегка потряхивая руками, видимо замлевшими. Низкое солнце сверкало на его очках и каске. У него было маленькое бледное лицо, тоненькие усики фата. Он с тревогой смотрел на бойцов и старался выкроить на кислом своем лице любезную и даже светскую улыбку. На левом рукаве его была повязка с надписью печатными буквами.
Старшина Сипаев из морской пехоты, низкорослый богатырь, прочел вслух:
— «Kriegskorrespondent».
— Да, да, господин офицер, — обрадованно и хрипло закричал пленный по-немецки, — я военный корреспондент!— И не переводя дыхания он выпалил: — Согласно параграфу двадцать четвертому Гаагской конвенции тысяча девятьсот седьмого года о законах и обычаях сухопутной войны между цивилизованными нациями я есть лицо неприкосновенное!
— О чем он толкует? — спросили в толпе. Сипаев перевел.
Кто-то невесело засмеялся:
— Законник...
— А по какому параграфу они наших баб мордуют?.. Немец снял со спины ящик. В нем оказалась маленькая рация.
— Я корреспондирую в редакцию по радио, — объяснил он.
Потом, опасливо поглядывая на нас, он принялся вытаскивать из карманов свои документы. Их было много, этих пропусков, удостоверений, мандатов, справок на разные случаи жизни. Бумаги были старательно уложены в аккуратные конвертики и папочки. Наконец, как жемчужину этого архива, он извлек из недр своего существа нечто вроде длинного свитка, украшенного печатями, и не без торжественности протянул его Силаеву. Это была все та же знаменитая конвенция.
При этом немец не переставая говорил:
— Вы извините, я охрип, я все время кричал вашим солдатам, кто я. Я, знаете, никогда не приближаюсь к бою. Сегодня это вышло случайно. Здесь было так спокойно. Никто не думал, что вы на нас нападете. Вы сделали это совсем неожиданно.
— Да? — сказал Сипаев, смотря на него с недобрым любопытством. — Может быть, это недопустимо по конвенции?
Немец не понял юмора.
— Нет, почему же, это допустимо, — поспешно сказал он со своей нелепой любезной гримасой.
— Идемте! — коротко приказал Сипаев.
— Куда вы меня ведете? — закричал немец, влекомый мощной рукой моряка. — Будьте так добры, я вам напоминаю, что согласно статье двадцать четвертой Гаагской конвенции тысяча девятьсот седьмого года...
— Мы пришли, — сказал Сипаев.
Он втолкнул пленного в сарай. Бойцы вошли вслед за ними.
— Вы! Кригскорреспондент! Любитель законов и обычаев!— загремел Сипаев своим мощным басом. — Смотрите сюда!
В сарае было полутемно. В воздухе плавал сладковатый, тошнотворный запах. Вскоре глаза привыкли к мраку. Внизу, на соломе, стали видны люди. Ближе всех лежала обнаженная пожилая крестьянка. Она была покрыта неописуемыми ранами. Потом бойцы увидели девочку лет двенадцати. Старые солдаты, они навидались крови, и все же многие заплакали, ибо нет ничего жалостливей нежного детского тельца, засеченного плетью до смерти. Был здесь труп пленного красноармейца. Он лежал, раскинув беспалые руки. Орудие пыток, окровавленный немецкий тесак, валялось рядом.
Немец не смел отвести глаза от трупов. Субтильное тело его трепетало. На лице застыла эта его нелепая маска любезности, которую он забыл сдернуть. Бойцы молча смотрели перед собой. Слышно было их тяжелое дыхание.
— Мать моя родная, — прошептал Сипаев, — чем вы заплатите за все это нам?..
Немец со страхом посмотрел на моряка.
Все вышли на улицу. Гармошка где-то за домом рассыпалась трелью и умолкла. Люди закусывали, рассевшись на земле, среди обломков зарядных ящиков, расстрелянных гильз, обугленного рванья, брошенных немецких писем и прочего сора войны. Горнист протрубил сбор. Бойцы побежали к танкам. Все было желтым от низкого солнца, и в воздухе стояла золотая летняя пыль. Загудели моторы. Надо было отправляться дальше, вперед.
Кригскорреспондент вскарабкался на грузовик с немецкими пленными, которых отправляли в тыл. Он, видимо, оправился от страха, и на маленькое бледное лицо его вернулось природное выражение самодовольства. Он отыскал глазами могучую, квадратную фигуру Силаева и отвесил ему любезный поклон, даже с оттенком фамильярности, как старому доброму приятелю. Что-то бормоча сквозь зубы, Сипаев пошел к своему танку.
А окончательно успокоившийся кригскорреспондент комфортабельно уселся в углу грузовика, посмотрел с некоторым превосходством на соседей, вынул из кармана аккуратный целлулоидовый конвертик и принялся бережно укладывать в него Гаагскую конвенцию 1907 года о законах и обычаях сухопутной войны, принятых между цивилизованными нациями.

ГРУМЫ
Поперек Дуная — золотой маслянистый блик встающего солнца. На том берегу, в Пеште, — череда тополей. Они подернуты редеющим туманом и оттого выглядят очень легкими, акварельно-нежными. Они тоже, как и солнце, окунают в Дунай свои пирамидальные отражения.
Внизу, под окном, табун еще не проснувшихся автомобилей. Небыстрая вода Дуная — серо-серебряная, кроме этого пылающего солнечного блика, перерубающего реку наискось. Однако по мере того, как солнце подымается, блик тускнеет, и на моих глазах совершается как бы алхимическое превращение золота в серебро.
Тут я заметил Ласло Рети. Он плетется вместе с другими юнцами, такими же, как он, тощими, вялыми, невыспавшимися. Все они в поношенных плащах либо стареньких куртках, которые через несколько минут они сменят в отеле на пестрые, с серебром и золотом ливреи и превратятся в стройных, ловких и проворных грумов.
С Ласло я познакомился накануне ночью. Дунай был черен, и небо черно, только вдали, за рекой, оно покраснело от огней Пешта. Тихо, сюда, к нам, на остров Маргит, не достигает шум ночного города. Слышен был только мягкий шелест дождика в деревьях да изредка фыркали подъезжающие запоздалые автомобили.
У входа я заметил долговязого мальчугана. Я с трудом узнал в нем одного из блистательных грумов Гранд-Отеля. Он топтался на пороге, не решаясь идти под дождь. На нем блуза с продранными локтями и мятые штаны с заплатой на заду. Свой элегантный смокинг с золотыми пуговицами, крахмальную рубаху, брюки со складкой, строгой, как струна, — словом, все свое ливрейное оборудование он оставил в отеле: это казенный инвентарь.
Но, главное, он оставил там же и казенное выражение лица, одновременно предупредительное и надменное, ироническое и подобострастное. Сейчас у него домашняя, мальчишеская, чуть задорная рожица, очень довольная оттого, что он идет домой, да еще со свертком под мышкой, — то, что он успел набрать из недоеденных остатков, разнося по номерам закуски для богатых иностранных гостей.
Он вынимает из кармана початок кукурузы и, причмокивая, грызет его. Куда девались его придворные манеры!
Мы разговорились под уютный шепоток дождя. Я спросил Ласло, по душе ли ему его работа. Очевидно, он уловил в моем голосе какой-то осудительный обертон и поспешно ответил:
— О, я не намерен застрять здесь. Накоплю денег и буду поступать в университет.
— Разве для этого нужны деньги?
Он мнется.
— Нет... — говорит он наконец. — Но, знаете, родителям, сестрам...
В дальнейшем выясняется, что отец хорошо зарабатывает, сестры тоже.
Он смотрит на меня исподлобья и говорит нерешительно:
— А что, разве грум — это неприлично?
Я рассказываю ему о советских студентах, уезжающих на лето работать на стройки, о голландских студентах, превращающих летом свое общежитие в гостиницу для туристов. Это сезонная работа, и студенты нисколько не теряют человеческого достоинства, в их услужливости нет лакейского духа.
Ласло несколько задет.
— Я приношу пользу государству, — говорит он с пафосом.— Мы выбиваем из иностранцев валюту для государства.
— А по какому курсу котируется сейчас душа человека? — говорю я.
Ласло посмотрел на меня с недоумением. Этот сорт иронии не доходит до него. Он говорит рассудительным тоном:
— Думаете, здесь такое уж золотое дно? Посмотрели бы в Шиофоке! Там в гостинице «Хунгария» или «Лидо», а лучше всего в «Европе» за один сезон разживешься. Там швыряются деньгами. Посмотрели бы на этих иностранцев: приезжают в собственных шикарных лимузинах, на прицепе моторные лодки. Там для них гольф, ночные клубы, бары, отдельные пляжи...
Он захлебывался от восхищения, бедный завистливый мальчик в продранной куртке, со свертком объедков под мышкой. Я молчал. Ласло вдруг опасливо посмотрел на меня и пошел прочь, зашлепал по лужам грязными кедами.
Через некоторое время я увидел его в Шиофоке. Я не сразу попал туда. До этого мне пришлось побывать на противоположном берегу озера, в Балатонфюреде. Здесь тихо, провинциально, красиво, совсем не шикарно. Здесь не бушуют валютные смерчи, и сюда не поехал бы Ласло. На длинном авеню Рабиндраната Тагора шумят могучие деревья. Сердечники с лиловыми подглазьями выходят из углекислых ванн и после некоторого колебания идут в романтический трактирчик, где золотистый рислинг цедят прямо из бочек.
Балатон я пересек на пароходике. В Шиофоке остановился в одном из отелей, выстроившихся на набережной Петёфи, как гвардейцы на параде.
Ночью я вышел на балкон. Платиновый месяц скатился с черного купола и застрял в пролете между тополями. Маленькие озерные волны что-то наушничали береговому бетону. Из ночного клуба «Эден» доносились протяжные гнусавости певицы, работавшей под негритянские спиричюэлс. Всю ночь эта приземистая двухэтажная коробка Neight-club'a сотрясалась от клокотавших в ней взвизгов и барабанных топотов.
Ласло я увидел утром в кегельбане отеля. Он разносил коктейли игрокам. Огромные деревянные шары с театральным громом катились по желобам. Некоторое время я наблюдал за Ласло. Он сильно преуспел по части официантской грации. Его скользящая походка стала почти конькобежной. В поклоны, с какими он принимал чаевые, он вкладывал оттенок обожания.
Вечером ко мне зашел работник районной администрации. Он прибыл из села и принес с собой арбуз и бутылку абрикосового самогона. Я хлебнул этой оранжевой жидкости. Мне показалось, что я проглотил горящую свечу.
Я рассказал ему о своих наблюдениях над Ласло. Он вздохнул:
— Да... курорт этот нам очень выгоден. Но кой-кого из ребят он сбивает с толку... Правда, таких мало...
Я пробовал возражать, говоря, что такие вещи не измеряются количеством, что статистический метод несовместим с нравственностью, что душу человека не втиснешь в баланс прибылей и убытков.
Он уверял меня, что такие, как Ласло Рети, исключение даже на той скользкой дороге лакейства, где так легко споткнуться. И нет ничего удивительного в том, что дорога эта длинная.
— Потому что, — сказал он, — мы страна туристическая и туризм для нас крупная статья национального дохода. Присмотрись к другим ребятам.
Я присмотрелся. Не здесь, правда, а в Веспреме, куда я скоро попал. Старинный город, некогда резиденция королей, набитый историческими зданиями, тоже сочная приманка для туристов.
Здесь я познакомился с Аттилой Ковач. Он нисколько не напоминал своего знаменитого тезку, вождя гуннов, которого называли «Бич божий» и «Молот вселенной». Мой Аттила в лучшем случае может сойти за Кнопку вселенной — так он мал, хил, тих и скромен. Он вызвался быть моим гидом. Небольшое существо его набито краеведческой ученостью. Он показал мне старинные дома, по-венгерски сказать — мюэмлеки, их здесь множество. Видать, в старину крепко строили. Аттила не задумываясь называл имена их владельцев, епископов, купцов, полководцев. Я приоткрыл старинные кованые ворота одного из домов. За ними, к моему удивлению, укрывался вполне современный дом. В окнах я увидел жильцов, они отвернулись с явным неудовольствием, — видно, им надоело быть достопримечательностью.
Аттила показал мне также статую святого Флориана, покровителя пожарных. Он привел меня к черепу античной римской барышни и лежащему рядом с ней ее браслету. Наконец, он показал мне средневековую крепость, воздвигнутую на скалистом утесе. Там сейчас музей, на стене висит подлинный гуннский меч, — возможно, его носил сам «Молот вселенной». Меч раза в полтора длиннее моего Аттилы. Порог крепости изрешечен — работа английских бомбардировщиков в годы второй мировой войны. Но это пока еще не считается достопримечательностью, надо подождать пару сот лет.
Расставшись с Аттилой на городской площади, я в тот же день снова увидел его в отеле. Но уже в других качествах. Он переодевается с быстротой циркового трансформатора из ливреи грума в фартук носильщика, из балахона швейцара в лоснящийся черный пиджак, который он считает таким респектабельным.
Он услужлив без лести. Скромен без самоуничижения. Полон искренней благожелательности. Усердно учится языкам и истории. Не брезгует никакой работой. И не «выбивает валюту». Но это, ясное дело, еще и свойство души.

МОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ДРУГ
Палачи неразговорчивы. Истязатели не оставляют мемуаров. Они делают свое заплечное дело за стенами крепостной толщины. Отсюда и родилось это жуткое слово: застенок. Поэтому когда мой новый знакомый Иван Францевич заметил мельком, что существует официальное руководство по технике пыток, я не поверил.
— Где?
— Да у нас в Шопроне, — сказал он неохотно.
— Едем!
Так я оказался в этом венгерском городке у самой австрийской границы. Он так очарователен со своими средневековыми домами и отрогами Альп, вторгающимися на его окраины, и плывущим оттуда ароматом горных лугов, и всем своим неторопливым маршем жизни, что я поначалу забыл о цели моей поездки. Я бродил по древним улочкам, как по залам музея. Мое пристрастие к башням получило полное удовлетворение, когда я увидел Ратушу — шестидесятиметровый девственно белый цилиндр, обвитый в вышине нежной аркадой.
Иногда меня сопровождает Иван Францевич. Он приезжает ко мне обычно на ветхом велосипеде. Дамском! Потому что он уже не рискует заносить свою склеротическую ногу над рамой мужского. Он оставляет его по соседству с гостиницей, в клубе глухонемых.
Я подружился с этим восторженным, хитрым и наивным стариком. Он считается здесь лучшим знатоком русского языка. Его школой был русский плен, куда он попал в годы первой мировой войны.
В разговоре со мной Иван Францевич любит щегольнуть словечками, которые он считает исконно русскими, народными. Так, например, о своем друге, глухонемом привратнике, он говорит:
— Это мой панибрат.
Рекомендуя мне маленькую домашнюю столовую в чинном семейном доме, Иван Францевич прибавил:
— Это очень хороший притон.
Когда я благодарю его, он в ответ на «спасибо» вместо «не за что» выпаливает с необыкновенным воодушевлением:
— Ни за что!
Иногда он поражает меня какими-то совершенно замшелыми, ископаемыми речениями, вроде «дознамо», или «присно», или «сутемень». Откуда они к нему? Оказывается, он извлекает их из ранних стихов Есенина. Он не расстается с ними. Да, он постоянно таскает этот истрепанный томик в кармане своего некогда респектабельного сюртука, как источник современного разговорного языка.
Однажды забрели мы с ним в капитул францисканского монастыря. Здесь некогда заседало клерикальное начальство, вершило дела обители и судьбы людей. Вероятно, при этом взгляды отцов каноников рассеянно скользили по сводчатому потолку, под которым сейчас стоим мы с Иваном Францевичем. Там доныне, как и в XIII веке, витают грехи. Они расселись на верхушках колонн, подобно капителям. Вот рак — это обжорство. Вот обезьяна — знак зависти. Вот медведь, сосущий лапу,— символ лени. Очень ловко, даже талантливо изваяно все это безвестным скульптором, несомненно человеком с горячим воображением и, по всей вероятности, самолично понаторевшим в греховных соблазнах, а под старость ударившимся в добродетель, как это, между прочим, бывает и поныне с многими отставными жизнелюбцами, когда в них утихает зов плоти (как это, к слову сказать, было и с самим основателем сего монашеского ордена, блаженным Франциском Ассизским). А вот сова — гнев, злость, ехидство. Вот и сладострастие — мужчина и женщина с звериными конечностями, сплетенные в непристойной позе. Но где же в этом начальственном кабинете лихоимство, где волюнтаризм, где самодурство, беспринципность, карьеризм, где чванство?
Как в игрушечном яйце или в деревянной матрешке одна фигурка заключена в другой, так внутри этого города-музея гнездятся маленькие музейчики. Есть среди них и частные. Например, музей, некогда основанный трубочистами. Лазая по чердакам, они подбирали там брошенную мебель, лампы, пришедшие в негодность, льстивые портреты богатых теток. Но ведь всякий хлам, ветошь, утиль с течением веков становится стариной. Любая дребедень, накопив стаж, делает ослепительный взлет — из мусорного ведра в музей.
Забрели мы также на улице Уй в старинную синагогу, ровесницу своего францисканского собрата. Она особенно редкостная достопримечательность, потому что гитлеровцы уничтожили синагоги по всей Европе. Но эта забилась в гущу старинных толстостенных домов, и фашисты проморгали ее.
Тут по естественному ходу мыслей я вспомнил, зачем, собственно, я приехал в Шопрон. И мы пошли в музей Петти-Лангеров. Тоже, кстати, частный.
Там мы увидели «Терезианум».
Перед нами лежал огромный фолиант:
УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ
ТЕРЕЗИАНУМ,
ИЛИ ЕЕ
РИМСКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕНГРИИ
И БОГЕМИИ И Т. Д. И Т. Д. КОРОЛЕВСКОГО
АПОСТОЛИЧЕСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
МАРИИ ТЕРЕЗИИ
ЭРЦГЕРЦОГИНИ АВСТРИЙСКОЙ И Т. Д. И Т. Д.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
Отпечатано Иоганном Томасом Эдлен
фон Троттнерн
Императорским королевским придворным
издателем и книготорговцем
1769 год
Таков титульный лист — по-немецки, конечно, как и вся книга, — и он выглядел так пышно, торжественно, даже элегантно, что я вопросительно посмотрел на Ивана Францевича.
Он сказал уныло:
— Зрите на задней стороне листа.
Я перевернул страницу. Тотчас мне захотелось захлопнуть книгу. Я заставил себя перелистать ее. Я увидел кошмары, тем более ужасные, что они были преподнесены в бесстрастном стиле технических инструкций. Рядом с изображениями пыточных инструментов с академической дотошностью излагался способ их применения, инструктаж для палачей и судей.
Да — и судей! Ведь это «процессуальный кодекс». Судья добивался признания у своих жертв. Ибо идеальным доказательством вины считалось в те времена признание подсудимого. Да только ли в те времена... Вот судья и допытывался. Это так и называлось: испытание.
Знала ли об этих ужасах Мария-Терезия, в чью честь была озаглавлена эта книга мучительств?
По отзывам современников, то была дама властная и сентиментальная. У нее всегда глаза были на мокром месте — расчленяла ли она целые страны или отдельных людей. Прусский король Фридрих II, с которым Мария-Терезия участвовала в двух разделах Польши, сказал о ней:
— Elle pleurait, mais elle prenait toujours. ]Она рыдала, но она всегда брала (франц.).[
Лицемерие — сестра жестокости. Перед тем как пытать подследственного, судья возносил молитву о ниспослании его жертве бодрости духа.
Несомненно, Мария-Терезия читала еще в рукописи этот страшный учебник страданий, в заглавие которого вошло ее имя. И, конечно, пускала при этом слезу. А прочтя, наградила старательного издателя орденом, что в ту пору было равносильно редакторскому одобрению.
Она одобрила пытку тела щипцами. Она одобрила дыбу, когда подсудимому отводили руки за спину, вдевали их в петлю и на блоке вздергивали кверху. Кожа у человека лопалась, кости ломались, палач стегал его плетью по голому телу. Судья в это время вел допрос. На рисунке в «Терезиануме» это все очень наглядно вычерчено.
Там есть много других рисунков: стискиванье пальцев рук и ног в клещах, пригибание головы подследственного специальным агрегатом к ногам так, что он превращался в некий живой обруч, кровь при этом текла из ушей, носа, рта, даже из глаз.
Все эти рекомендованные методы следствия сопровождаются в «Терезиануме» сухими, четкими описаниями, как это делается в схемах, приложенных, например, к игрушечному набору «Конструктор» или к электрическому утюгу.
— Как низко стоял человеческий морал в то время, — сказал Иван Францевич, сокрушенно качая головой,— как допытывали живого человека до смерти только за то, чтобы взыскать с него сознание. Ай-ай-ай, какой зазор! Помыслите, всего двести лет тому...
— Иван Францевич, побойтесь бога! — вскричал я.— Почему «в то время»? А сейчас? Или вы забыли о фашистах?
— Для чего забыл? — искренне удивился он. — Ничто не забыл. Да, то есть злодеи. Они навели пагубу на миллион людей. Однако не терзали.
— Не терзали? А порка? А срывание ногтей на руках и ногах у русских пленных? А выкалывание глаз? А прижигание раскаленным железом? Знаете ли вы, что когда немцы отступили за Днепр, там были найдены трупы русского командира батальона и его комиссара. Они были распяты, как некогда Иисус Христос или повстанцы Спартака. На их спинах были кровавые пятиконечные звезды, вырезанные ножами на живом теле. Рядом лежал труп бойца с отрезанными ушами и обугленными ногами.
Иван Францевич замахал руками.
— Не надо, не надо! — пробормотал он. — Зачем вспоминать кручину? Знал, что эти заплутай поступали с русскими дебело. Но не знал, что так болезненно.
— С русскими? А с французами? В гестапо в Париже, на улице Соссэ! На допросах им ломали руки и ноги. Без всяких дыб ее апостолического величества, а просто прикладом или ручкой для заводки автомобиля.
— О! Они мало не психопаты, как говорится по-русски, без царя-батюшки в голове.
— Иван Францевич, это были вполне нормальные люди. Иногда такие же сентиментальные, как Мария-Тереза. Палач Рамдор в лагере Равенсбрюк, придумавший пытку ледяной водой, во время прогулок за городом делал странные маленькие прыжки, чтобы не раздавить попавшего ему под ногу жучка или божью коровку.
Иван Францевич успокоительно погладил меня по руке.
— Люди воспарили, — сказал он. — Ныне стало досталь хорошо, как некогда, как в мирное время.
«Мирным временем» Иван Францевич считал все, что было до августа 1913 года, когда сербский студент с многозначительной фамилией Принцип убил наследника австрийского престола и распахнул ворота в эпоху мировых войн и великих революций.
— Вы хотите, — сказал я, — сдать преступления в музей. Но жестокость — это не старинный будильник, не кресло в стиле ампир. Горе человечества в том, что страдание всегда современно... И не музеями надо бороться с ним, а…
Я замолчал, потому что увидел, что говорю в пространство. Люди придумали разные образы для отстранения себя от зрелища страданий, — например, легенду о страусе, прячущем свою голову в песок. Или, как это предложили экзистенциалисты, опускать в таких случаях два маленьких плотных занавеса, которые есть у каждого из нас на глазах. Иван Францевич попросту бежал от меня, как он сам признался позже — «преподнес вам стрекача».
Через несколько минут я увидел его.
Он возвышался... нет, точнее сказать — не возвышался, а торчал над своим дамским велосипедом. Да, его черное неподвижное туловище, слишком длинное для этой маленькой машины, неправдоподобно торчало над седлом, пока он быстро и мелко перебирал педали негнущимися ногами.
Долго была видна его спина, обтянутая черным сюртуком, еще сохранившая военную выправку австрийского лейтенанта эпохи Габсбургов. Среди потока автомобилей, среди грохота радиовоплей, на фоне неоновых огней Иван Францевич был похож на привидение из далекого сладостного предания о Мирном Времени.

БЫЧКИ В МАРИНАДЕ
Фронтовое небо в дыму, в отблесках пожаров. И это так обычно, что ни Женя, ни Рая не обращают на него никакого внимания. Рая откинула капот автоларька, на стене которого надпись: «Военторг». Она копается в моторе. Жарко. Иногда, забывшись, она смахивает пот с лица и еще больше измазывает его грязной, закопченной рукой. Спохватывается, досадует.
Женя в ларьке. Хлопот у нее, видать, по горло. То — к полкам, пересчитывает консервные банки, бутылки, то — к стойке, щелкает на счетах, записывает.
Все это — во дворе полуразрушенного здания. Часть стены рухнула, обнажилась внутренность дома, комнаты о трех, иногда о двух стенах. Там обломки буфетов, столов, стульев, перевернутые кровати, распоротые диваны. В угловой комнате первого этажа — зеркало, расколотое наискось. В другой — над крошевом из мебели и кирпичей мирно покачивается, свисая с потолка, лампа с оранжевым абажуром. В другой — веселенькие обои в лохмотьях и на гвозде женская шляпка, кокетливо изогнутая и запорошенная известью с проломленного потолка. На третьем этаже большая брешь, из нее наполовину вывалилась наружу детская коляска и торчит передними колесиками над двором.
Раиса, рослая некрасивая девушка в комбинезоне, вдруг застыла, прислушивается:
— Опять пулемет...
Женя рассмеялась. Она хорошенькая, чистенькая, голова в кудряшках, губы подмазаны. На синий опрятный халатик выбивается воротничок белоснежной блузки.
— Что ты, родненькая, — говорит она, — это же я на счетах. Морока мне с этим месячным балансом! С ума сойти! Смотрю я на тебя, Раечка, аж зависть берет: знаешь свой мотор и — никаких. Прелесть!
Не подымая головы, из глубины капота, Раиса говорит своим низким, грудным голосом:
— Ты совсем еще девчонка, Женя. Хоть ты три года замужем, а совсем еще сопливенькая.
Женя положила локти на стол, голову на руки, говорит, глядя мечтательно в дымное небо:
— Представляешь, Раечка, до войны в это время, чуть только июнь месяц, мы с Виктором мигом на курорт. А как же! Дикарями. Аж до осени. Он же у меня в вузе. А я еще со школы, не знаю, как ты, а я завсегда обожала начало учебного года. Тебе это что-нибудь говорит? А мне говорит. Обожаю запах обложки новой общей тетради. Ух! Так бы и съела ее. Ну, зимой, конечно, каток. Мы больше на Петровку, лед синий, свитера белые, фонари, музыка, коньки аж визжат. Ой, не могу...
— Женька, ты определенно устала. Перепросись во второй эшелон. Тебя майор переведет. Он на тебя глаз положил.
— Ты, Раечка, моего Виктора совсем не знаешь?.. Ой, что это бухает?
— Зенитки.
Большие Женины глаза, тщательно подведенные, панически расширяются, она вскрикивает в ужасе:
— Мы с тобой болтаем, а я смотрю — у нас совсем бычков в маринаде не осталось!
Раиса обеспокоенно подняла голову:
— Ну? Придут ребята — скандал.
— Так я сейчас сбегаю на базу, принесу.
— По Большой Советской не пройдешь. Там сейчас рубеж.
— Да? Так я дворами проберусь. Совсем же нет бычков в маринаде. Умереть!
— Только без трёпа, терпеть не могу этого слова. Обе молчат, прислушиваясь к недалекой канонаде. Потом Рая, сурово сводя брови:
— Что дворами, что не дворами — один черт. Вот, слышишь, опять летят.
Они вслушиваются в надвигающийся гром самолетов. Они не хуже солдат наловчились различать «своих» от «чужих». Да, сейчас летят «они», «те», — в громовое жужжание вплетается тонкий, комариный, зудящий, невыносимо противный звук.
— Ладно уж, — говорит Женя. — Думаешь, Виктору там легче? Ой, я уже три дня не видела его. А вдруг он сегодня придет? Может так случиться? А почему нет?
Она вынимает губную помаду.
— Зачем ты губы подмазываешь, ненормальная?
— А вдруг я Виктора встречу? Мало ли что. И вообще — не надо опускаться. Смотри на себя — замурзанная, как трубочист. Придут ребята — не поймут, баба ты или мужик.
Хохочет.
— Чего ты?
— Не обижайся, Райка, мне вдруг в голову: трубочист — какое смешное слово, да? Кто сейчас чистит трубы? Бред!.. Ну, я побежала.
Схватив мешок, Женя устремилась к воротам.
Свистя над крышами, пролетает снаряд. Женя остановилась. Потом:
— Поцелуемся? На всякий пожарный...
Они целуются.
Снова свист снаряда.
— Ну, ничего, — шепчет Женя и уходит.
Рая смотрит ей вслед. Потом по грудам битого кирпича пробирается в комнату с зеркалом. Придирчиво осматривает себя. Поправляет волосы. Слюнит платок и вытирает им щеки.
Вдруг вздрогнула, услышав шаги. Через провал в стене входят три бойца. Маленький, быстроглазый, с лычками младшего сержанта, с забинтованной рукой — Илья Хаскин. Крупный, солидный, не первой молодости — Семен Семиглазов. Третий, Богдан Горбоконь, щуплый, рыжий, совсем молоденький, дремлет на ходу, глаза полузакрыты, пошатывается. Все трое в копоти и в белой известковой пыли. У каждого с плеча либо с шеи на грудь свисает автомат, за поясом кинжал.
Хаскин нетерпеливо поглядывает на Горбоконя, толкает его. Тот не просыпается. И только когда сержант берет его за шиворот и сильно встряхивает, Горбоконь приоткрывает глаза.
— Ишь устроился, на ходу дрыхнет, чистый верблюд!— в сердцах говорит Хаскин. — Слышь, Богдан, мы пришли!
— Ну что ты пристал к человеку? — замечает Семиглазов. — Видишь, человек заморился.
Приближается Рая.
— Девушка! Покупатели пришли! Выставляйте товар! — кричит Хаскин.
Он настроен восторженно. Он жив, он видит девушку, он будет есть, пить, петь, танцевать, — хоть полчаса, да его!
Раиса сдержанно ответствует:
— Здравствуйте.
Горбоконь прилег на кучу камней и заснул.
Основательный Семиглазов соорудил из кирпичей нечто вроде столика, прикрыл его многотиражками, извлеченными из кармана. Хаскин меж тем разливается.
— Богатый у вас ларек! Все, что нужно, кроме любви, а? Верно, девушка? Или я ошибаюсь?
Рая так же сдержанно:
— Откуда вы, товарищи?
Хаскин:
— Если я вам скажу, что мы из санатория для сердечнобольных, так вы ж мне все равно не поверите.
И сам хохочет.
Семиглазов обнаружил в углу двора бак с водой. Кричит Хаскину:
— Илья! Тут есть вода. Помоемся.
— Помыться? А стоит ли? На время помыться не стоит труда, а вечно помытым быть невозможно. Правда, товарищ продавщица?
— Меня зовут Раиса, и, собственно говоря, я не продавщица.
— А, собственно говоря, кто же вы? Графиня Монте-Кристо, извиняюсь за выражение?
— Нет, я шофер.
— Вот это здорово! Так мы же товарищи по профессии. Я ж водитель танка. Гвардии младший сержант Хаскин. Он — гвардии красноармеец Семиглазов. А третий наш — гвардии красноармеец Горбоконь. А где он? Спит? Вот специалист, язви его в корень! Извиняюсь, конечно. Богдан!
— Да не чипай ты его. Человек из сил выбился. Пусть поднаберет минуток тридцать. А мы пока заправимся. Правда, товарищ Раиса?
— Ладно уж, — говорит Рая, сохраняя свой хмурый вид, — обслужу вас. Только предупреждаю: с бычками в маринаде у нас прокол, продавщица только пошла за ними.
— Бычков нету? — комически кричит Хаскин. — Ой, держите меня, падаю! А еще чего у вас нет? Говорите уж сразу. Шампанского тоже нет? И икры зернистой нет? А скоро придет продавщица?
— Должна скоро, если ничего не задержит. Это близко, на Большой Советской. Как там сейчас?
— Порядок! Коммунальное хозяйство на высшем уровне: ежедневная поливка улиц из пулеметов. Городок у нас благоустроенный.
— А вы веселый.
— Ребята не жалуются. А, Сенька?
Семиглазов солидно подтверждает:
— С ним, Раечка, и в бою не соскучишься.
— Я люблю таких, — шепчет Рая и ставит перед бойцами на кирпичи сухари, банку тушенки, бутылку фруктовой воды. — Ешьте, пожалуйста. Захочется еще — скажете.
Семиглазов вспарывает кинжалом банку, оба зачерпывают сухарями тушенку.
— Конечно, с бычками не сравнишь, но есть можно. А вы, Раечка, я вижу, награжденная. На нашем участке?
— Нет, это еще за Халхин-Гол.
Хаскин вынимает из заднего кармана брюк фляжку. Оба отпивают. Семиглазов традиционно крякает и говорит, отирая свои гвардейские усы:
— Вот тут бы бычки в маринаде в самый раз.
Хаскин встает.
— Спасибо, девушка, — говорит он. — Красиво нажрался. А что у вас там вообще подходящего?
Он подходит к ларьку.
— Что я вижу — пластинки! А что толку? Все равно что горючее без мотора.
— И мотор есть, — говорит Рая.
Она извлекает из-под стойки патефон и ставит его на кирпичи.
— Нет, это не девушка, а золото! — восхищается сержант. — Как за такую не выпить!
Он поднял флягу и вдруг застонал, схватился за перевязанную руку.
Раиса сочувственно:
— Вам бы в госпиталь.
— Вы бы мне еще посоветовали попроситься в детский сад, — огрызнулся сержант.
— Вы же ранены, — смущенно бормочет Рая.
— Я?! Еще не один десяток снарядов и бомб те немцы истратят на меня, пока я лягу в госпиталь. Так ваше здоровье, Раечка!
Оба бойца пьют.
— А Богдан уклоняется? Это неэтично. Эй, Богдан! — кричит Хаскин.
— Не тормоши его, — замечает Семиглазов с укором,— дай человеку отойти. Человек не в себе.
Горбоконь во сне вдруг разражается криком:
— Заходи справа!.. Бей его!..
— Ему же сейчас тяжелее, чем нам, — говорит Хаскин, качая головой. — Он же все еще в бою. А мы пируем, балакаем с интересной девушкой...
Рая, польщенная и растерянная, отмахивается энергичным жестом. В это время длинная очередь из пулемета.
Хаскин, не прерывая речи, продолжает:
— ... Рядом оркестр исполняет вещи, любимые публикой. Чистый парк культуры и отдыха.
— Да... — вздыхает Семиглазов, — хоть полчаса, да наши.
— Так мало? — огорчилась Раиса.
— Да, Раечка, нам скоро обратно. Увидимся ли? — замечает Хаскин.
Он заводит патефон, ставит пластинку. Звучит песенка. Ее нежные переливы то и дело заглушаются грозными раскатами канонады.
— А я вас вчера видела, — говорит Раиса.
— Ну? Как же это я вас не приметил!
— На Большой Советской. Вы вышли из танка. С товарищами. По-моему, вас было четверо. Семиглазов подымает голову и бормочет:
— Да, нас было четверо...
— Вот вы трое и еще один, такой стройный, волосы светлые, запыленные, он смеялся все время.
Раиса смотрит на Хаскина и Семиглазова. Они молчат, и это ее удивляет.
— А почему он сейчас не с вами? — спрашивает она. Хаскин невесело усмехается:
— Да, нас сейчас только трое... А могло быть двое... Или вообще ноль. Да, нас свободно могло быть ноль.
— Эх, Виктор, Виктор... пусто нам без него... — вздохнул Семиглазов.
Хаскин отозвался с какой-то яростной злобой:
— Всякая дрянь живет, а такой парень погиб!
— Да, это еще надо уметь — так погибнуть, как он,— сказал Семиглазов.
— Почему? — удивилась Раиса.
— Что вы понимаете в этом, девушка! — сказал с горечью Хаскин. — Он утащил с собой в могилу штук двадцать фрицев. Сеня, помнишь его любимую поговорку?
— А как же!
— Он, Раечка, имел привычку говорить: «Моя основная профессия на сегодняшний день — это таскать фрицев в могилу». И он таскал их, будьте уверены.
— А как он погиб?
Они молчат. Наконец Семиглазов неохотно:
— Его танк загорелся.
— А вы как же?
— А нас там не было.
— Почему?
— Дотошная вы, — сказал с досадой Хаскин. — Ну ладно, надо рассказать. А то вам, пожалуй, втемяшится в башку, что мы его бросили. Танк загорелся, можете вы это понять? Мы все выскочили.
— И он?
— И он. Только он вернулся...
— Куда?
— Сеня, объясни, а то я слишком волнуюсь.
— Танк загорелся, — начал своим обстоятельным голосом Семиглазов. — И поползли мы. Все четверо. Вдруг — хвать! — Виктора нет. Глядим — он рванул обратно к танку. Мы за ним. А он уж там. И разогнал танк в самую гущу немецких машин. Представляете? Мчится со скоростью в семьдесят километров и вламывается в машину с боеприпасами. Взрыв — дай бог!..
— А он?
Семиглазов машет рукой:
— Ну что он...
— А все-таки, может быть...
Хаскин вскипел:
— Там камни превратило в пудру! Металл — в воск!
После молчания заговорила Раиса:
— Як вам пристала... извините... Он такой веселый был вчера... Голова золотая, запыленная...
Хаскин резко встает, идет к патефону, заводит, ставит пластинку «Салонное танго».
Шаркнув сапогами, он говорит;
— Разрешите вас пригласить?
— Что за шутки!
— Брезгаете?
— Как вы можете? В такое время...
— Не хотите, значит? Делаете большое одолжение Гитлеру. Он же этого и добивается, чтобы русским было, извиняюсь за выражение, каламутно, то есть, в общем, грустно, потому что когда человеку грустно, так у него опускаются руки и он слабеет. А Гитлеру как раз большой интерес, чтобы у нас опустились руки и чтобы из тех рук выпало оружие. Так нет же! Не дождет он этого! Гляньте на этот клен, Раечка. В него попал немецкий снаряд, так? А он плюет на тот снаряд. Он живет себе и цветет. У этого дерева мой характер. Не скисать! Не рассопливаться! Не раскорячиваться перед Гитлером, а стоять на ногах и бить его, бить и забить аж до смерти! Вот сейчас мы с вами потанцуем, Раечка, а потом я с Сеней и Богданом пойдем туда и будем драться еще злее.
Входит Женя с мешком за спиной. Останавливается в удивлении:
— С ума сойти! Патефон играет...
Хаскин обрадованно восклицает:
— Вот и пополнение для танцев прибыло!
Он галантно расшаркивается своими тяжелыми сапогами:
— Гвардии младший сержант Хаскин.
Женя протягивает руку:
— Женя.
Семиглазов пытается подражать поклону Хаскина, которого он считает большой докой по части изящных манер:
— Семиглазов.
Женя разгружает мешок.
— Раечка, ничего, что я так долго? Понимаешь, в одном месте пришлось немножко полежать. А мины над головой, как бешеные кошки, — мяу! мяу! А я лежу, значит, и думаю: примет у меня Тарасевич месячный отчет или не примет? Принял! Я так рада! Только легла, не заметила, что прямо в лужу. Ну ничего. Тарасевич сказал, что в местных условиях это допустимо. Зато принесла все, все!
И она прибавляет с некоторой торжественностью:
— Товарищи, есть бычки в маринаде!
— Красота! А, Сеня? — заявляет Хаскин. — По парочке банок мы с собой захватим. Как это по местным условиям, допустимо?
— Господи, а для кого же я принесла!
Раиса застенчиво:
— Они меня уговаривают танцевать...
— А что ж, Раечка, мы с мужем часто танцуем. Он у меня заводной. И поем вместе. Сядем рядышком и поем. А потом он уходит...
— Куда, позвольте спросить? — светским тоном справляется Хаскин.
— А туда, на передний край. Вот я вас спрошу, товарищи, я у всех это спрашиваю. Может, вы случайно видели его? Или что-нибудь слышали о нем? Он лейтенант. Его фамилия Усатов. Лейтенант Усатов.
Наступает молчание. Раиса встревоженно оглядывает бойцов. Она начинает кое-что понимать. Но ей не хочется в это верить.
Наконец молчание, которое становится томительным, прерывает Хаскин:
— А имя?
— Виктор. Виктор Усатов, лейтенант. Он в танковых войсках.
Снова наступает молчание. И пластинка доиграла, и канонада почему-то прекратилась. Снова заговорил Хаскин:
— Нет, не знаю такого.
Женя к Семиглазову:
— А вы?
Тот мнется, бросает робкий взгляд на Хаскина, потом, потупив глаза:
— Не знаю. Ничего не знаю...
— Но вы как-то странно говорите... Раиса, он как-то странно говорит...
— Почему странно? — вмешивается Хаскин. — Нормально говорит.
— И вы переглянулись. Раиса, ты видела, они переглянулись! Вы что-то знаете про Виктора!
Хаскин рассмеялся. Семиглазов поддержал его дребезжащим смехом. И сразу смолк. А Хаскин:
— Ну и чудачка же вы, Женя! Она всегда такая, Рая? Говорят вам русским языком — мы такого лейтенанта знать не знаем и ведать не ведаем. Лейтенантов в Красной Армии, слава богу, хватает. Ты что молчишь, как вкопанный, Семен?
— Ой, лейтенантов у нас завались... — бормочет Семиглазов и машет рукой.
Женя переводит глаза с одного на другого;
— Вы правду говорите?
Тут вмешивается Раиса:
— Ну что ты пристала к людям! Люди пришли немножко отдохнуть, немножко развлечься, а ты пристала к людям. Говорят — не знают, значит, не знают. Знали бы — сказали бы. Верно говорю?
Хаскин кидает на Раису благодарный взгляд:
— То есть в самую точку.
Семиглазов тяжело отдувается, отирает пот. Женя извиняющимся голосом:
— Не сердитесь на меня. Я стала такая слишком нервная.
— Ничего, ничего, — великодушно замечает Хаскин.
— Между прочим, Илья, нам пора, — говорит Семиглазов.
— Да, нам пора,— подтверждает Хаскин.
— А говорили, у вас есть еще полчаса, — укоризненно восклицает Раиса.
Женя всплеснула руками:
— Ой, это из-за меня! Пришли отдохнуть, а я вас занудила своими вопросами. Правда, откуда вам знать Виктора... Ой, какая я! Не уходите, вы можете еще хоть немножко отдохнуть. Ну, самую капельку! Вы же любите потанцевать. Раечка, поставь эту, знаешь, с гавайской гитарой. Дивная пластинка! Ну, давайте!
— Знаете, — мнется Хаскин, — не стоит... Не надо танцевать... Не стоит...
— Почему не стоит? — снова встревожилась Женя. — Раечка, почему он сказал «не стоит»?
— Да что вы, ей-богу? — поспешно вставил Семиглазов. — Желаете танцевать? Да за милую душу!
— Ладно, — угрюмо пробормотал Хаскин, — потанцуем...
И Раиса присоединилась с деланной бодростью:
— Конечно, потанцуем!
Они танцуют под звуки патефона — Женя с Хаскиным, Раиса с Семиглазовым. Женя снова беззаботна, танцуя, напевает. Хаскин непривычно молчалив, старается не смотреть на Женю.
— А вы хорошо танцуете, — говорит Женя. — Только вы какой-то чересчур серьезный.
— Когда танцуешь, надо работать не языком, а ногами, — говорит Хаскин неожиданно сердито.
Женя робко умолкает. Потом вдруг хохочет:
— А я думала, вы веселый, вроде моего Виктора. Ну, расскажите что-нибудь.
Семиглазов, осторожно обняв Раису, выделывает ногами какие-то фантастические узоры. Раиса говорит ему вполголоса:
— Я сразу поняла, что это он...
Хаскин, по-прежнему не глядя на Женю:
— А я вообще молчаливый. Я, знаете, очень мало говорю. С детства такой. Бывало, мамочка меня тормошит: «Ну, Илюшенька, ну, прочти стих, ты же у меня способный...» А я молчу, как какой-то истукан, извиняюсь за выражение. Слова из меня не выбьешь. Другой раз товарищи мне говорят: «Илья, что ты такой завсегда глухонемой? Скажи людям словечко». А я молчу, как в той песне, знаете: «Молчи, грусть, молчи...» Вот такой я нетрепливый. Природа моя такая чи что...
В это время Семиглазов, продолжая перебирать ногами, шепчет Раисе:
— Лучше бы ей уехать отсюда, пока она не узнала. А вы ей напишите. В письме легче. И похоронку пришлют...
Недолгая тишина прорывается канонадой. Женя останавливается, прислушивается:
— Опять... Это что же?
— А это, — говорит Хаскин, — нас зовут. Семиглазов облегченно вздыхает, берет оба автомата — свой и Хаскина.
— Знаете, через двор можно пройти ближе, — говорит Раиса. — Пойдемте, я вам покажу. Женечка, я сейчас приду.
— А вот опять стало тихо, — сказала Женя задумчиво.— И птицы поют. Подумайте, в этом городе еще есть птицы. Может быть, Виктор слышит их сейчас...
Хаскин говорит сквозь стиснутые зубы:
— Что-то у меня сегодня руки на фрицев особенно чешутся. Айда, Семен! До свидания, Женя!
— До свидания, товарищи, — говорит Женя приветливо.— Если случайно увидите лейтенанта Усатова, привет ему от Жени!
Семиглазов кивает в сторону спящего Горбоконя:
— А он?
— Проснется — догонит, — нетерпеливо говорит Хаскин. — Пошли, пошли!
Они уходят. Женя входит в ларек, расставляет товары. Напевает. Потом вдруг задумывается.
Горбоконь потягивается, издает долгий сладостный стон. Садится. Протирает глаза. Озирается.
— Ну и покемарил я!
— Здравствуйте, — говорит Женя. — Да, вы крепко спали. Тут так стреляли. А вы хоть бы что.
— А где Хаскин и Семиглазов?
— Только-только ушли.
— Ну! Так и я двину. Крепко же я... Недолго, а освежился, как из ванны.
— Вы бы закусили. Горбоконь колеблется:
— Не знаю... Мне надо догнать их.
— Так вы на скорую руку. Я вам быстро подам, и вы их догоните.
Она добавляет значительно:
— Есть бычки в маринаде. Она ставит перед ним банку.
— Ну ладно, — говорит он, — я мигом.
Он взрезает кинжалом банку. Ест.
— Кушайте, пожалуйста. И с собой возьмите. Они тоже с собой взяли. Что я вас спрошу, между прочим: Хаскин и Семиглазов ваши друзья?
Горбоконь отвечает с полным ртом:
— М-гм... Самые первые кореши. С начала войны.
— Хорошие они?
Горбоконь снисходительно:
— Ничего.
— Только почему Хаскин такой молчаливый?
Горбоконь воззрился на Женю с удивлением:
— Кто молчаливый? Илюшка Хаскин? Ой, девушка, вы меня рассмешили! Он парень что надо, можно положиться. Но он же трещит, как мотор на больших оборотах. Между прочим, довольно остроумный. Но мы, танкисты, чтобы вы знали, девушка, вообще за словом в карман не лезем.
— Значит, так.
— А что?
— Что ж вы не кушаете?
— А что ж я, по-вашему, делаю? Ну, все. Спасибо вам...
Он вскидывает автомат на плечо, поправляет на себе пояс.
— Минуточку! Что я хотела еще вас спросить, — я всех спрашиваю на всякий случай... Вы случайно не знаете такого — Усатова? Это муж одной моей подруги. Виктор его зовут. Лейтенант Виктор Усатов.
Горбоконь, уже сделавший несколько шагов по направлению к провалу в стене, останавливается.
— А жинка где его? — спрашивает он.
— Нет, она не здесь. Далеко в тылу.
— Любит его, часом не знаете? В общем, отношения у них нормальные?
— Очень даже нормальные.
— Тяжело будет ей.
— Что?..
— Он погиб сегодня утром. Слушайте, девушка, у вас не найдется еще баночка бычков? Что-то у меня аппетит сегодня разгулялся. И бычки ваши — во!
Во двор входит Раиса. Женя кричит:
— Вы врете! Не может быть, чтоб Виктор погиб!.. Раиса, сразу все поняв, подбегает к Жене:
— Не слушай его! Он ненормальный! Его демобилизуют! Он псих! Он не знает, что говорит!
— То есть как это так? — возмутился Горбоконь. — Что вы там плетете? Кто псих? Это вы, наверное, псих! А про лейтенанта Усатова я вам говорю, что он сегодняшний день погиб на поле боя геройской смертью, ворвался на горящем танке в немецкие машины. Вся дивизия об этом знает! Какая-то чересчур нахальная девушка!
Женя повторяет без конца, уставившись невидящими глазами в Раису:
— Мой Витя... Мой Витя... Мой Витя... Горбоконь смотрит на нее. Потом, обращаясь к Раисе:
— Что вся эта петрушка означает?.. Что-то, мне кажется, я дурака свалял...
— Молчите. Виктор Усатов — ее муж.
— А мне она сказала, что не ее...
— Соображать надо. Если есть чем!
— Да... Неладно получилось... Слушайте, девушка, мы все горюем. Усатов же погиб. Как герой! Можно позавидовать его смерти...
— Да! — восклицает Женя. — И я завидую его смерти, потому что я не могу жить без него!
Она срывает автомат с плеча Горбоконя и бежит через двор.
Раиса за ней:
— Женя! Женя! Держите же ее!
Горбоконь догоняет Женю и отнимает у нее автомат. Она вырывается:
— Пустите меня! Я хочу сама рассчитаться за Виктора с этими гадами! Я хочу умереть, как Виктор!..
Из провала в стене входит Виктор Усатов. Голова его забинтована. Из-под бинта выбиваются золотые запыленные волосы с запекшейся кровью. Левая рука также забинтована и на перевязи. С Виктором — Хаскин и Семиглазов. Услышав последние слова Жени, Семиглазов говорит в своей спокойной, обстоятельной манере:
— Зачем умирать, как Виктор? Надо жить, как Виктор.
— Витя! — вскрикивает Женя.
Она бессильно повисает в его объятиях.
— Вот видите, а вы говорили, — назидательно замечает Хаскин. — Оркестр, туш!
— Что это делается? — бормочет Горбоконь. — Или я действительно псих?..
— А может, ты еще не проснулся? — осведомляется Хаскин.
— Товарищ лейтенант, вы ж погибли! — восклицает Горбоконь.
— Пока еще нет,— смеется Виктор, — но сейчас погибну от голода и жажды.
Женя и Раиса кидаются к ларьку.
— Боже мой, вот паштет!
— Ужас какой, сгущенное молоко!
— Пиво!
— Сыр!
— Бычки в маринаде!
Горбоконь замечает глубокомысленно:
— Ах, значит, есть еще баночка?
— Ну вот, — говорит Хаскин, —товарищ Женя, мы доставили вам мужа в целости и сохранности... до некоторой степени, конечно.
— Идем мы, значит, по улице, — перебивает его Семиглазов,— и тоска нас взяла — прямо передать нельзя. И вдруг — на тебе! — навстречу товарищ лейтенант, живехонький, целенький, как огурчик.
— До некоторой степени, конечно, — добавляет Хаскин.
Женя, то смеясь, то плача, говорит бессвязно:
— Чудо!.. Как же так?.. Я же умирала... Что за жизнь без тебя?.. Вот я ожила!
— Понимаете, Виктор, они пришли, — говорит Раиса и кивает в сторону бойцов, — и растрепались, что вы погибли. Как же можно так!
— Я же сам видел! — кричит Горбоконь. — Мне же это не снилось! Собственными глазами видел, как ваш танк, товарищ лейтенант, взорвался промежду немецких танков. Скажете нет?
Усатов ест с жадностью проголодавшегося человека. Это мешает ему говорить.
— Взорвался, да, — говорит он. — Сейчас расскажу. Случай, правда, редкий...
Хаскин перебивает его:
— Вы кушайте, товарищ лейтенант, вам надо как следует заправиться. Я пока расскажу, что видел. Когда, значит, ваш танк налетел на ту немецкую машину с боеприпасами, так получился взрыв. Но как пошла сила взрыва? Вот в этом вся штука. Нам из-за огня и дыма ничего видно не было. Застлало.
— Прямо дымовая завеса, — подтверждает Семиглазов.
— Так разве ж в таком взрыве можно было уцелеть? — говорит, волнуясь, Горбоконь. — Ясное дело, мы решили: погиб лейтенант...
— Он не мог погибнуть! — кричит Женя.
— Почему? — искренне удивляется Горбоконь.
— Потому что он мой Витя! Неужели не понятно?
— Да, да, понятно, — испуганно соглашается Горбоконь.
Усатов, отвалившись от пищи:
— Ты же знаешь, Женечка, я вообще везучий. А в данном случае еще какой-то и летучий.
— А что я говорю? Сила взрыва пошла боком! — перебивает его Хаскин.
— Да ты помолчи! — сурово обрывает его Горбоконь. — Кто взорвался? Ты взорвался или лейтенант взорвался?!
Хаскин, не слушая:
— И тем взрывом товарища лейтенанта отбросило!
Семиглазов взволнованно:
— Далеко в сторону!
Горбоконь возмущенно:
— Дайте сказать человеку!
Усатов спокойно:
— Они верно говорят. И я очнулся в траве. В высокой, мягкой, пахучей траве. Что, где — не понимаю. Полынью пахло сладко-сладко. Ну, и горячим металлом. И этот запах вернул мне память. Ощупал себя — невредим.
— До некоторой степени, конечно, — вставил Хаскин.
— Да ерунда. Чуточку обожгло руку и голову. Но, товарищи! Женечка! Верьте, не верьте — до сих пор сомневаюсь: жив я или...
Семиглазов тоном глубокого убеждения:
— Живы, товарищ лейтенант!
Женя встрепенулась. До сих пор она сидела в счастливом безмолвии, в каком-то оцепенении радости, поглаживала тихонько руку Виктора, не отводила от него глаз. Она вскочила и сказала решительно:
— Мы утомляем его. Витенька, родной мой, тебе надо хорошенько отдохнуть, прийти в себя. Мы сейчас пойдем домой...
— Куда? — искренне удивился Усатов.
Он давно не слышал этого теплого слова и словно перестал понимать его.
— Домой. К нам, — повторила Женя раздельно, как ребенку. — В нашу комнату. Мы же туда позавчера въехали, помнишь? Перед тем, как ты ушел на передний край, помнишь?
Усатов нерешительно:
— Да... да...
— Я привела ее в порядок. Нашла во дворе дверь. Правда, она еще не навешена, но я ее прислонила. Получилось очень миленько. Ты сейчас увидишь.
— Там, кажется... — начал Усатов и замолчал, потому что раздался гул недалекой канонады. Все прислушались. Когда она стихла, Усатов закончил: — Там, говорю, нет куска крыши, помнится.
— Да, нету. Но, знаешь, Витенька, когда идет дождь, можно сесть в сторонку, и вода, оказывается, совсем почти не попадает. Уютно, прямо как в мирное время. Вот Раечка была, видела. Правда, Раечка?
Раиса промычала что-то неопределенное.
— Раечка, мы возьмем эту баночку. Ты же знаешь, Витька умирает за бычками в маринаде. Пошли, Витенька.
Усатов поднялся. Он как-то смущенно переминается с ноги на ногу. Он говорит извиняющимся тоном:
— Женечка, я приду. Я обязательно приду! И вообще мы устроим новоселье. Товарищи, я вас всех приглашаю на новоселье.
— Придем, товарищ лейтенант! — бодро восклицает Хаскин.— И подарки принесем!
Женя всплеснула руками:
— Ой, как хорошо ты придумал, Витька! Приходите, товарищи. Адрес наш простой, найти нас пустое дело. Значит, так: за угол от Горсовета, бывшая улица Первомайская...
Горбоконь, вынув карандаш:
— А теперь как ее?
— А теперь ее вообще нет. В общем, нужно пройти мимо разбомбленной бани, знаете, где высокая баррикада...
Горбоконь мусолит карандаш и тщательно записывает.
— Ага!
— И дальше, — продолжает Женя, — надо пролезть через стену Коммунального банка, там очень удобная брешь.
Семиглазов обрадованно:
— Знаю, уже знаю! Это влево от большой воронки?
— Во-во! И вы попадаете прямо к нашему парадному входу, как раз напротив остатков немецкого самолета.
Только, Витенька, надо же подготовиться. Знаешь, что я думаю...
Она берет Усатова под руку, отводит его в сторону и заводит с ним тихий разговор, — очевидно, на хозяйственные темы.
Горбоконь глядит им вслед. Потом к Раисе:
— Надо же! А?
Раиса, пожав плечами, отворачивается. У Горбоконя виноватый вид.
— Вы, наверное, на меня сердитесь, — говорит он,— что я вас обозвал чересчур нахальной. Так я же не знал... Это ж надо принять во внимание. Я, конечно, извиняюсь...
— Ничего. Я вас тоже обозвала психом. Так что все в порядке. Квиты.
Горбоконь, повеселев:
— Я вам скажу, мне даже по вкусу, когда девушка такая боевая.
Раиса бессознательно кокетливым движением оправляет на себе задымленный комбинезон.
— А это мне, собственно, без интереса, что там вам по вкусу.
Ответ этот, видимо, приводит Горбоконя в восхищение.
— На танцплощадке, — говорит он, — я бы на других нуль внимания. Сразу к вам!
— Тоже скажете! — отрезала Раиса, покраснев.
Тем временем Женя и Усатов закончили свои таинственные хозяйственные переговоры.
— Ну, Витенька, попрощайся с товарищами. Пошли до дому.
— Женечка, видишь, какая вещь... Я, собственно, сейчас не могу...
— Почему?
— Сейчас мне надо туда... обратно...
— Боже... Опять туда...
— Это «опять» будет всегда, Женя. До победы.
— Но так скоро... Витя!
— Это «скоро» будет все время... До победы.
— Возьми меня с собой!
— А кто нам будет давать бычки в маринаде, когда мы будем возвращаться из боя?
Он обнимает Женю. Он долго не выпускает ее из объятий. Потом, резко оторвавшись:
— Друзья, пошли!
— Пошли, товарищ лейтенант.
Они отдают девушкам честь и уходят быстро и не оглядываясь.
Женя и Раиса смотрят безмолвно им вслед.
Потом Раиса подходит к автоларьку, подымает капот и роется в моторе.
Женя в ларьке. Она переставляет товары на полках и что-то записывает, щелкает на счетах.
Женя говорит сквозь слезы:
— Двадцать один рубль... четырнадцать копеек... Печенье «Столичное» семь коробок... Раечка!..
— Что, Женя? Ну, не надо, не надо...
— Ничего... Раечка, я смотрю... у нас с тобой совсем нет бычков в маринаде. А я притащила такую кучу... Все.
Раиса сурово:
— Ну и на здоровье.
— Придется сбегать на базу.
Невысоко в воздухе свист пролетающего снаряда. Женя съежилась:
— Батюшки...
Раиса прислушивается. Где-то заливается пулемет, мяучат мины.
— Никуда ты, Женя, не пойдешь.
— Что мне, в первый раз? Побежала.
— Женька! Сумасшедшая! Стой!
Она подошла к Жене, обтерла на всякий случай губы тыльной стороной руки и поцеловала Женю.
— Ни пуха тебе, ни пера! Ругануть после этого полагается.
— Знаю, да тебя — язык не поворачивается. Она уходит через пролом.
Раиса ныряет в мотор. Потом, что-то вдруг вспомнив, вскакивает на кучу камней и, сложив руки рупором, кричит вслед Жене:
— Женька!
Та издали:
— Что-о?
— Принеси губную помаду!

МАЛЫЙ ТРАКТАТ О СКУКЕ
...скука не делает человека добрым.
Барбэ д'Оравильи
Я попал в Вернигероде не совсем обычным путем. В некоторой растерянности топтался я на вокзале в Нордхаузене, не зная, на какой из многочисленных перронов мне податься.
Позади стоял, дружески обнимая меня за плечи, этот городишка, Нордхаузен, новенький, как с иголочки. А ведь ему добрая тысяча лет. Но он был на совесть размолот английскими бомбардировщиками. Здесь в годы войны производились в подземных заводах знаменитые ракеты «Фау», которыми немцы обстреливали Англию. Сейчас, конечно, здесь идиллически мирно, и уже не ракеты производят немцы, а конфетки и тракторы, штаны и детские креслица с дыркой в сиденье. Порядок.
Видя мое недоумение, ко мне подошла монахиня. Да, товарищи, самая настоящая монахиня. Пожилая женщина в полной монастырской униформе — длиннополой рясе, которая при каждом шаге взметала вокзальный мусор, в черном клобуке, из-под которого аккуратной каемочкой выползал другой, белый, и в огромном воротнике, представлявшем из себя сложный ошейник из накрахмаленных блестящих треугольников. Монахиню в таком облачении у нас в Советском Союзе ни за какие деньги не увидишь.
Она хотела мне помочь. Вероятно, она и вышла в поисках доброго дела. И она его сделала. Вместо того чтобы поехать, как большинство пассажиров, по магистральной дороге, хоть и кружным путем, через Галле и Гальберштадт, но зато в первом классе комфортабельного поезда, я под руководством монахини двинулся напрямик по узкоколейке, даже не показанной на карте, в грязноватом вагончике с малосильным, задыхающимся паровозиком, но — сквозь упоительной красоты горы, долины и хвойные дебри Гарца.
Монахиня подхватила мой чемодан и, несмотря на мои мольбы, не отдала мне его, пока самолично не усадила меня в вагон. Я был смущен и растроган, но даже не успел поблагодарить ее, она опередила меня и здесь — сама поблагодарила (за что?!) и исчезла.
Напротив у окна сидел немолодой немец в очках, вполне благопристойной наружности. Он поглядывал на меня с равнодушным любопытством, потом сказал:
— Ничего, ничего. Она больше обязана вам, чем вы ей. Ну как же: ведь вы дали ей повод сделать доброе дело. Таким образом, вы внесли на ее личный счет в небесной кассе вклад во спасение ее души. Нет, нет, не идеализируйте старуху, она понимает свой интерес. Поверьте, я даю вам ее точный портрет.
Голос у него был долбящий и нудный. И звучала в нем нотка превосходства, что-то самоуверенно-навязчивое. Казалось, что все слова его имеют шляпки и он по ним ударял, чтобы слова вонзались в меня поглубже. Так мог бы разговаривать молоток. Но если он молоток, то люди, по его разумению, бревна, в которые он вколачивает свои слова.
Я, собственно, мог бы промолчать на слова немца. Однако не удержался. Солдатская привычка отстреливаться. Может, это не всегда стоит делать. Но мне поздно меняться. Да и не хочется. И я сказал:
— Зачем же непременно в каждом добром поступке видеть корысть? Простите, но вы, сами того не замечая, дали автопортрет эгоиста.
На этом наша краткая дискуссия закончилась. До самого Вернигероде мы не обмолвились ни словом. Оно и лучше: ничто не мешало мне любоваться Гарцем, его водопадами, замками, оленями, маленькими островерхими домиками на лесных полянах, мимо которых, временами обдирая бока о столетние ели, пробирался наш поезд, поскрипывая старыми суставами.
А вот и Вернигероде, «цветастый город Гарца», как отзывается о нем восторженный путеводитель. Действительно, с первого беглого взгляда еще со ступенек вокзала он мне показался похожим на оперу, только без музыки.
Все в этом маленьком старогерманском городке нарядно, но по-игрушечному, сказочно по-пряничному и поэтому не очень правдоподобно. Можно было вообразить, что я — внутри торта или, еще вернее, в ворохе театральных декораций, и стоит только обойти с тылу эти старинные пестрые фасады с деревянными переплетами, крохотными балкончиками, с нависающими друг над другом этажами, как я увижу холст, фанеру, пыльную прозу кулис. Но нет, оборотная сторона медали оказывается такой же трехмерной, такой же добротной, как и ее казовый чекан. В средневековых купеческих домах расположились вполне благоустроенные квартиры, современные магазины. В ратуше, похожей на кукольный домик, по воскресеньям регистрируют браки. Причем сюда для этого съезжаются суеверные парочки со всех концов страны, ибо, по старинному поверью, браки, заключенные в вернигеродской ратуше, обеспечивают крепкое семейное счастье.
Ночью на небольшой площади Николай-плац пылает фонтан. Это не оговорка — именно пылает, его подсвечивают, и водяные струи кажутся огненными хвостами коней, скачущих куда-то в ночь.
Под вечер в раскрытых окнах появляются лица. Главным образом женские. Подушка на подоконник, локти на подушку, внимательные глаза не отрываются от меня, пока я прохожу по улице. Это меня стесняет, я чувствую себя актером (чему способствует декоративность зданий), в окнах — зрители. Лица скучающие и настороженные. От меня ждут игры, то есть действий, какого-нибудь происшествия — драки, поджога, ограбления, самоубийства, чего-нибудь такого, к чему их приохотило кино, ну, уж в самом крайнем случае, на худой конец, просто падения в лужу, — словом, чего-нибудь такого, что рассмешило бы, ужаснуло бы, развлекло бы, как-нибудь рассеяло бы скуку на этих неподвижных, как портреты, лицах в рамах окон обывательских домов.
Это час тишины. В садах умолкают птицы. Это — предвестие осени, скоро птицы покинут Тюрингию ради более отрадных мест. Станет еще скучнее. Скука — явление самовоспроизводящее. Она сама выползает из щелей жизни.
О Гитлере, — вспоминая годы, когда он властвовал над Германией, — говорят: «О, этот не давал скучать!»
Конечно, это ирония. Власть тирана — источник самой страшной, мертвящей скуки: кровавой, рожденной страхом и чувством обреченности. Правда, есть выход. Когда дуче, или фюрер, или председатель, или каудильо, или как там их еще именуют (гаитянского диктатора Дювалье, например, — Папа Док, а тайваньского правителя Чан-Кай-ши — генералиссимус), в общем, когда они накрывают свою страну сплошным куполом скуки, люди начинают рыть из-под него маленькие лазейки: лазейку в искусство, лазейку в разгул, лазейку в безумие, лазейку в борьбу, лазейку в бегство.
В этот день с утра зарядил дождь. И он уже не прекращался. Это был не тот блещущий и сияющий, веселый дождь, который наполняет беспричинной радостью. Нет, то была серая, нудная, нескончаемая, какая-то безысходная морось. Дорога в замок, висевший над городом, как эпиграф из Шиллера, стала топкой и склизкой. И лица в окнах сделались еще скучнее. Вернигероде борется с обволакивающей скукой дождя всей своей многоцветной сказочностью. К ней прибавляется пестрота зонтиков. Они вспыхивают на всех улицах, эти маленькие, бесшумные цветные взрывы.
И я тоже стою под зонтиком па площади у ратуши. Она окаймлена как бы радугой зонтиков. Мы ждем, мы жаждем зрелища — свадьбы. Наконец показывается розовая карета, запряженная двумя конями. Белая фата, черный смокинг ныряют в ратушу, в XIII век.
Вечером я иду в собор святого Сильвестра. Он стоит на маленькой живописной площади, бережно сохранившей все приметы средневековья. Нас привлекла сюда афиша, расклеенная по городу. Собственно, это даже и не афиша, а небольшой плакатик, написанный от руки и извещавший, что в понедельник в соборе св. Сильвестра состоится «вечер камерной музыки. В программе произведения старых мастеров». Я встречал этот плакатик повсюду — в витринах магазинов, на столбах, на дверях ресторанов. И я ожидал, что в собор сбежится весь город.
Однако, когда я пришел туда и окунулся в пуританскую, нагую красоту евангелической церкви, я насчитал на скамьях едва ли пятьдесят человек. Между тем программа интересная: Гендель, Пепуш, Буамотье, Джероламо Фрескобальди... Играли любители на старинных инструментах. Звенело чембало. Гобой и флейта переговаривались птичьими голосами. Генерал-бас солидно мурлыкал. Концерт закончился C-dur-ной сонатой Гайдна, прозвучавшей торжественно и нежно в целомудренно белых стенах собора.
Я вышел. Я вглядывался в лица слушателей (хотелось назвать их прихожанами) и старался понять, оправдались ли ожидания Генделя, который как-то сказал: «Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился сделать их лучше».
У дверей стояла монашка. (Не та ли самая, что усадила меня в поезд? Они так похожи друг на друга.) Она держала тарелку. Проходя, все клали в тарелку монеты. Монашка деликатно отвернула голову, чтобы не видеть, кто сколько кладет.
Улицы пустынны. В шесть часов закрылись кафе. В семь — магазины. К восьми — жизнь в городке замирает. Мои шаги гулко отдаются в безмолвии улиц, уставленных средневековыми домами. И я снова стал поддаваться обаянию «цветастого города в Гарце». Я ничуть не удивился бы, если бы из-за угла этого сказочного дома вдруг вышел гном с длинной бородой на румяном детском лице, а из этого стрельчатого окошка выпорхнула ведьма верхом на метле, в длинной юбке, в очках на клювообразном носу, с развевающимися волосами и понеслась над коническими черепичными крышами к горе Брокен, куда, как известно, ведьмы слетаются на свой семинар, или симпозиум, или форум, или, как они сами его называют, шабаш.
Но из-за угла вылетают не гном и не ведьма, а парни на мотоциклах и мотороллерах. Они несутся по пустынным улицам, описывают круги, возвращаются и снова несутся, пытаясь скоростью, грохотом и бензиновым чадом разогнать свою скуку.

РАССКАЗ О ВИКТОРЕ ШКЛОВСКОМ
В Кракове студенты Ягеллонского университета и в Варшаве молодые художники и журналисты просили меня познакомить их со Шкловским. Я сделал это и наблюдал, как молодые поляки пожимают руку, великодушно протянутую им Шкловским, и смотрят на него с робким обожанием.
И это напомнило мне самого меня в тот момент — в далеком прошлом, — когда я впервые увидел Виктора Шкловского.
Я стоял в коридоре газеты «Гудок» и курил. Вдруг ко мне подошел Ильф. Он сказал несколько взволнованно:
— У нас в комнате четвертой полосы Виктор Шкловский. Он предлагает желающим пробовать на нем силу.
Я бросил папиросу, и мы быстро пошли в «четвертую полосу».
Посреди комнаты стоял и улыбался плотный, широкоплечий человек. В улыбке его было что-то покоряющее. Вокруг молча стояли сотрудники «Гудка».
Шкловский обвел нас быстрым взглядом, одновременно ласковым и вызывающим, и сказал:
— У меня очень сильная шея. Вот я нагнусь, а вы попробуйте помешать мне выпрямиться.
Действительно, он нагнулся и широко расставил ноги в чулках и в коротких штанах «гольф», что впоследствии дало Ильфу повод сказать: «Из Берлина приехал Шкловский в костюме велосипедиста».
Мы смотрели на Шкловского с застенчивым обожанием. Он был кумиром литературной молодежи. Мы сходили с ума по его «Письмам не о любви». Анализ «Тристрама Шенди» и теория остранения были нашей библией. И вот он вернулся в Россию и — такое везенье! — сразу попал именно к нам, в «Гудок», и мы ждали, что он сейчас откроет нам тайны слова, ведомые только ему.
А он, согнувшись, все тянул к нам голову, уже тогда не лохматую, и повторял нетерпеливо:
— Ну, гните мне шею! Давайте! Ну!
Один из нас наконец подошел к Шкловскому. Это был журналист Штих, хороший газетчик и тайный поэт (что дало Ильфу повод сказать: «Штих пишет штихи»). Растерянно улыбаясь, он возложил дрожащие руки на затылок Виктора Борисовича. Шкловский молниеносно выпрямил свой атлетический корпус и торжествующе обвел нас своими быстрыми глазами, которые не задерживаются долго на одном человеке, потому что они в первый же момент постигают его сущность.
Так я впервые увидел Шкловского.
Вскоре я узнал, что он согласился редактировать журнал «Экран», выходивший в издательстве «Гудок».
Виктор Борисович тотчас стал раздавать нам — мне, Ильфу, Олеше — задания. Мне он поручил написать очерк о кондитерской фабрике «Большевик».
Очерк мой Шкловский прочел с непостижимой быстротой и снял несколько красивых эпитетов. Возможно, что отчасти благодаря ему я избавился от пристрастия к пышным выражениям, к которым несколько склонен был в молодости.
Осенью 1961 года я увидел Шкловского в Ялте. Он тогда напряженно работал над книгой «Лев Толстой». Вот несколько записей, относящихся к тому времени.
Шкловский относится к своей славе легко и беспечно. В нем, хотя ему скоро семьдесят, много детского: улыбка, способность удивляться, одержимость. Полное отсутствие взрослой закостенелости. Он каждый день рождается как будто заново. Характер человека обычно складывается в возрасте от пятнадцати до двадцати лет — решительным или скептиком, легкомысленным, отважным, лживым или благородным. Шкловский сложился несложившимся. И в этом — он весь.
Виктор Борисович выделяется в этой среде, как гора, как море, которые окружают нас. Он так обширен и неповторим, как шторм, который в эти дни буйствовал здесь. Разумеется, ничего абсолютно совершенного нет. В горах попадаются провалы, на море — туманы. И все же море остается морем, и гора господствует над равниной, и Шкловский, даже повитый туманом, остается Шкловским.
Вчера он зашел ко мне устало-возбужденный. Он сказал, что не может сегодня больше работать, но не может остановить работу мозга, и принялся рассказывать — бессистемно и без видимого повода, следуя по, казалось бы, случайным ассоциациям, которые он не давал себе труда упорядочить. И все же в этом была цельность. И хотя он писал впоследствии: «Я пишу отрывисто не потому, что у меня такой стиль: отрывисты воспоминания», на самом деле у него именно такой стиль, а потому и отрывисты воспоминания, ибо стиль — это человек.
Он сказал:
— Я никогда не решался перейти с Маяковским на «ты».
Я подумал:
«А со Львом Толстым он, по-моему, уже на «ты».
— Ты мнительный? — спросил я.
— Да! — решительно ответил Шкловский.
Он нездоров. Жалуется на сердце, которое, как он выразился однажды, «звучит, как телефон с небрежно положенной трубкой». (У Олеши другое сравнение: «Сердце прыгает, как яйцо в кипятке».)
Тем не менее он много говорит. Он вспоминает о гражданской войне. Поразительные по яркости подробности. Олеша сказал как-то: «У Шкловского память гения».
Потом он рассказывал с удовольствием о молодых Толстых:
— Понимаешь, это удивительная четверка братьев — молодые, беспутные, веселые, дружные, образованные, проедали имение с четырех концов, удивительно талантливая компания.
— А Лев?
— Самый младший из них. Кутила, повеса. Игрок. Они его любили, но всерьез не принимали. Он единственный из них даже университета не кончил. Чтобы образумить его, они хотели женить его на цыганке. Они не понимали его. Лев еще дремал. Трудно распознать гения в дремлющем состоянии.
Сегодня вечером соседка за нашим столом, ученая женщина, попросила меня узнать, что думает Шкловский, с которым она незнакома, о фильме «Шесть превращений Пищика», который мы только что смотрели. В это время Шкловский проходил мимо стола. Я остановил его и изложил ему просьбу ученой женщины.
Он начал резкостью:
— Я не привык сервировать на одну персону.
Но потом снизошел. Наскоро изложил историю увлечения Запада «маленьким человеком». Внезапно заговорил о войне и вдруг свернул на Толстого, что для него совсем не вдруг.
Ученая женщина слушала, оглушенная и восхищенная.
Шкловский еще погрохотал немножко, потом встал и ушел, довольный собой.
Мне нравится Шкловсккй весь. Мне нравится не только Шкловский книг «Лев Толстой» и «Жили-были», но и Шкловский «Гамбургского счета», «Писем не о любви», «Лефа». Словом, я люблю Шкловского в сборе, в комплекте, а не выборочно.
Он понравился мне с первого взгляда, когда в редакции «Гудка» предложил пробовать на нем силу. Собственно, он всегда предлагал пробовать на нем силу. И время от времени находились люди, которые пытались сделать это.
Борис Эйхенбаум сказал:
«Если Шкловский еще и не классик, то только потому, что он относится к числу не настоящих, а будущих русских классиков».

ДЕВОЧКА И МАЛЬЧИК
1. В твои годы...
Все-таки отчего дядя Боря так редко приходит? Наверно, ему не нравится, что о нем говорит папа:
— Балаболка! Студенческие номерочки в сорок лет! Мама вступается:
— Вот скоро Борису повысят зарплату, он тогда женится.
— Трепло твой братишка. А сколько было ухлопано на его учебу!
— Не твоих ведь.
— А государство кто? Не мы?
Он прибавляет сердито:
— Все за выкрутасами заграничными гоняется. Смех: кибернетик!
Он выворачивает это слово по-смешному и неприличному.
Мать умолкала, потому что в то время она уже была слишком слаба, чтобы воевать с папой.
Отец веселеет, только когда приходят гости. И Диму тогда зовет не Димкой, а Дмитрием, и маму — Настенькой. Похлопывает себя по голой голове и объявляет:
— Мужчина должен быть лысым и решительным. Все смеются, кроме Димы и мамы, потому что они слышали это столько раз!
Дима еще помнит время, когда мама была веселая. Это было до ее болезни. Теперь она боится улыбнуться, даже когда приходит дядя Боря, потому что папа сказал: «Анастасия, ты, кажется, предпочитаешь общество брата моему обществу? Может быть, я вообще здесь лишний?..» И пошел снимать стружку с мамы.
Дима в такие минуты закрывает глаза, и ему кажется, что этот тягучий бум-бум-бум не из папы, а из пустого бидона.
Раз в неделю к отцу приходят его сотрудники играть в карты.
Один еще не старый, но уже толстенький франтик с обыкновенным нехорошим лицом.
Другой — пожилой, тяжелый, вежливый, с добрыми, испуганными глазами, будто он когда-то чего-то забоялся и до сих пор не отмяк.
У третьего — лицо ни хорошее, ни нехорошее. Диме всякий раз, когда он приходит, кажется, что это кто-то новый. А это все тот же. Но он до того никакой, что его не запоминаешь.
Когда они с папой садятся играть, Диме кажется, что стол стоит не на своих ножках, а на их четырех животах.
Мать подает им чай с печеньем и вино. Когда она запаздывает, отец хмурится:
— Эх ты, лапша Ивановна!
А если доволен, замечает снисходительно:
— Поди приляг, а то вид у тебя на Черное море и обратно. А ведь в свое время, — прибавляет он, подмигивая окружающим, — она была ничего...
Один раз во время картежа Дима на секунду выключил свет. Но ничего не получилось. Дима был разочарован. А ведь он сам слышал, как дядя Боря сказал маме про того с нехорошим лицом: «Знаешь, Настенька, он так натуживается всех услышать, что если бы потушить свет, стало бы видно, как у него накалились уши...»
Когда Дима рассказал об этом дяде, тот рассмеялся и сказал:
— Наверное, он их смачивает.
Иногда кто-нибудь из игроков не приходит. Тогда звонят к дяде. Он быстро прикатывается, маленький, верткий, с круглыми, кукольными щеками.
Отец насмешливо приветствует его:
— Здоров, апологет идеализма!
Все смеются, кроме Димы и мамы, потому что они слышали это столько раз!
Отец и за картами не перестает веселиться. Как только ему черед быть выходящим, сейчас же заводится:
— Представьте, этот мистик утверждает, что у его машин есть память. Ну и что? У клопа тоже есть память. А что с того?
Поначалу дядя Боря пробовал возражать:
— Еще Маркс предвидел появление умственных машин, которые...
— Окстись, милый!
Теперь дядя все больше отмалчивается.
— Что ж ты молчишь? Аргументируй! Дискутируй! Ага, нечем крыть? То-то! Ходи, метафизик, твой ход...
И прибавлял наставительно:
— Кибернетика — это очередная диверсионная вылазка империалистов. Плод!
Мать молча слушает и страдает за брата. Она тоже считает, что он занимается ерундой, и жалеет его. Провожая дядю Борю, она незаметно для мужа сует ему в карман пятерку.
Дима любит, когда играют в карты. О нем забывают, и он тихонько ускользает во двор. Свистом (длинный — два коротких — длинный) он вызывает Тому.
Они забираются в самый дальний угол двора, чтоб их не видели вместе. Это началось с той самой ночи, когда пришла машина и забрала Томиного папу неизвестно куда. Теперь отец сам назначает сыну товарищей. Но Диме не интересно ни с востролицым Костенькой, ни с довольно уже большим Генкой, о котором было известно, что он ходит в детский кружок по боксу.
Дима терпел-терпел и наконец спросил:
— Папа, а Тома мне чета?
Отец сказал, что нет. Тогда Дима вдруг затопал ногами и закричал:
— А вот чета! Чета! Чета!
Отец поднялся, огромный, многоугольный, и пошел строгать Диму своим алюминиевым бум-бум-бумом.
Конечно, в будущем году, когда Дима и Тома поступят в школу, они там будут видеть друг друга каждый день. А пока приходилось прятаться. И не только от отца, но и от Костьки и Генки. Только замечали они Диму и Тому, как начинали выкрикивать всякие гадости. Дима даже не все их слова понимал и спросил как-то Тому, что они значат. Серые Томины глаза потемнели, она сказала:
— Стой здесь!
И понеслась к мальчишкам.
Дима увидел, как она ткнула кулачком прямо в нюхало Генке. Боксер заревел — и драла. А за ним покатился и Костька.
Больше они не приставали.
Один раз с дядей Борей пришел смуглый юноша, красиво растрепанный и с пушком на верхней губе. Вид у него был насмешливый и диковатый.
— Твой брат Николай Знобищев, — объявил дядя.
— Пока что двоюродный, — добавил юноша. Он оказался сыном маминой сестры.
— А я тебя помню, Димка, — сказал Николай. — Ты был тогда совсем поросенком. Все нудил, чтоб я тебя подсадил на карагач.
— Да, да! — радостно подтвердил Дима.
— Ах, ты помнишь? Ты вообще недурно сохранился для своего возраста.
— Не смейся, Коля, это он от смущения, — сказал дядя, обнимая Диму.
Но Диме казалось, что он действительно помнит себя совсем маленьким. Тогда кончилась война, и сейчас взрослые об этом времени часто вспоминают в разговорах. И вот эти-то разговоры и превратились у Димы в память о невиденном.
Ему казалось, что он и вправду помнит толстые деревья на улицах далекого южного города, и парадный голос радио, и отца, возвращающегося по вечерам с кульками во всех карманах, и фейерверочные букеты в небе.
Когда Коля ушел, Дима спросил:
— Папа, а ты был на войне?
Отец сказал, чтобы он не лез с дурацкими вопросами. Дима все понял. Когда пришел дядя Боря, он спросил у него:
— Дядя, почему папа не был на войне?
— Понимаешь, Дима, нужно было, чтобы он не был на войне.
— Почему?
— Ну, брат, ты, ей-богу, чудак. Он ведь самый большой там у них, в управлении.
— Дядя, а ты был на войне?
— Я? Ну, был. Слушай, Дима, давай сыграем в домино, хочешь?
—■ Хочу. А почему ты был на войне?
— Ну, я человек маленький. Дубль-шесть у тебя? Везет тебе, брат. Ходи.
Дима понял, что дядя больше не хочет говорить о войне и о папе. Но все было уже и так ясно. Дядя маленький, в таких трудно попасть пулей, потому их и берут на войну. А папа большой, самый большой у них в управлении, в него легко попасть пулей, потому больших и не берут на войну.
Случайно Дима открыл, что отец снимает стружку не только дома. Это случилось в Димин день рождения. Когда отец утром поехал на работу, он взял с собой Диму, чтобы с ним отослать домой торт «Авангард» из служебного буфета — вечером ожидались гости.
Дима остался в приемной. И он слышал, как одна курьерша сказала другой:
— Мордатый приехал. Сейчас начнет всем продувать уши.
Отец вернулся домой неожиданно рано, — наверное, из-за дня рождения.
Дима и Тома сидели во дворе на бетонных плитах, приготовленных для ремонта.
— Ну, ты узнал, почему он не был на войне?
— Нет, не узнал. Знаешь, Тома, давай я тебе докончу про Белоснежку.
— Да ну ее! Тягомотина!
Дима обиженно замолчал.
Тома не любила сказки. Она любила рассказывать про то, что вокруг. Дима знал, что на самом деле все не такое. Но он любил слушать Тому: все становилось жутко интересным.
— Ну, что ж ты замолчал?.. А, надулся!
— Вовсе я не надулся.
— А почему ж ты замолчал?
— Так просто.
— Так просто не бывает. Надулся, надулся!
— А что, помолчать нельзя? Вот же деревья молчат.
Это поразило Тому. Она перестала болтать ногами.
— Как это?
— А так. Стоят себе и молчат.
Дима был очень доволен, что озадачил Тому.
Она задумалась на секунду. Потом сказала уверенно:
— И совсем они не молчат. Разве ты никогда не слышал, как они разговаривают? Протягивают друг к другу ветки и разговаривают. А думаешь, птицы не воруют у деревьев их песни?
— Птицы?
— Еще как! И жуки, и стрекозы. Конечно, деревья, как и люди, бывают болтливые, а бывают и молчаливые, как ты. Березы, например, страшные болтушки. А дуб, например, так тот любит помолчать.
— Как я?
— Как ты. Но все они говорят и поют, даже когда становятся телеграфными столбами... Ой!.. Здравствуйте, Филипп Иванович...
Дима вздрогнул. Отец стоял перед ними. Он взял Диму за руку и повел домой. Дима упирался. Это было глупо, только раздражало отца. Он вынужден был подталкивать Диму в спину. Дима упирался ради Томы. Пусть она видит, что не только она одна храбрая.
Тома смотрела им вслед, серые глаза ее темнели.
Дома, конечно, началось снимание стружки. Филипп Иванович все поставил на свои места — и деревья, и птиц, и стрекоз, и «эту девчонку с ее пакостными выдумками».
Тут Дима закричал:
— Хватит продувать мне уши!
Отец покраснел и так рванул Диму за руку, что тот чуть не упал. Дима вскрикнул. Мать услышала. Она встала с кровати и, держась за стенку, доплелась до них. Увидев ее, Филипп Иванович сказал какое-то слово, которого Дима никогда не слышал, и ушел. И сильно хлопнул дверью, даже одна картинка слетела на пол.
И все-таки Дима тогда еще любил отца. И даже как-то, после обеда, когда отец спал, он подошел к дивану и тихонько погладил его, как когда-то, по шелковой после бритья щеке.
Из дурного сна можно выбежать. И, лежа в кровати, долго и вкусно вспоминать, содрогаясь от сладкого ужаса: какая радость, это было как в иллюзионе!
Нет, это не сон. Востроносенький Костька и боксер Генка нагоняют его, как смерть.
— Стой, Димка, хуже будет!
Они неслись по двору. Дима понимал, что гибнет.
Двор безнадежно пуст. Свисти не свисти, все равно Томы нет. А те двое уже дышат в спину. Будут больно выкручивать руки, загибать голову.
Вдруг хлопнула дверь, и кто-то показался на краю этой асфальтовой пустыни.
Из последних сил Дима подбежал к Филиппу Ивановичу и спрятался за его ногу, как за дерево. Он счастливо улыбался и доверчиво смотрел на отца, задрав голову вверх, как смотрят на взрослых дети и собаки. Это тронуло отца. Но тут он почувствовал, как мальчик дрожит, прижавшись к его ноге, и сразу рассердился и завел свой металлический бубнеж:
— Срам, Дмитрий! В твои годы я не драпал ни от кого. Пусть их там двое или даже трое — храбрый не считает. С малых лет надо быть мужчиной. На удар отвечать двойным ударом...
Строгал-строгал, пока те двое корчили издали оскорбительные рожи и выкрикивали гадкие слова.
Выйдя из машины, отец заметил, что ботинки его запачканы. Очевидно, Дима, прячась, оттоптал их.
Он с презрением подумал о том, что сын пошел не в него, а в робкую, нервную мать.
За углом шумела вокзальная площадь. Чистильщица сидела в фанерной будке, пожилая смуглая женщина с подмазанными губами, с большими серьгами в ушах, в цветастой юбке, похожая на цыганку.
Пока она трудилась над башмаками Филиппа Ивановича, он неодобрительно оглядывал площадь. Люди тыкались куда попало, суетились, сталкивались. Некоторые надолго застывали у доски с расписанием и вдруг со всех ног бросались бежать. В воздухе гремели невнятные раскаты радиоголосов. Носильщики в серых курточках, похожие на состарившихся школьников, катили тележки с чемоданами. Небрежно опершись о стены, с руками в карманах, стояли странные малые, обводя прохожих беспокойными и ласковыми взглядами. Над сундуками мороженщиц подымались ледяные дымки. Двое пьяных брели, переговариваясь громкими, как у глухих, голосами. Вдруг они подошли к будке чистильщицы. Филипп Иванович брезгливо отстранился.
— Извиняюсь, конечно, папаша, — проговорил один из них, маленький, рябенький, и сделал нечто вроде полупоклона.
Он был на первоначальном этапе опьянения — преувеличенно вежлив и склонен к шутливости.
— Не признаешь? — спросил рябенький, обращаясь к чистильщице. — Это ж к тебе Байда ходил?
Женщина подняла на него удивленные глаза.
— Не знаю я никакого Байду, — сказала она гортанным голосом, гуляя щетками по ботинку.
Потом остановилась.
— Может, Бодягин? — спросила она. Рябенький залился беспечным смехом:
— Один черт, что Байда, что Бодягин. Мы ж его — чик! — в яму.
Старая привокзальная Кармен оживилась:
— Слушайте, ребята, значит, вы из гаража?
— Дошло!
Филипп Иванович раздраженно зашевелил ногой. Он спешил, и вообще этот странный разговор ему не нравился.
Чистильщица с интересом уставилась на пьяных.
— Так и я ж его хоронила, — сказала она.
Филиппу Ивановичу показалось, что эти два типа поглядывают на его портфель. Он прижал его к себе.
Женщина продолжала:
— Это ж был мой зять. Он на дочке моей был женат.
Слова эти пробились сквозь пьяную флегму рябенького. Он крикнул своему спутнику:
— Слышь, Байда был на ейной дочке женат!
Тот зашелся в кашле, дюжий мужчина с таким длинным лицом, словно его долго тянули за подбородок. Он был уже на переходе к мрачной стадии опьянения. В долгом лице его все четче обозначалось злобное лукавство. Он сказал, шлепая губами, которые, казалось, набухли водкой:
— А мы и брата его сволокли в ямку!
— Знаю, — благодушно подтвердила женщина. — Он в Тамбове работал, в артели «Красный бытовик». Жалко, молодой совсем...
Филипп Иванович нервно зевнул. Разговор этот ужасал его. Он привстал, чтоб уйти, хоть второй башмак был еще не почищен. Но чистильщица крепко держала его за лодыжку и водила по башмаку щеткой. Филипп Иванович огляделся. Людей вокруг много, но никто не смотрит сюда. А позвать он не решался.
Женщина вынула бархотку. Не донеся ее до башмака, сказала задумчиво:
— Ну, этот, может, и сам виноват. А Бодягин, если б не та история, до ста лет дожил бы. Это ж был мужичок-дуб.
Рябенький сочувственно вздохнул:
— Да, это был наш корешок, наш первый заводила.
Второй парень все более погружался в мрачность. Он приблизил к чистильщице подбородок, тяжелый, как висячий замок, и сказал с пьяной придирчивостью:
— А зачем твоя дочка с Сашкой бегает? Зачем он у людей под ногами мотается? Смотри, он тоже перевернется.
Рябенький беззлобно, но с охотой подтвердил:
— А что ж, сволокем и его, пара пустяков.
У Филиппа Ивановича мелко забилось сердце. По телу пополз противный зуд.
Совсем близко прошел милиционер. Филиппу Ивановичу удалось уголком портфеля коснуться его локтя. Милиционер оглянулся.
Но тут Филипп Иванович встретил мутный и недобрый взгляд длиннолицего парня.
— Извините, — пробормотал отец.
Милиционер с важной благосклонностью приложил палец к козырьку и прошествовал дальше.
Филипп Иванович почувствовал себя бесконечно одиноким, маленьким, беззащитным. Он осторожно попробовал освободить ногу. Но женщина не отпускала ее и, словно охваченная волнующими воспоминаниями, продолжала задумчиво водить по башмаку бархоткой. Он сверкал, как зеркало. На лице у женщины играла мечтательная улыбка.
Тут случилось неожиданное. К будке подошел плотный небритый старик в расстегнутом морском кителе и в тельняшке. Он кликнул парней. Они переглянулись, понимающе моргнули друг другу и тотчас ушли вместе со стариком.
Филипп Иванович ворочал головой, поглядывая: не подкрадываются ли они сзади с мешком и тележкой? Ведь они ушли, не попрощавшись с чистильщицей, даже не кивнув ей...
А что, если рвануться — и в толпу?.. Или — свободной ногой чистильщицу в лоб?.. А вдруг она увернется?.. И вдруг в этот момент вернутся они? Их двое. Даже трое...
Струйки пота стекали со лба и щекотали шею. Он не решался вытереть их — ведь любое движение может не понравиться чистильщице...
«Так глупо влипнуть! Как будто нельзя было пойти в управление в грязных ботинках. На черта я попер сюда?..
А может, договориться с ними? Отдам деньги, сколько при мне. Берите пальто. Часы. Берите все, только не трогайте меня!..
Но можно ли им довериться? Взять-то возьмут, а потом... «Отпустишь тебя — ты ж побежишь накапаешь». — «Клянусь, не накапаю! Хотите, на кресте поклянусь! Есть у кого-нибудь крест?..»
Чистильщица подняла голову и пристально посмотрела на Филиппа Ивановича. Он замер.
Она сказала, вздохнув:
— Да... Всех они потащат в могилу... И меня... И вас...
— Нет, нет! Я...
Женщина пожала плечами и сказала:
— Такая их работа. Могильщики они, с похоронных машин.
Он изнеможенно откинулся на спинку стула, протянул чистильщице второй башмак и судорожно вздохнул, почти всхлипнул, как в детстве после слез.
Весь этот день Филипп Иванович был особенно придирчив к подчиненным. Он не вспоминал о том, что с ним случилось на вокзале, потому что умел забывать о неприятном. Но где-то там, на задворках сознания, смутный стыд нудил его, нудил...
Вернувшись домой, он позвал Диму.
Мальчик сразу все понял.
— За что, папочка?..
О эти глаза, устремленные вверх! Чья душа не вспыхнет добротой и жалостью, встретив этот доверчивый взгляд детей и собак!
Но когда блеснуло голенькое тельце, отца понесло и закружило жестокое вдохновение. Чем больше на худеньком заду сына вздувались красные рубцы, тем больше отец опьянялся ощущением своего превосходства, власти, могущества.
— Чтоб принимал бой грудью!
— Чтоб не драпал!
— Чтоб не клал в штаны от трусости!
Дима не пикнул под ремнем, и это еще больше возбуждало Филиппа Ивановича.
Старательно отстегав мальчика, он наконец вернул себе самоуважение. Он опустился в кресло, испытывая сладкую усталость. Ему хотелось, чтобы Дима заплакал. Тогда можно будет пожалеть его, даже приласкать.
— Ну, Дмитрий, я надеюсь, теперь все у нас пойдет хорошо.
Дима посмотрел на отца сухими глазами. В них не было ни горечи, ни волнения, а новое, чужое чувство. Филипп Иванович не мог понять, что они выражают. Несколько секунд мальчик всматривался в отца, потом повернулся и вышел, так ничего и не сказав.
Вечером ожидались сослуживцы. Но отец отменил карты и ушел. Ему не сиделось дома. Дима выскользнул во двор.
Длинный — два коротких — длинный. Они уселись в своем излюбленном месте, на бетонных плитах.
— Тома, я скажу тебе что-то.
Она смахнула с уха прядь волос, чтоб лучше слышать.
— Я больше не люблю папу и никогда уже не буду его любить.
Тома ничего не ответила, а только погладила Диму по голове.
Вот тут наконец он заплакал. Он плакал, а она не снимала руку с его головы. И ему хотелось, чтобы эта легкая рука гладила его еще и еще.
2. Десять лет спустя
Девочка упала. Осколки кувшина разлетелись по мостовой. Самосвал взвизгнул тормозами и пошел юзом. Мороженщица на тротуаре закричала.
Дима и Тома бросились к девочке. Тома успела схватить ее, но поскользнулась в радужной луже тавота и тоже упала. Дима замер на обочине и закрыл глаза.
Машина все же остановилась. Шофер выскочил из кабинки и, утирая взмокший лоб, крепко руганулся.
Когда они вернулись на тротуар, Дима сказал:
— А здорово это получилось, а?
Тома озабоченно оглядела чулки и юбку:
— Черт! Пожалуй, не отмоешь. Она погрозила девочке пальцем:
— Влетит тебе дома, старушка, за кувшин. Девочка засмеялась и побежала на мостовую. Тома крикнула ей вслед:
— По сторонам гляди! Второй раз может не получиться.
Потом покосилась на Диму. Он даже не улыбнулся. Шагал рядом, высокий, отчужденный.
Тома сказала плачущим голосом:
— Подумают, пьяная вывалялась, а? И засмеялась.
Дима молчал. Он смотрел на памятник с таким упорством, словно никогда не видел каменного Тимирязева. Тома с детства знала эту черту в Диме: погружаться с макушкой в мысли.
Она махнула проезжавшему такси:
— Садись, Димка, подвезу.
— Хочу пройтись.
— А может, все-таки к нам заедешь?
— Пожалуй, нет.
— Да, слушай, маме про девчонку под машиной ни слова.
— Ладно, езжай.
— Шеф, поехали. Стойте! Слушай, Дима, ты ж не забудь: в воскресенье прыгаем...
Дима пошел бульваром. Липы сплетались над головой зеленым сводом. Светлый день стоял над Москвой, как праздник.
У Кропоткинских ворот он вдруг решил все-таки поехать к Томе, на Ленинский проспект. Он спустился в метро. Огромные мраморные тюльпаны излучали мягкий свет.
В вагоне против Димы сидел парнишка. Нос кнопкой, соломенный чуб, брюки заправлены в сапоги. Такие ребята пачками заселяют шикарные общежития в Текстильщиках. У ног его железный ящик, — видно, с инструментом. На груди сине-белый парашютный значок. На него-то Дима и уставился. Парнишка удивленно расширил глаза. Дима отвернулся и сделал равнодушное лицо. Но он не мог сдержать себя и время от времени бросал косой, воровской взгляд на этот маленький эмалевый конус.
У Ленинских гор Дима внезапно передумал, вышел из метро и пошел домой. Длинная прогулка пешком несколько успокоила его.
Дома оказалось, что дядя Боря уже все знает. Он встретил в магазине Тому, она покупала пятновыводную жидкость и все ему рассказала.
— Я позвонил Вере Львовне, Томиной маме. Она так взволновалась.
— Ты ей рассказал? — ужаснулся Дима.
— А что, разве нельзя? Но ты мне все-таки расскажи, как это вы рванули под машину.
Он был на голову ниже Димы, маленький подвижной человек с крепкой седой шевелюрой над круглым лицом, с упругими, как у ребенка, щеками. Он держался подчеркнуто товарищеского тона в разговоре с племянником. Дима старался по мере сил не выпадать из этого тона.
— Вытащили девчонку, ну и все.
Борис Федорович одобрительно кивнул головой. Ему понравился этот стиль скромного храбреца.
— Говорят, кругом крик стоял, а? С мороженщицей чуть ли не истерика?
— Кто это тебе все расписал?
— Тома... Шофер чуть не в обмороке, а?
— Тома известная вытрющанка.
— Как?
Опять он не понял! И, наморщив свой красивый высокий (пожалуй, слишком высокий) лоб, Дима пояснил:
— Ну, она вытрющивается. В твое время говорили «выламывается». Ломака.
— В мое время?
Борис Федорович стал соображать: «Что это за мое время? А я думал, что время неделимо, что я и Дима из одного времени. Оказывается, что у нас разные языки, словно мы из разных племен. Разные времена — разные племена. Вот, черт побери, открытие!»
— Так, значит, она вытрющанка? — покорно повторил дядя.
Ох, этот трепет перед молодыми! Ох, этот провинциальный страх «отстать»!
— Ну, Дима, моя схема как будто себя оправдывает.
Борис Федорович работал в институте кибернетики и сконструировал оригинальную схему емкостного устройства оперативной памяти. Шутя он говорил о себе, что работает в Секторе Воспоминаний.
Сейчас ему очень хотелось щегольнуть перед племянником красотой своей схемы. Но у Димочки такой озабоченный вид. С зачетами что-то? Или с практикой? Или личное? Надо бы расспросить мальчика. Однако Борис Федорович был жертвой своих же заповедей: не навязывайся с родственными объятиями, не лезь ребенку в душу. Он тихонько вздохнул и сказал:
— Ну и голова у меня стала! Мне ведь надо доклад подработать.
Он фамильярно помахал Диме рукой, совсем как старый кореш, и ушел к себе в комнату. Он решил взять свое вечером, когда придет другой племянник, Коля Знобищев. Он лег на тахту, уткнулся жесткой серебряной шевелюрой в подушку, раскрыл брошюрку о бионике (в последнее время ребята с ума сходят по ней — надо же быть в курсе!) и мгновенно заснул.
Вечером Николай Знобищев, взгромоздившись на подоконник и болтая ногами в блестящих сапогах (он сегодня в форме), рассказывал о переменах в своей жизни:
— Меня переводят в Центральный клуб. Представляешь?
— Ого! — сказал Борис Федорович.
— Интереснее? — спросил Дима.
— Размах! Ну, и оклад, сам понимаешь. Маринка страшно рада. Знаешь, все-таки двое ребят.
— Еще бы! — сказал дядя. — Так, значит, — прибавил он, скрывая беспокойство, — Дима в воскресенье будет прыгать без тебя?
— Не беспокойся, — сказал Знобищев, — конечно, я буду на площадке.
Дима любил своего двоюродного брата. Все ему в нем нравилось — насмешливость, атлетическое сложение, «лермонтовское» лицо, надменное и задумчивое, с тонкими усиками. Втайне Дима думал, что он похож на Николая.
— Ну, а в дальнейшем, значит, руководить Дмитрием будет уже другой?
— Да. Новый инструктор. Некто Модлинский.
— Как он? Ничего?
— Малый неплохой...
Что-то в тоне племянника насторожило Бориса Федоровича.
— Но? — поднял он брови.
— Без «но».
— Нет, у тебя что-то на уме.
Николай усмехнулся:
— Ну, это если придираться.
— Давай придеремся, — предложил дядя.
Дима слушал, прикрывая напряжение улыбкой. Николай пожал плечами:
— Ну, вот только то, пожалуй, что он любит иногда... ну, как бы это сказать... погарцевать, что ли... Ну, выставить себя в эффектном свете.
— Например?
— Ну, этаким удалым парнем, знаешь.
Дима чувствовал, что он уже не любит Модлинского. Он сказал:
— А на самом деле трус?
Николай захохотал:
— Поищи еще такого лихача!
— Понял, — сказал дядя. — Твой Модлинский, значит, Долохов.
— Какой такой Долохов?
— «Войну и мир» не помнишь? Стыдно, брат. Ну и молодежь пошла!
Знобищев обиделся:
— Давай, дядя, поспорим, что я тебя посажу в калошу по литературе первым же вопросом.
— Да я не такой уж знаток в современной...
— Зачем современной? Я тебя посажу по классикам.
Дима ликовал:
— Получил?
Старик рассердился:
— Поспорили! На что?
— Ну что ж, полбутылки портвейна тебя не разорит?
— Давай твой вопрос.
Николай глубокомысленно огладил усики, посмотрел на дядю с обидным сожалением и сказал:
— Первый вопрос: какова была профессия Анны Карениной?
Борис Федорович рассмеялся:
— Какая ж у нее профессия! По-современному сказать — домашняя хозяйка.
— Так, — зловеще сказал Николай. — Еще один вопросик можно? Ты, конечно, знаешь, пушкинский стих: «Чем меньше женщину мы любим...» Прошу продолжать.
— «Тем больше нравимся мы ей», — сказал дядя, насмешливо глядя на Знобищева.
— Это ты, наверно, так написал бы, — ехидно ответил племянник. — А Пушкин, к твоему сведению, написал: «Тем легче нравимся мы ей». А что касается Анны Карениной, то она была детской писательницей.
Старик взбутетенился:
— Да что ты меня разыгрываешь! Ну-ка, Димочка, тащи из шкафа «Анну Каренину». Да и Пушкина прихвати на всякий пожарный случай.
Дима выбежал. Возвращаясь с книгами, он на ходу нетерпеливо листал их. Он не был уверен, что Коля прав. У порога он услышал дядин голос:
— Ты тоже заметил? Да, при жизни отца он был другой...
Дима остановился за полупритворенной дверью. Дядя продолжал:
— Не хочу хвалиться, но с тех пор, что он у меня, в характере у него появилась твердость. Заметил? А все-таки иногда он так меняется...
Низкий бас Николая:
— Ты говоришь так, как будто за ним длинная жизнь. Он же мальчик, в конце концов.
Борис Федорович понизил голос:
— Вот сегодня, например... Ничего не заметил? Что-то его, понимаешь, волнует. Может, этот прыжок в воскресенье, а?
Дима напряженно вслушивался. Он не чувствовал стеснения оттого, что подслушивает. Он только боялся, чтобы его не обнаружили. Он притаил дыхание. Как долго Николай закуривает! Вот наконец его бас:
— А кто ж не волновался перед первым прыжком?
— То есть как первым? А мне он говорил — третий...
— Правильно говорил. Но те два были с принудительным раскрытием.
— Не понимаю.
— Ну, парашют через две секунды сам раскрывался. Автоматически.
— А теперь?
— А теперь будет с ручным раскрытием. Ребята сами будут выдергивать кольцо.
— В воздухе?
Николай засмеялся:
— А то где же? Да ты не волнуйся, дядя. Они этот прием на земле отработали...
— А вдруг не раскроется? Разве таких случаев не бывало?
— Ну, мало ли что... Я тебе другое скажу. У английского летчика Стефана Олкимеда действительно — редчайший случай! — не раскрылся парашют. Он упал с высоты ни больше ни меньше как пять тысяч четыреста двадцать метров! Чувствуешь? И угодил прямо в кучу песка. Цел-невредим! Постой, постой, дядя, есть номерок почище. У нас. Во время войны. Под Вязьмой. Подбили наш бомбардировщик. Летчик Ваня Чиссов прыгнул затяжным с высоты уже семь тысяч шестьсот метров! И в воздухе, понимаешь, потерял сознание и не раскрыл парашюта. Так что ты думаешь, попал в овраг со снегом, остался не только жив, но продолжал как ни в чем не бывало работать в авиации. Да чего больше: совсем недавно в Болгарии на международных соревнованиях наша рекордсменка Надя Пряхина прыгнула затяжным. Между прочим, это был девятьсот тридцать восьмой прыжок. Так вот, на высоте тысяча семьсот метров она дергает кольцо — и ни черта, понимаешь! Не раскрылся. И запасной не сработал, запутался в стропах первого. И такое везенье...
— Опять снег, песок?
— В том-то и дело, что нет. Нормальная земля. Правда, вспаханная, разрыхленная. Сейчас Надя прыгает как миленькая...
Две секунды... Только две секунды свободного падения. Потом парашют раскроется автоматически. Но эти две секунды... Думая об этом, Дима обмирал от страха. Конечно, он никогда никому не признается в этом. Даже Томе. Он уверен, что если справится, то из него исчезнет наконец все то смиренное, робкое, соглашательское, что было вколочено в него в детстве.
Он прислушался.
— У Димки? — говорил Николай. — То есть ни намека на угнетенность или на перевозбуждение. Норма.
Дима облегченно вздохнул и вошел в комнату. Николай полистал книги:
— Вот. Пожалуйста! Они прильнули к книгам.
Борис Федорович сказал смущенно:
— Подумать только... Ну кто бы мог...
Николай подмигнул Диме:
— Да, дядюшка, это тебе не кибернетика.
Дима захлопал в ладоши.
Старик поднялся:
— Ну что ж, там у меня найдется бутылочка... Николай остановил его:
— Ты мне сначала насчет Долохова договори.
Дядя наморщил лоб:
— О чем это мы?
Дима нетерпеливо вмешался:
— Ну, ты же сказал, что этот Модлинский, должно быть, похож на Долохова.
— Ах, да! Так это ж просто. Толстой представил два рода храбрости. Одна скромная, натуральная. Это — Тушин. Помнишь?
— Ну как же! А другая, значит...
— А другая такая, знаешь, картинная, вроде напоказ,— Долохов!
— Так ты считаешь, что Модлинский...
— А я ж твоего Модлинского в глаза не видел. Но скажу, Николай, что нашему народу более свойственна храбрость в тушинском роде.
— Думаешь?
— Я ж все-таки повидал кое-что... Русский человек не считает храбрость каким-то исключительным свойством. И к листовкам о военных подвигах солдаты на фронте, например, относились равнодушно.
— Неужели?
— Уверяю тебя, Коля, что русский человек считает храбрость таким же естественным проявлением организма, как, скажем, дыхание или речь. Что тут причиной — веками складывавшаяся неприхотливость или природное отвращение ко всякой позе, — не скажу, не знаю... Мне как-то посчастливилось, знаешь, одновременно увидеть и Тушина, и Долохова. Вместе. Рядом.
«Я тоже Долохов...» — подумал Дима. Борис Федорович поудобнее расположился в кресле и продолжал:
— Было это, как я вспоминаю, в году...
Дима скорбно вздохнул:
— Опять заведешься про доисторические времена, про всякие там Халхин-Голы да Курские дуги.
— Да нет, я, собственно...
Дядя смутился. Раз навсегда принятый тон старого кореша заставил его скрыть горечь и бодро воскликнуть:
— Да, ребята, надо ж проигрыш выставить! Сейчас притащу из холодильника.
Он выбежал из комнаты, молодцевато стуча каблуками.
Николай помолчал, потом сказал мрачно:
— Ты, Димка, все-таки с дядькой хамоват.
— Да ну? — искренне удивился Дима. — Ты просто не знаешь, Коля. Он как заладит про свои там тридцатые или сороковые годы! Это ж его конек.
Коля устремил на брата свой задумчивый, чуть надменный, «лермонтовский» взгляд. Диме становилось не по себе.
— Нет, правда... — пробормотал он.
— Знаешь, Дима, — наконец сказал Коля,— лет, скажем, через сорок, когда тебе стукнет под шестьдесят,— представляешь? Да ты не смейся, смешного тут мало. В году этак двухтысячном подопрет новая молодежь. Знаешь, из тех, что уже на Марс запросто слетали. Так они ж на вас, стариков, будут поглядывать свысока. Вот тогда ты, Дмитрий Филиппович, и затявкаешь: мы, люди шестидесятых годов, мы, люди семилеток, мы, дескать, построили Братскую гидростанцию, мы первые освоили Луну, мы да мы! Так они ж над вами исподтишка будут смеяться: носятся со своей Луной да со своими шестидесятыми годами как с писаной торбой. А ведь сейчас, в двадцать первом веке, им только и осталось, что доживать да забивать на Луне козла.
— Да я... — начал Дима.
Николай предостерегающе поднял палец. Вошел Борис Федорович. Он поставил на стол вино, бокалы.
— Ну, ребята...
— А про Тушина и Долохова? — прервал его Дима.— Ты уж давай выкладывай.
— Да нет, что ж... — смущенно и обрадованно сказал дядя. — Ну ладно, это ж несколько слов, ничего особенного. На Халхин-Голе это было, в тридцать девятом. Знаете, монгольская степь, синяя река, по ту сторону — японцы, по эту — мы. Война позиционная, окопная. Закопались в песке. Поверите ли, все механизмы из-за песка портились — авторучки, часы, пулеметы. Комары — ну просто не комары, а летающие иглы.
— Ну, и... стреляли? — осведомился Коля.
— Ну, это само собой, как полагается. Жарища к тому же. Можете себе представить, как я обрадовался, когда меня послали с поручением в авиачасть. У них и тихо, и угостят яблоками (осточертели витаминные лепешки!), и пластинку хорошую поставят, и радио послушаешь. Словом, небольшой отдых. Только, мальчики мои, ни черта не получилось.
— Ну?
— Слушай. Только я приехал к «ястребкам» (так называли истребители «И-16»), как налетела японская авиация. Вот невезенье! Бомбят открытую летнюю площадку. Это вещь неприятная. Кое-кто был ранен, пострадали машины. Но все же три-четыре ястребка успели взлететь. И завязали бой. Подбили нескольких...
— А где же Тушин и Долохов? — спросил Дима, бросив страдальческий взгляд на Николая.
Борис Федорович поспешно ответил:
— А вот я как раз к ним и подошел. Опускаю подробности, но в общем из одного подбитого японского самолета выпрыгнул летчик. Как сейчас помню, зеленый парашют на земле, и из-под него вылазит японский майор. Не первой уже молодости мужчина и, представьте себе, с палашом на боку. Эффектно, а? Они летали с самурайскими мечами.
— Ничего себе, — усмехнулся Николай.
— Слушайте дальше. Японец назвал себя. Когда наши летчики услышали его имя, они переглянулись: это был известный японский ас! Слушайте дальше! Японец попросил, чтобы ему показали летчика, который его сбил. Позвали. Это был Владимир Ляхов, высокий, светловолосый, голубоглазый малый. Красавец! Японский майор посмотрел на него, сделал шаг вперед и этаким широким, картинным жестом протянул Ляхову руку. Понимаете, ребята! Вот, мол, говорил он этим жестом, война войной, а мы с вами профессионалы, специалисты. Пусть там политики решают, кто прав, кто виноват, а нам, мол, наплевать на политиков, мы с вами поверх политики, мы солдаты, люди одного цвета, и я, мол, отдаю должное вашему искусству. Вот о чем говорила его широко, оперным жестом протянутая рука.
Борис Федорович остановился и стал раскуривать трубку.
— Ну-ну? — нетерпеливо сказал Коля.
— Ну что же... Ляхов посмотрел на японца, на его протянутую руку, покачал голозой и сказал: «Иди ты к такой-то матери!» Повернулся и ушел.
Николай захохотал.
— А японец? — спросил Дима.
— А японец — что же... Постоял-постоял, опустил руку и вообще весь начал как-то линять.
— Хо-хо! — грохотал Николай. Уняв смех, он сказал:
— Дело! Бандюга, понимаешь, залез в чужой дом, не летчик, а налетчик, и ему еще руку пожимай. Не дождет, курва!
— Возможно, у них это традиция, форма, — осторожно заметил Дима.
— А нам наплевать! — рассердился Николай. — У нас форма вытекает из сути. Какова суть, такова и форма. Так с мечом, говоришь, летает?
— С мечом, — подтвердил Борис Федорович.
— А потом, говоришь, весь слинял?
— Слинял, — радостно подтвердил дядя.
— Я, знаешь, дядя Боря, этот твой рассказ молодым бойцам рассказывал бы. Или даже в школы ввел бы, во всякие там хрестоматии.
— Психология, конечно, — согласился Борис Федорович. — А думаешь, теперешние ребята не такие? Это у нас коренное. Возьми сегодняшний случай.
— Какой? — удивился Николай.
Борис Федорович кивнул Диме:
— Расскажи.
Дима быстро сказал:
— Разопьем проигрыш. Хватит разговорчиков. Он разлил вино по бокалам.
— Девчонка, понимаешь, перебегала мостовую,— сказал дядя. — У Никитских ворот. И на нее летит грузовик. Так эти двое, он да Томка, бросились и из-под самого носа машины выхватили девчонку. Представляешь себе?
Дима перевел дыхание. Значит, Тома так рассказала... Он почувствовал зависть. Он знал, что случись наоборот, он не смог бы так рассказать. А Тома просто не придала значения тому, что он остался на тротуаре...
— Слушай, Николай, — говорил дядя, прихлебывая вино, — привел бы ты к нам этого своего приятеля... как его?
— Модлинского? Что ж, можно.
Николай посмотрел внимательно на Бориса Федоровича и прибавил:
— Скажем, завтра вечерком. Можно?
Старик кивнул головой, довольный, что Николай понял его намерение — познакомиться с новым инструктором до воскресенья.
— А я и Веру Львовну позову, и Тому, пусть тоже познакомятся, не возражаешь?
— Отчего же. Вообще у нас там, на площадке, есть экземпляры любопытные, — сказал Николай.
Дима удивился:
— Кто, например?
— Мало ли кто. Возьми хотя бы сторожа, — засмеялся Николай.
— А! Старик Деревягин! — Дима тоже засмеялся.
— А какой он? — заинтересовался дядя. Николай помотал головой:
— Самостоятельный старик.
— Философ, — добавил Дима.
— Да, его словечки гуляют по клубу.
— Например?
— Ну что ж, вот хотя бы... Он о международной политике любит потрепаться: с акулами жить — по-акульи выть.
Все смеялись.
— А мне он сказал, — воскликнул Дима: — вы, говорит, восходящий, а я нисходящий!
— Чудаковатый старик, бесспорно, — заключил Николай.
Они допили вино, и Николай взялся за фуражку.
— Так смотри же не забудь, — сказал дядя.
— Насчет чего?.. А, насчет встрепанного? Есть не забыть.
— Какого встрепанного?
Николай засмеялся:
— Это мы у себя Модлинского так называем.
— Почему?
— Ерунда. По привычке. С летной школы еще. Он, понимаешь, говорит резко, отрывисто. Ну, как будто вскочил со сна и еще не понимает, где он...
Дима пошел провожать брата. Борис Федорович быстро попрощался и, вздохнув, вернулся в свой кабинетик, стараясь не думать о том, что ребята так и не спросили о его новой схеме запоминающего устройства. Опять забыли...
— Мы поколение промежуточное, — сказал Николай. Они медленно шли по полю. Оно было залито низким светом вечернего солнца. Даже от малых травинок тянулись длинные тени. Вдали стояли, опустив хвосты, учебные самолеты, похожие на нахохлившихся птиц.
— Не понимаю я этого, — сказал Модлинский недовольно. — Каждое поколение промежуточное: и до него кто-то был, и после него кто-то будет.
— Я в том смысле, Данечка, что мы предпоследняя ступенька. Шаг-другой — и мы в коммунизме.
Модлинский посматривал по сторонам. Лицо его — крупный нос, быстрый взгляд, какой-то модный чубатый начес, — лицо упрямого тридцатилетнего мальчишки было нахмурено.
— Что это тебя, Коленька, вдруг потянуло на «вумное»? — сказал он, насмешливо покосившись на Знобищева.
— Слушай, встрепанный, зря ты корчишь из себя антиллектуала и старого хулигана. Это уже не в моде.
Модлинский усмехнулся и промолчал.
Они остановились на краю просторного круга, усыпанного песком. В центре его был выложен большой матерчатый крест.
— Завтра здесь будут прыгать на точность приземления... Ты понимаешь, Данька, в каком смысле мы промежуточное? Ведь нам еще предстоит пройти через муку мещанства! Ты скажешь, что исторический процесс...
Модлинский резко перебил его:
— Я скажу, мне сейчас не до исторических процессов. На кой черт вы здесь песок насыпали? Ребята прыжками его утрамбуют так, что он будет твердым, как асфальт! Траву надо было оставить.
— Ну, это уж будет твоя забота, — проворчал Николай, раздосадованный тем, что гильотинировали его философский порыв.
Они подошли к деревянному сборному домику. Из непритворенной двери вылетел скрипучий голос:
— У меня дочь в некотором роде девушка, а вы тут развешиваете, извиняюсь за выражение, кальсонеты и тому подобные вульгарно-резкие принадлежности для дам высшего полета!
Модлинский удивленно поднял брови. Николай рассмеялся:
— Это старик Деревягин поливку дает!
Из соседней комнаты вышел старик в стеганке. Его большое бритое лицо с крупными чертами было прорезано мощными, как у актеров, морщинами.
Увидев Знобищева, он взмолился:
— Товарищ начальник! Нет жизни от соседа. Этакий сквернавец, не передать! И что это за порядок такой, что посторонняя личность, хоть и пенсионер, проживает на государственной жилплощади!
— А этим уж займется новый начальник. Знакомьтесь.
Модлинский протянул старику руку. Тот долго не отпускал ее и пытался шаркнуть огромными калошами.
— При мне, такое дело, дочка, на производстве работает. И внучек Алик, первоклашка. Муж ее на крупной работе был. Да помер. А отчего? От воспаления председательской железы.
— Какой? — со смехом спросил Николай.
— Председательской. Которая в заду. Зятек в президиумах, должно, пересидел.
Николай покатывался со смеху. Даже на хмуром лице Модлинского мелькнула улыбка.
— Все это очень весело, — сказал он, — а почему стога с площадки не убраны?
— Уберу, товарищ начальник. Сегодня машина придет, все как есть поуголовно уберу. Когда непорядок, я это хуже не люблю.
Они вышли из дома. Скрипучий голос Деревягина разносился далеко в чистом воздухе.
— Скажи по совести, Богдан, — спросил Знобищев, взяв Модлинского под руку, — ты в общем недоволен, что попал сюда?
— Да нет, знаешь. Я ведь фаталист.
Услышав это слово, Деревягин встрепенулся. Во взгляде его, устремленном на Модлинского, появилось что-то проницающее и подозрительное.
Когда он вернулся домой, дочка, высокая, белая, с таким же большим, как у отца, лицом, спросила:
— Ну как новый начальничек? Старик пожевал губами:
— Большие у меня сомнения насчет его, Валюша. Я мыслю так: если ты хапуга, зачем ты снюхался с авиацией? Тут тебе простору не будет.
— А разве он...
— Сам признался. При мне. «Я, говорит, хваталист». Он покачал головой и добавил:
— Есть у меня одна думка насчет его... Ну, да там видно будет...
Потом он обратил на дочку ласковый и настойчивый взгляд:
— Как у тебя, дочечка, с Кирюшей? Получается? Дочка вспыхнула всем своим большим белым лицом.
— Опять! Я же просила вас...
— А я что, не вижу? Каждую ночь спишь на бигудях. Для кого, спрашивается? Кирюша парень хороший, ничего не говорю. Но ведь в материальном отношении он полный рахит. А у тебя ребенок...
— Отец, прекратите, я уйду!
— Ты отца слушай. Я тебе обрисую все как есть... Я с тобой хочу о Петре Ефимыче говорить...
— А я даже слушать не хочу!
— Человек он сердечный, добычливый. А тебе что ни год, какой-никакой лохмот нужен. И из себя он ничего, справный, ожирелый. Опять же жилплощадь у него...
Валя вышла из комнаты, хлопнув дверью. Старик сокрушенно покачал головой и прошелся по комнате. Он поднял бумажку с пола, притворил окно. Поправил на стене покосившийся портрет Энгельса. Взбил подушку и со вздохом облегчения лег на диван. Но тут же поднялся. Тихонько приоткрыл дверь и вышел в коридор. Неслышно подобрался к двери соседа. Увидев, что на ней висит замок, он не спеша вынул из кармана конвертик и извлек из него лезвие бритвы. Приподнявшись па цыпочки, аккуратно перерезал электропровод, уходящий в комнату соседа.
Он вернулся к себе и снова лег на диван. У него был вид человека, проведшего день с толком. Размышления его приняли возвышенный характер. Вот, говорят, человека на Луну отправляют. Или это пушка? Говорят, в «Вечерке» было? Пушка, а?
Мысли стали сладко путаться. Во сне он что-то шептал и значительно поводил кустистыми бровями. Видно, и там, в безумном мире сновидений, он наводил порядочек.
Тома бродила по станции метро. Дима, как всегда, опаздывал, и она от нечего делать принялась рассматривать бронзовые скульптуры, подпирающие своды тоннеля.
Несколько раз к ней приставали разные ребята и даже двое или трое пожилых мужчин вполне приличной наружности, один с внушительным министерским портфелем. Она отвечала всем одно и то же: «Отста-а-аньте...» И столько в этом тягучем слове было равнодушия и скуки, что все интересанты отсыхали.
Она медленно брела от одной статуи к другой. Они с детства нравились ей — и пограничник с остроухой овчаркой, и птичница с курицей, которая вот-вот разразится бронзовым кудахтаньем, и особенно девушка, мечтательно склонившаяся над книгой.
Какой-то парень — зачес на лоб, крупный нос — посмотрел на нее бегло, но остро и замедлил шаг. Она уже изготовилась выстрелить своим «отста-а-аньте». Но он молча прошел мимо и только на ходу еще раз ошпарил ее своим быстрым взглядом. Что-то в его лице поразило ее, — может быть, это выражение мрачной дерзости. Она посмотрела ему вслед. Он удалялся быстро, не оглядываясь. И вдруг оглянулся. Насмешливая улыбка тронула его лицо прежде, чем Тома успела отвернуться. Ей стало досадно.
Дима спускался по эскалатору. На последней ступеньке он поспешно выпростал из-под пиджака воротничок своей пестрой ковбойки и взбил волосы. Нет, нет, только не этот корректный пробор, который ему соорудили в парикмахерской. Вихор, дымящийся над лбом, нечто мальчишеское, буйное, вдохновенное. Хоть он и знает Тому чертову уйму лет, хоть она и остается для него все той же девчонкой с нашего двора со знаменитыми серыми смелыми глазами и детским белым голосом, которым она рассказывает всякие байки, — Дима до сих пор так и не мог привыкнуть к ней.
Он застал ее возле статуи обронзовевшего моряка. Она задумчиво смотрела на могучую грудь, обвитую пулеметной лентой, на руку, сжимавшую наган.
— Любуешься? Это ж такой захолустный натурализм, дальше некуда.
— А мне это нравится, Димка! Вот эпоха! Романтика гражданской войны! И пятилеток! А что выражают все эти твои каши из цветных пятен?
Она не верила в искренность его пристрастия к левому искусству.
Он ничего не ответил. Пренебрег с высоты своего превосходства. Это обозлило ее. В вагоне всю дорогу они молчали. «Недоброе начало», — думала она, но не могла пересилить себя. У Димы на лице застыла надменная гримаска. Она терпеть не могла это выражение ледяной непроницаемости. «Очень удобная маска, — думала она, — за ней так легко скрыть глупость, невежество».
Они вышли в Сокольниках.
— Смотри! — сказала она, остановившись.
Афиша извещала о соревновании боксеров.
— А, Генка выступает... — сказал Дима. — Второй разряд — это его предел. Дальше он не пойдет.
— Почему? У него хорошие данные.
— Мускулатурку нарастил. А бойцовских качеств нет. Трус!
Это «трус» он почти выкрикнул с такой горячностью, что Тома посмотрела на него с удивлением.
Обычно она без труда разгадывала его мысли. Но вот сейчас она никак не может проникнуть за этот высокий лоб, который он, между прочим, зря декорировал идиотским вихром.
— Его приняли в физкультурный, знаешь? А Костьку — в ГИК, на сценарный.
— Твои ухажеры, — сказал он презрительно.
Она вспыхнула:
— Во всяком случае, они лучше той пошлячки из Института международных отношений, к которой ты вчера липнул весь вечер.
— У нее хорошие данные, — сказал он, мстительно передразнивая Тому.
— Вся крашеная. Ногти как губы, губы как волосы, волосы как ногти.
— Ну что ж, это эффектно.
— Ничего естественного!
— А естественное иногда хуже искусственного.
— Вся крашеная!
— Ты долбишь одно и то же, тебе бы работать где-нибудь в отделе рекламы.
— Ну, знаешь, ты...
Тома замолчала, испугавшись той ненависти, которая сейчас накатилась на нее. Она глянула искоса на него. Опять эта маска ледяной недоступности. И вдруг ее словно ожгло: он копия своего отца, Филиппа Ивановича! «Нет, нет! Только не это!» — с ужасом отмахнулась она и сказала почти примирительно:
— Ну и иди к своей крашеной, и скажи ей, что ты в нее влюблен.
— А ты меня не программируй, сам знаю, что делать.
— Подумаешь! Вольный сын эфира!
— Да, вольный! Это ты чересчур расчетлива. А я человек порыва!
— Ты?
Она хотела напомнить ему, как она со своей расчетливостью бросилась под машину спасать ту девчонку, а он со своими порывами остался стоять на тротуаре. Но сдержалась и только повторила устало:
— Ну и иди к своей крашеной.
— И пойду! А ты думала, что ты меня уже закадрила?!
Серые Томины глаза потемнели. Она резко повернулась и пошла прочь. «Как хорошо было бы мне, если бы я полюбила Генку! Почему я не могу полюбить Генку!»
Она слышала шаги за собой, потом перестала слышать. Она шла и шла. Среди деревьев мелькали ларьки, на траве сидели люди, кто-то с ней заговаривал, она машинально говорила: «Отста-а-аньте». И все шла, шла.
И вдруг остановилась. Перед ней была поляна с березками. Сердце ее забилось от радости,— с такой свободой и грацией разбежались по полянке эти молодые белоснежные деревца.
— Димка! — крикнула она.
И даже не удивилась тому, что он оказался рядом с ней.
— Смотри! Что есть более неподвижного, чем дерево? Да? А вот смотришь на эти березки, и ясно, что они всем гамузом выбежали на поляну и только на секунду остановились, чтобы передохнуть. А потом рванут дальше. Правда?
Он улыбнулся.
— Чему ты улыбаешься?
Он нехотя сказал:
— Ну, просто вспомнилось... Ты была совсем маленькая. И сказала про деревья, что они разговаривают.
— Слушай,— сказала она, сдерживая слезы любви,— как же это ты сразу оказался здесь?
— Мужчина должен быть лысым и решительным, как говорил МНР.
— Это что еще? Монгольская Народная Республика?
— Нет: Мой Непросвещенный Родитель.
Она засмеялась. Потом сказала тихо:
— Дима, ты вспоминаешь его?
— Иногда... Шелковые щеки. Мужской запах, знаешь, табак и одеколон... Ремень, свист ремня...
— Не надо, Дима!
Она сжала его руку. «Как я могла хоть минуту думать, что мы не одно!.. Он такой слабый... Его слабость — это и есть его сила...»
Они шли по аллее, прижавшись друг к другу. «Но он так далеко от меня сейчас... Как бы вернуть его из этих потемок...»
Они обогнали какую-то тетку с девочкой. Тетка злобно говорила:
— Не шаркай ногами!
И через минуту:
— Опять шаркаешь? Больше не скажу, а просто дам по шее!
Тома подмигнула Диме. На лице у нее появилось выражение шаловливости, которое он так любил в ней. Он сразу понял все и тоже подмигнул.
Они обогнали женщину.
Дима принялся громко шаркать ногами.
Тома:
— Ах, ты шаркаешь? Получай!
И влепила ему подзатыльник.
— Тьфу, ненормальные какие! — рассердилась тетка.— На Канатчикову бы вас! К психам!
Тома повернулась и очень вежливо сказала:
— Не берут, мадам. Мы нормальные ненормальные. Нам полагается быть такими. По возрасту. Помните, у Пушкина?
И она почти пропела:
— «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во многолюдный храм, сижу ль меж юношей безумных...»
— К чему это? — оторопело сказала тетка.
— Как к чему? Улицам полагается быть шумными, храму — многолюдным, а нам, юным, — безумными. Ничего не поделаешь! Против закона не попрешь!
И, взявшись за руки, Тома и Дима со смехом побежали вдаль. Хотелось петь, носиться, дурачиться.
— Слушай, Тома, ты помнишь, что ты сегодня у нас?
— Да. И мама. А кто еще?
— Колька приведет нового инструктора.
Томе опять почудилось в его голосе что-то неестественное, напряженное.
— Ну, расскажи же мне все-таки: что с тобой такое?
Лицо его было спокойно, даже бесстрастно. Но Тома чувствовала, что все в нем взбудоражено, все мечется из стороны в сторону.
— Нет, не отворачивайся, посмотри мне в глаза.
Он посмотрел в эти два поднебесья, вылепленные с таким совершенством, так нежно, так изящно, он заглянул в самую глубину этих серых, смелых, с детства любимых глаз и сказал:
— Со мной? Ничего.
— Кто это девчонка?
Коля не услышал. А сказать громче Модлинский стеснялся.
Он сразу узнал ее. Ну конечно, это она сегодня в метро молилась на бронзовые статуэтки, раздобревшие до габарита памятников. Взгляд прямой, как выстрел в яблочко. Даже если бы не было в ней ничего, кроме этого взгляда, и то блеск! Но у нее есть и другое: это, и вот это, и вон то...
— Кто эта девчонка?
Николай не слушал. Он разливался насчет своего мопеда, шныряя, как всегда, глазами и обращаясь к компании из шести человек: 1) Колькин дядька, Борис Федорович, немного смешная, на взгляд Модлинского, мешанина из седых волос, кибернетического трёпа и по-детски округлых щек; 2) немолодая женщина с печальным красивым лицом, 3) высокий парнишка с рожицей довольно смчзливой, но, на взгляд Модлинского, бесхарактерной, одно упрямство, никакого вулканизма; 4—5) еще двое парнишек, они почему-то воспринимаются на пару, дуэтом, один — рыжая глыба с пластырем под глазом, спортсмен, что ли, другой с узеньким, умненьким личиком, заостряющимся к любопытненькому носику, оба модники и 6) она. Молодые держатся своей бражкой.
— Конечно, это была чистая придирка, потому что я следовал в одном метре от тротуара со скоростью транспорта. Но в общем обошлось. Я же знаю, как с ними разговаривать. «Виноват, товарищ старшина», «Учту, товарищ старшина», «Спасибо за науку, товарищ старшина».
— Кто эта девчонка?
Николай наконец обернулся и выкрикнул запальчиво, словно ссорясь:
— Слушай, Данечка, чем, по-твоему, все-таки лучше заправляться — дизельным маслом или автолом?
Тут завелся Борис Федорович. Модлинский ничего не понимал. Только и слышно было: «двоичная система», да «нелинейные диэлектрики», да «четырехкоординатная сетка». Модлинский бросил слушать и принялся исподтишка наблюдать ее и тех трех парней. Кто-то из них Колькин брат. Не этот ли, с фингалкой под глазом?
«Интересно, с кем и в каких она отношениях? Надо полагать, что ближе всех для нее этот высокий, красивый. Безусловно, между ними что-то есть. Вот он взял ее за руку. А она бегло глянула на меня и тихонько отняла руку. Спорим, что она узнала меня. Как бы мне все-таки подобраться к ней? А парень мне не нравится все больше и больше. Вялый какой-то. Темперамент холодного копчения. А в то же время налицо симптомы нервно-психического возбуждения. Вот он что-то шепчет ей на ухо. Она неслышно засмеялась, лицо у нее стало счастливое, и она посмотрела на парня так хорошо, так доверчиво...»
Вступает дядька:
— А вы помните, что писали у нас о кибернетике каких-нибудь девять-десять лет назад? «Реакционная лженаука» и тому подобное... Эти, с позволения сказать, философы сейчас, вероятно, за те свои слова краснеют, если только они не утратили этого свойства или если они наконец его приобрели. Как вы считаете, товарищ Модлинский? Да, верно, по молодости лет вы об этом и не знаете. Почему-то о смысле жизни начинаешь задумываться тогда, когда самой жизни почти не осталось.
Увидев обращенные на себя взгляды, Модлинский понял, что надо что-нибудь ответить. Он откашлялся и сказал:
— Жить нужно дугообразно.
— Ах, вот как! Но ведь дуга идет и книзу. Модлинский развел руками: дескать, это уж как хотите.
Борис Федорович вздохнул:
— Эх, безжалостность молодости... Уйду, честное слово, на пенсию. Буду на бульваре заниматься козлодранием.
«А старичка, видать, заклинило», — подумал Модлинский и сказал вслух:
— А насчет дуги — это вы зря. Это в ваше время она шла книзу. А сейчас, прямо скажем, человек становится вроде бога. Материю он разложил? Факт! Мыслящие машины создает, подобные человеку? Обратно факт! Так я уверен, что следующим его шагом будет достижение бессмертия!
— Апробировано! — с восторгом подхватил тот высокий красивый парень.
— Это что еще, Дима, за словечко? — поморщился Борис Федорович.
Николай примирительно сказал:
— Ну, это примерно значит: согласен. Знаешь, дядя, за игрушки этим ребятам уже стыдно приниматься. А поиграть еще хочется, детское из них еще не выпарилось. Вот они из слов и делают себе цацки.
Модлинский поддакнул:
— Правильно! Мы — молодые.
Тут дядька взорвался:
— Молодые, молодые! Ну, а дальше? Это, конечно, приятная подробность, что вы молодые. Но, кроме этого, какие вы еще? Молодые ведь могут быть умными и дураками, честными и плутами, смелыми и трусами.
— Так их, Борис Федорович! — закричала девушка. «Ну и девка! Против своих прет!» — восхитился Модлинский.
Ему хотелось запустить старичку в лицо что-нибудь убийственное, разложить его при всем честном народе. Но ему ничего не приходило в голову. Он только пыхтел, опустив по-модному, точь-в-точь как у Димы, нечесаную голову. А Борис Федорович брезгливо смотрел на их нестриженые виски, но молчал, чтобы не походить на покойного отца Димы. Это было его заповедью: боже упаси, только не быть похожим в чем бы то ни было на Филиппа Ивановича!
Он вдруг вспомнил с испугом, что Димочке завтра прыгать, а командовать там, на аэродроме, будет уже не Коля Знобищев, а этот мрачный растрепаха Модлинский... «Ох, не ко времени я с ним сцепился...»
— Даниил... простите, не знаю вашего отчества...— сказал он, подойдя к Модлинскому.
Тот удивился:
— Вы меня? Так меня ж зовут Богдан.
— Позвольте, я слышал, как Коля вас назвал: «Данечка».
— Меня можно было бы с тем же успехом назвать или Боженька, или Данечка. Предпочли второе.
Кругом рассмеялись. Но сам Модлинский не смеялся, а только поглядывал на окружающих насмешливыми и, как показалось дяде, злыми глазами.
Он вздохнул и сказал почти льстиво:
— Так, Богдан, пожалуй, вы правы. Я вспоминаю, что и у нас в молодости были свои словечки, которые раздражали старших. Ну, например, «бенц», «прокол» и тому подобное. Да, кстати, товарищ Богдан, хотел я у вас спросить совет по поводу...
Вот тут-то наконец на Модлинского накатило вдохновение. Он победоносно прищурился на Бориса Федоровича и сказал, прерывая его:
— Вы, кибернетики, наверно, скоро сделаете так, что в каждом справочном киоске на площадях будет стоять автомат для выдачи советов. Очень удобно: опустил гривеник — получил совет. Потому что совет обычно спрашивают люди с менее программированным котелком у людей с более программированным котелком.
Но Борис Федорович, вместо того чтобы, как рассчитывал Богдан, бросить на обидчика бессильный взгляд и отползти в темный угол зализывать рану, загрохотал добродушнейшим смехом. И все почему-то засмеялись.
Только та пожилая женщина оставалась серьезна. Она сказала тихо:
— Боже, как я была слепа.
Девушка удивилась:
— Почему, мамочка?
— Ты была мала, Тома. Ты не помнишь этих жестоких споров между Борисом Федоровичем и Диминым отцом. И я, должна признаться, брала сторону Филиппа Ивановича.
— Дело прошлое, — сказал Борис Федорович, — Филипп Иванович действительно не жаловал мою науку. До того дошло, что самое слово «кибернетик» — помните, Вера Львовна? — он издевательски перековеркал. Вторая половина звучала как «нытик».
— Охота вам вспоминать, — сказала Вера Львовна, покраснев.
— Получалось: кибернытик? — живо спросил востренький.
— Да... Не совсем. Потому что первую половину он тоже переделал. Но в дамском обществе и произнести неудобно.
Все снова засмеялись. Модлинский с любопытством смотрел на Веру Львовну. Он никогда не видел, чтоб люди в этом возрасте краснели. Он заметил, что Борис Федорович и она называют друг друга по имени-отчеству. Тем не менее он шепотком спросил у Николая:
— Они что? Вроде мужа и жены?
Николай не то не расслышал, не то не счел нужным ответить.
Один из спаренных парнишек, тот, рыжая глыба с залепленной скулой, сказал:
— В шахматы, говорят, машина уже играет. А как, интересно, насчет других видов спорта?
Снова все засмеялись, кроме Бориса Федоровича, который совершенно серьезно сказал:
— Давайте условимся, что понимать под словом «спорт»?
— Ну, как что? Ну, хотя бы бокс.
— Подожди, Гена, — перебил его другой, тот, востренький.— Я, Борис Федорович, слышал на днях лекцию одного математика. Так он утверждал, что машина может сочинить стихи. И в доказательство прочел стихотворение, написанное машиной.
Тома оживилась:
— И ты его помнишь, Костя?
— Стану я запоминать всякую муру.
— Значит, мура?
— На уровне раннего Аврелия Строче-Вышивального. Помнишь его стих с аллитерациями на мягкий знак? В этом же роде. Мура беспросветная.
Все молодые засмеялись. Вмешался Борис Федорович:
— Ну, это был, очевидно, несовершенный опыт. А то ведь можно заложить в машину критерий нетривиальности.
Костя ошеломленно смотрел на Бориса Федоровича. Наконец пробормотал:
— То есть как это?
— А так, что машина станет отбирать наиболее ценное, отбрасывать банальности, находить новые сочетания. Это трудная задача, но в принципе она осуществима.
— Простите, Борис Федорович, но ведь поэзия — это, так сказать, высокое чудачество. А машина неспособна на причуды. Это первое. Второе: машина неспособна понять, что она ошиблась. Она не может спохватиться.
— Можно ее отпрограммировать на спохватыванье, — сказал Борис Федорович не совсем уверенно.
— Что вы, Борис Федорович! Машина не может заметить, что она сделала ошибку. Она ошибается с божественным спокойствием.
— Точно как ты сейчас, Костя.
— Блеск! — вскричала Тома.
Но Костя не сдавался:
— Простите, Борис Федорович, неужели вы серьезно считаете, что машине доступно творчество?
— Давайте условимся, что понимать под словом «творчество».
— Простите, Борис Федорович, вам, может быть, стихи Аврелия Строче и картины Вильяма Доморощенко кажутся искусством?
— Товарищи, товарищи! — вмешался Знобищев.— Разговор ведется на разных этажах. Люди искусства плавают в науке. А люди науки плавают в искусстве. Из-за этого, а также из-за болезненной подозрительности каждая сторона видит в другой черта: художники в ученых — черта механистического, а ученые в художниках— черта идеалистического...
Во время этой тирады Знобищева Модлинский наконец благополучно завершил свой давно предпринятый маневр — вплотную подобрался к стайке молодых.
Он не решился сразу обратиться к Томе, а заговорил для начала с рыжим Геной:
— Я тебя где-то видел. Вроде на манеже, а? Ты часом не конник?
— Отнюдь.
— Гм... А я вот увлекаюсь. Хороший спорт. Всесторонний, знаешь. Да... Конечно, от коня зависит. Ну, мой Рыцарь не жеребец — поэма! Но где же все-таки я тебя видел?..
Гена молча пожал могучими плечами. За него отозвался востренький Костя:
— Не мучайтесь. Вы его видели на ринге, наверно. Перед вами не кто иной, как сам Геннадий Зубрик, восходящая звезда советского бокса. Покуда второй разряд, но в будущем олимпийская золотая!
Богдан принял это как обряд знакомства и по очереди протянул руку всем, сообщая:
— Богдан Модлинский.
Когдя Костя назвал себя, Гена ехидно вставил:
— Писатель. Восходящая звезда литературы. Будущий лауреат.
Богдан уважительно посмотрел на Костю и сказал:
— У меня есть один знакомый писатель... Или, может, он лектор? В общем что-то в этом роде.
— Да, — сказал Дима, подмигнув Томе, — видать, вы тонко разбираетесь в искусстве.
— Не сказал бы, чтоб так уж тонко, — скромно возразил Модлинский, — но красоту люблю во всех ее проявлениях. На меня, например, чересчур действуют солнечные закаты. А развертка усеченного конуса — это ж, кто понимает, такая красота! Люблю хороших коней. Люблю красивых девушек.
Словно увлеченный разговором, он легонько взял Тому под руку.
Она отшатнулась, глянув исподлобья на Богдана. И этот взгляд напомнил ему Рыцаря, как он первое время шарахался и пялил на него свой горячий, испуганный и негодующий зрак.
«Вот черт! Никакого кокетства! Совсем необъезженная!» Он прошептал, наклонясь к ней:
— Скукота здесь, не находишь? У меня моторка в Филях. Побродим по реке. Я сматываюсь первый. Жду тебя на углу. Договорились?
Она не отвечала. Но он знал, что она слышит его. Он не сводил с нее глаз. Он весь, от темени до пят, был как струна, как высокий, напряженный звук. Он чувствовал восторг.
Кто-то сзади положил руку ему на плечо. Он рванулся. Но рука не отпускала.
— Отстаньте! — прошипел он не оглядываясь.
Но рука не отпускала.
Он оглянулся в бешенстве. Это был Николай.
— Данечка, на минутку.
— К черту!
— Иди сюда, встрепанный! — процедил Николай грубо.
Модлинский с ненавистью посмотрел на него:
— Чего тебе?
— Это твои ребята. Понял?
Все. Исчез воздух. Стены до небес. Все отодвигается мучительно далеко, как в бреду. Тоска!..
— И она? — спросил он чужим голосом.
— И она.
Он летит в бездну. Так было однажды на затяжном прыжке. Страх, что не раскроется парашют. Земля навстречу со скоростью снаряда — растет, растет! Конец!.. Прощай, красивая сказка! Это мои ребята. Никакого излучения. Мои!..
Он сумрачно кивнул Николаю. Тот облегченно улыбнулся: сработали тормоза. Можно не беспокоиться, у Данечки тормоза надежные.
Богдан посмотрел на своих ребят. Тома слушает Бориса Федоровича, сложив руки на коленях, чинная, благонравная. Молния с бантиком. Эта прыгнет на «отлично». А Дима? Брови сведены. Пальцы стиснуты. «Что его жжет? Я, что ли?»
— Слушай, Коля, что за парень твой братишка? С чем его едят?
— Я за него спокоен.
— Наземные упражнения полностью прошли? На батуте, на допинге?
— Что ты! Они у меня уже по два прыжка сделали. Завтра — третий.
— А ты учел, что завтра с добровольным раскрытием?
Николай погладил усики. Потом сказал:
— Понимаешь, Димка лет до двенадцати жил у своего покойного батьки.
— А тот кто?
— Довольно-таки неуютный экземпляр. Затуркивал мальчишку. Понимаешь? Хамство деспотизма, как говорит дядя. И Димка вырастал на чувстве протеста...
— Ясно: движение сопротивления отцу.
— Во-во! Но все-таки что-то из батькиной мути в нем застряло. Это я тебе, Данечка, как другу.
— Учту. Мне, понимаешь, показалось, что он, как говорится...
Николай толкнул его в бок. Подходил Борис Федорович.
— Ну как, молодые люди... — начал Борис Федорович, а потом сразу понизил голос: — Вам, может быть, это покажется смешным, но я каждый Димочкин прыжок переживаю больше, чем он сам. Девушки, по-моему, прыгают лучше: воображение не такое активное. А у Димы такая тонкая нервная организация...
Модлинский громко сказал, с расчетом на Диму:
— Кто? Дима ваш? Коренной парашютист. Мы-то нашу породу узнаем сразу.
Ребята услышали. Они замолчали и приблизились.
— Вот что, детки, — сказал Богдан. — Пора сматываться. Перед прыжками надо выспаться. Добрать так минуток четыреста восемьдесят.
— Мы только немножко погуляем, — сказал Дима.— Перед сном полезно. Ну, позвольте нам! Ну, товарищ Модлинский!
Лицо его сияло радостью. Он смотрел на Богдана с обожанием. Он ластился к нему, как девушка.
— Ладно, — сказал Богдан. — Валяйте. А знаете что, ребята? И я с вами. Прослежу, чтоб не перегуляли.
Они шли по мостовой, орали, хохотали, а потом запели.
Кончилось тем, что подошел милиционер и предложил «не нарушать».
Костя хотел было вломиться в дискуссию. Но Модлинский остановил его:
— Не надо цепляться к милиции.
— Да, не хватает только перед прыжками проваляться ночку в отделении, — сказал Дима, впавший из чувства преклонения перед Богданом в необыкновенное благоразумие.
— И вообще, — проворчал Богдан, — схлестнуться с милиционером — это дурной тон.
— Апробировано! — закричал Дима. — Правда, Тома? Тонко!
Некоторое время все шли молча. Модлинский смотрел в белое небо. Он казался грустным.
— Погоду на завтра гадаете? — робко осведомился Дима.
— Что-то затосковал я по южным ночам, — сказал Богдан тихо.— Разве же это ночь? У нас там тьма густая, вкусная. Пахучая. Прямо режь ножом и жуй. Светляки летают...
— Вы там, на юге, и кончали? — спросил Костя.
— Чего кончал?
— Университет.
— Я не интеллигент. Университетов не проходил, — огрызнулся Богдан.
Тома шепнула Диме:
— Он просто глуп.
Дима недовольно посмотрел на нее и сказал:
— Вы же с Колей нашим кончали.
— Летную, — мрачно ответил Богдан.
Костя и Гена запели:
Попрощался на рассвете
И умчался на ракете.
Ты черкни письмишко мне,
Как с харчами на Луне...
Дима подошел к ним и стал подтягивать. Они отстали.
Тома подняла глаза на Модлинского и спросила серьезно:
— Что вы думаете о Диме?
— Я же сказал.
— Слышала. Так это ж было сказано специально для него. А еще?
— Еще? Видать, вспышками работает.
— А еще?
— Ну, занят всегда предыдущим. Долго переваривает.
Он посмотрел на нее:
— А вот ты — последующим. Живешь вперед.
— А вы?
Модлинскому почудилась в самой глубине ее серых глаз легонькая насмешка. «Ну и пусть», — подумал он.
— А я — настоящим.
— О чем же вы сейчас думаете?
— О том, что не могу стать скотиной.
— А хочется?
— Очень.
— Так в чем же дело? Наверно, это нетрудно.
— Не могу. Что-то во мне, понимаешь, крутится такое, что мешает мне стать скотиной.
Вдруг брызнул дождь, частый, теплый. Пролетая мимо фонаря, он превращался в серебристую завесу. Тома вскрикнула и, взяв Богдана за руку, потащила его под арку.
Здесь он выхватил свою руку так грубо, что она с удивлением посмотрела на него.
— Придумала тоже прыгать. Ты брось это баловство.
— Но вот же вы прыгаете.
— Это мой хлеб. А тебе на что? Уходи из кружка, уходи! — повторил он с непонятным упорством.
— А у нас с Димой все рассчитано. Кончим медицинский — поедем в глубинку. Вдруг срочный вызов к тяжелобольному. Самолетом. А приземлиться негде. Значит, надо прыгать.
Он молчал. Он даже не смотрел на нее. Его опущенная голова каменно чернела на фоне этой нежной серебряной дождевой пыли. Томе стало жаль его.
— Пойдемте, — сказала она, — дождь прошел.
— Не прошел. Слышишь, капает...
Сочно падали капли: чавк... чавк...
— Так это не дождь. Это — время. Под арку вбежали ребята.
— Вот где они! — вскричал Костя.
Гена переминался по-медвежьи, отряхивая с себя воду. Он не спускал глаз с Томы и Модлинского. Дима курил и казался беспечным.
— Какое время? Что за чертовщина? — нахмурился Богдан.
Тома пожала плечами.
— Когда люди засыпают, — сказала она наставительно, — тогда засыпает и время. И тогда оно сгущается вот в эти капли. Слышите?
Капли падали мерно, густо, звонко. Богдан с недоумением посмотрел на Тому:
— Ты это серьезно? Все захохотали. Костя вскричал:
— Красиво!
— Томочка в своем репертуаре, — усмехнулся Дима. Гена насмешливо посматривал на Модлинского.
— А ты не боишься, Тома, что можешь проспать свое время?— медленно спросил Богдан.
Тома сказала убежденно:
— Время проспать нельзя.
— О, еще как! За милую душу!
— Нет, нельзя!
Теперь они смотрели друг на друга с таким вызовом, словно здесь, под аркой, были только они двое и больше никого.
Наконец Модлинский сказал ласково:
— А ты выдумщица, оказывается.
Тома выпрямилась, вскинула голову и сказала холодно:
— Между прочим, почему вы мне говорите «ты»?
Последний раз Богдан растерялся много лет назад, когда был сопливым пацаном. А сейчас за несколько минут— вот уже дважды.
Дима разрядил молчание:
— А дождь в общем чепуховый. Пошли.
Модлинский и Тома шли впереди. Те трое отстали. Костя сказал тихо:
— Дима, отзови-ка на минутку Тому в сторонку.
— Зачем?
— Нужно. Мы хотим перекинуться парой словечек с этим демоническим мастером парашютного спорта.
— О чем?
— О чем? Узнать его мнение хотя бы о перспективах племенного овцеводства за Полярным кругом.
— Секреты! — дурашливо произнес Дима, хотя отлично понимал, в чем дело.
Он отозвал Тому, а Гена и Костя подошли к Модлинскому. Костя сказал:
— Вот что — вы здесь себе поживы не ищите. Понятно?
Богдан удивленно молчал. Гена вмешался:
— Не дошло? Тут ходоку по бабам не место. Уяснил?
— Не тот случай, — сказал Костя.
Гена добавил:
— А не то будешь иметь дело со мной.
Богдан смотрел на них с явным удовольствием.
— Для вас, ребята, пожалуй, будет безопаснее, если вы обойдете меня стороной. У меня ведь тоже разряд по боксу. И по тяжелой атлетике. Первый. Так что, Геннадий, к твоей фингалке я могу добавить другую. Справа. Для симметрии. Я ведь не совсем лишен чувства изящного.
Боксер и писатель мрачно смотрели на него. Модлинский устало вздохнул и сказал:
— Никто не может мне ничего запретить. Соображаете? Но я сам себе это запретил. Уразумели? Чего мне это стоило — вопрос десятый. А вы, ребята, действуете правильно. Оберегайте ее! Такая девчонка встречается от силы раз в жизни. А большей частью вообще не встречается. Обидно будет, если какой-нибудь пошлячок загадит ей жизнь.
Он снова посмотрел на них:
— Влюблены?
Они заговорили вперебивку:
— Что вы!.. Да мы... Очень нужно... Мы просто так... Мы с детства дружим...
Он оглянулся на Тому и Диму и сказал:
— Почему это хорошие девчонки так часто влюбляются в хлюпиков? Может, это не любовь, а жалость? А?
Не дождавшись ответа, он крикнул:
— Тома! Дима!
Когда они подошли, он сказал:
— Марш домой! Спать! Чтоб вы мне завтра были как огурчики. Кому куда?
— Мне на метро, —сказала Тома.
— Я провожу ее, — сказал Дима.
— Отставить! Геннадий, Константин, доставите этот груз домой большой скоростью. Не кантовать и не целовать. Айда!
Когда они исчезли в дверях метро, Дима сказал:
— Мы еще можем немножко погулять. И знаете что, товарищ Модлинский? Такой хороший вечер, я так счастлив, что узнал вас. Хочется отметить это чем-нибудь.
— Что? — загремел Модлинский. — Накануне прыжка отмечать? Алкоголь парализует волевые качества. А они у тебя и так не в избытке.
Он подозвал проезжавшее такси и усадил туда Диму.
— Дай мне слово, что через полчаса будешь бай-бай.
— Даю слово! — с чувством сказал Дима.
Модлинский вдруг наклонился и поцеловал его. Дима чуть не заплакал от прилива нежности. В заднее стекло машины он смотрел с умилением на удалявшуюся высокую фигуру Богдана.
Потом он откинулся на спинку сиденья и с упоением думал о том, какого замечательного друга он приобрел и как ему будет интересно дружить с этим ярким, мужественным человеком.
Эти мысли не оставляли его и тогда, когда он на углу Арбата остановил машину и, расплатившись с шофером, вошел в ресторан, весь во власти праздничного возбуждения...
...Посреди ночи Дима проснулся. Вино еще не выдохлось из него. Он подошел к окну. Ветер принес со Спасской башни два протяжных звона. Край неба над крышами бледнел. Но сильное электрическое зарево, бившее отовсюду, заслоняло зарю.
Дима беспечно улыбнулся. Завтрашний день представлялся ему простым и легким. Игрушки! Из окна были видны кремлевские звезды. Не все, только две. Они горели драгоценным рубиновым огнем на фоне этой скромной, линялой полоски неба.
Кругом крыши, верхушки деревьев, Т-образные антенны телевизоров.
С улицы донесся женский смех и оборвался. Потом шум отъезжающей машины. И все. Тишина. Ах, если бы эта ночь длилась бесконечно!
А небо светлеет все шире, и электричеству уже невмоготу спорить с зарей. Фонари превращаются в папиросные огоньки. «Все-таки зачем я присел за чужой столик, хвастал, бузил?.. Спать! Ничего умнее не придумаешь. Заснуть поскорее, пока не встал во весь свой рост Комплекс Раскаяния. Заспать его!..»
...Дима проснулся. В комнате плавала серость. Который час? Непонятно.
Он прислушался. Тихо... И вдруг за окном защебетали птицы. А через мгновенье в небе загудел самолет. Ага! Значит, очень рано: птицы и самолеты просыпаются первыми.
Ох, лечь бы сейчас на берегу и без конца тянуть в себя воду. В голове катается что-то чугунное. Язык картонный.
Внезапно сквозь штору ворвался узенький, весь в пыли, солнечный луч. И в этом золотом коридоре звонко сновала муха.
Дима приподнялся на локтях. «В конце концов, прыгать с неба противно естеству человека... Я уже понял: я не Долохов. Значит, я Тушин?»
Он сел на кровати.
«Ну-ну! — подбадривал он себя. — Ну-ну! Через не могу!.. Я должен задавить в себе МНР...
Который час? Только? Ну, до этого у меня еще прорва времени!»
Он поднял штору. Солнце светило, но все — тени деревьев, силуэты прохожих, самый свет — отливало чем-то зловещим. Ах, вот в чем дело! Над солнцем висела огромная туча. И солнце стало похоже на чей-то хмурый взгляд исподлобья...
...Он снова посмотрел на часы. Как? Уже прошел час! Когда?.. Не может быть, часы врут.
Он снял телефонную трубку и набрал «часы».
Нет, правильно. Что за коварная штука время! Откуда только оно сыплется?..
За окном уже день. Разнузданно воркуют голуби. Почему по воскресеньям так много девушек в штанах? С мокрых крыш капает: чавк... чавк... Дима вспомнил вчерашнее Томино: сгустки времени. И как все таяли от восторга: «Здорово! Чертовски талантлива!» И прыгнет она, конечно, лучше всех. И, конечно, не придаст этому значения. Диму раздражало, что он влюблен в такое совершенство.
Нет, нельзя распускаться. Дима сделал несколько энергичных взмахов руками. «Взять гантели разве? Да лень нырять под кровать за ними... И зачем я вломился в пьяный скандал?.. Фу!.. Нет, мне нужна зарядка не физическая, а интеллектуальная».
Дима раскрыл книгу, которую ему дал Коля Знобищев. Оказывается, солнце будет жить еще десять миллиардов лет. «Ну, будет, ну, и что? Вот что-то отчеркнуто Колькой: «...внутренний разогревающий радиоактивный процесс в Земле будет происходить еще более миллиарда лет...» Заладили! Что мне с тех миллиардов, если мне сегодня там, в вышине, дергать кольцо...»
Хлопнула дверь. Видно, дядя встал. Почему так рано? «Наверно, хочет увязаться со мной на аэродром. Только этого не хватало! Особенно после того, как он вчера ни с того ни с сего спикировал на ребят: «Молодые!» В общем, конечно, плевать. Какой я, к черту, молодой? Только кажется, что восемнадцать лет — это мало. Типичный оптический обман. На самом деле это чертова уйма зим, весен, лет и... Спросить у Кольки: склоняется ли осень во множественном числе? Могу даже подсчитать: я прожил семьдесят два времени года. Что, мало?»
Дима внимательно смотрел на тучу. Она явно растет. Если она распухнет на все небо, о прыжках не может быть и речи. Загадаем! Спросим у бога.
Дима включил и мгновенно выключил радиоприемник. Оттуда вырвались два слова: «...силосные ямы...» Чепуха. А по другой программе? «...величие нашей литературы...» Бред! Нет, надо загадать старинным способом. Все-таки разговор не с участковым, с самим боженькой.
Дима, зажмурившись, снял с полки первую попавшуюся книгу, раскрыл ее и не глядя ткнул пальцем в страницу. Открыл глаза и прочел:
«...Смелость, самосознание, чувство гордости и независимости важнее хлеба...
Диме даже жутко стало. В самую точку! Это действительно звучало как голос неба. Дима посмотрел на корешок: Карл Маркс. Избранные сочинения. Ну и номер! А? Кто же он, старик Маркс, — Тушин или Долохов?
Задумавшись, он прошел в ванную. Там стоял перед зеркалом дядя и лихо косил электробритвой злую стариковскую щетину.
Он кивнул Диме и сказал:
— Я кончил. Будешь принимать душ?
Пока Дима мылся, Борис Федорович быстро оделся и тихо, стараясь не стукнуть дверью, вышел из дому. Вчера во время своего «бунта против молодых» он был оглушен внезапной мыслью:
«А Димочка-то становится похожим на своего отца...»
Он тотчас с негодованием прогнал эту мысль. Но одного ее появления было достаточно, чтобы Борис Федорович решил поехать на соревнования парашютистов.
Вчера, когда он заикнулся об этом, Дима возмущенно посмотрел на него. Поэтому дядя решил ускользнуть тайком. Так он и сделал, забежав по дороге за Верой Львовной, о чем между ними было уговорено еще вчера.
Билеты предъявляли в проходной.
Стены там были сплошь завешены плакатами и фотоснимками, изображавшими парашютистов и летчиков. Они все улыбались. И на плакатах, и на фото, и в группах, и поодиночке, на земле, в воде, и в воздухе они улыбались.
У входа стояла статуя голого мужчины. Он тоже улыбался и протягивал вперед руку. Он был большой, но какой-то непрочный, — видно, из гипса. Костя внимательно оглядел его.
— Знаешь, Генка, как называется этот шедевр?
— Как?
— «Вы берете в руку — вы имеете вещь».
Билеты проверял маленький старичок. Костя с интересом уставился и на него. Старичок, несмотря на теплое утро, был одет в ватные штаны, валенки и циклопические галоши. Он тоже улыбался.
Предъявляя билеты, Костя сказал:
— Вход по предъявлении улыбки.
И растянул лицо в клоунскую улыбку. А за ним и Гена.
Старик укоризненно сказал:
— Взрослые люди играют в детей.
Костя толкнул Гену в бок:
— Слышал? Это, наверно, их знаменитый Деревягин. Они прошли на аэродром. Край этого огромного травянистого выгона был отгорожен веревкой для зрителей.
Костя шепнул:
— Смотри — Томина мама. С Димкиным дядькой.
— Да... А знаешь, она, видно, была красивая.
— Определенно. Она и сейчас еще похожа на пожилое облако.
— Они зовут нас.
— Пренебрежем?
— Неудобно...
— Вот не имела баба хлопот...
По ту сторону веревки прошли несколько парашютистов в желтых безрукавках и узких спортивных брюках, с тяжелой грацией передвигая ноги в грубых бутсах. Вера Львовна сказала, глядя на них:
— Все-таки в девушках не должно быть столько мальчишеского... Я так волнуюсь за Тому.
— Дорогая моя, сейчас сделали из этого целую историю,— сказал Борис Федорович. — А видели бы вы, кто только не прыгал во время войны! Толстые пожилые лекторы, близорукие корреспонденты, даже священники с бородами, наперсными крестами и камнями в почках.
Вера Львовна засмеялась:
— Тоже скажете — священники! Зачем им было прыгать?
— Как зачем? Для работы в оккупированных немцами районах. Это ж были наши священники, патриоты. Некоторые с радиопередатчиками. А вы думали!.. А, здравствуйте, молодые люди! Димочку не видели?
Гена вместо ответа вдруг заорал:
— Эй, Коновалихин!
К веревке подошел длинный парень в безрукавке, перевитый, как робот, проводами. Он о чем-то вполголоса поговорил с Геной, рассеянно оглядываясь по сторонам.
— Перворазрядник, — сообщил Гена, вернувшись.— Они будут прыгать с тысячи метров. На точность приземления.
— А что он какой-то вроде нервный? — спросил Костя.
— Нормально: перед состязанием. Учти: переживает. Представляешь?
Борис Федорович схватился за голову и застонал:
— Боже мой! Что он говорит!
— А что я такое сказал? — испугался Гена.
— Он еще спрашивает! Вы слышали, Вера Львовна? «Учти: переживает. Представляешь?» Ни одного правильного слова! «Учти» — из бухгалтерского лексикона. «Переживает» требует дополнения. А после «представляешь» надо говорить «себе». Представляешь себе. Себе!
— Все говорят без «себе», — угрюмо сказал Гена.
— Все! Вот это и худо. Хоть бы ты, Костя, — все ж таки готовишься в литераторы, — хоть бы ты сказал ему,
—А ведь действительно все так говорят, Борис Федорович, — сказал Костя. — И не нашими слабыми ручонками остановить этот водопад. Нет, в самом деле! Язык перед нами не в ответе. Язык не может быть ни правым, ни виноватым.
— Ах, так? — язвительно сказал Борис Федорович.— А плохим или хорошим язык может быть?
— Конечно.
— Слава богу, хоть это он признает. Так позволь тебя спросить: «Учти: переживает. Представляешь?» — по-твоему, хороший язык?
— Борис Федорович, поймите, язык хорош тогда, когда он живой...
— Прыгнул! Смотрите, прыгнул! — закричала Вера Львовна. — Боже мой, может быть, это наши!
— Нет, — раздался сзади голос, — пока это еще мастера и перворазрядники. Наши — потом.
Это был Коля Знобищев, молодцеватый, благоухающий, как утро.
— Вот ты нам все объяснишь, — обрадовался дядя.— Почему сначала мастера?
— А это так задумано. Глядя на них, новички развивают в себе рефлекс прыжка, ну, попросту говоря, уверенность.
Самолет долго кружил над аэродромом, словно выбирая место, где ему тут, в воздухе, поуютнее устроиться.
— «У-2»? — тоном знатока осведомился Борис Федорович.
Коля засмеялся:
— Что ты, дядя! Старину вспомнил. «АН-2»! В «уточке» был мотор на сто лошадиных сил.
— А в этом?
— На тысячу. Он же забирает восемь человек.
От самолета отделилась фигурка, похожая на куколку. Казалось, она танцует в воздухе. Вдруг над ней появился лоскут. Он распрямился, потом раздулся огромным цветным зонтом и медленно с небес пошел по косой вниз, как по длинной невидимой лестнице. Марионетка там, под ним, уселась как бы на стуле, слепленном из воздуха. Видно было, как она натягивает стропы, управляя парашютом.
— Масштабно, — с уважением сказал Геннадий.
Коля досадливо крякнул:
— Э, что она делает...
— А что? — испугалась Вера Львовна.
— Да вот не вовремя притормознула и провалилась... Парашют опустился на землю и, обмякая, поволочил за собой фигурку. Она ловко вскочила и принялась подтягивать парашют.
— Чем же, собственно, плохо? — спросил Борис Федорович.
— Очень далеко от креста, ну, от назначенной точки приземления.
— Разве она не мастер?
— Мало сказать — мастер. Чемпионка в прошлом! Да ей уже двадцать семь лет, она уже на излете, дает пенку.
— Чего-чего дает? — насторожился дядя. Коля засмеялся:
— Это у нас такое словечко профессиональное. В последнее время она что ни прыжок, то заход начнет слишком далеко, то у земли ошибется. Отпрыгалась...
— Когда Тома будет прыгать, я закрою глаза, — сказала Вера Львовна.
— Ну, Тома прыгает как ангел, — сказал Коля, смеясь.
— А Дима? — спросил дядя.
— Ой! — забеспокоился Коля, глянув на часы. — Вы меня извините, бегу к ребятам. Все-таки Богдан сегодня первый день...
Шнуруя ботинки, Дима заметил, что у него трясутся руки, как всегда после выпивки. Он притворился, что не замечает этого. Для себя притворился. Потому что в раздевалке было пусто. Все ребята пошли смотреть на прыжки перворазрядников. Только у девушек еще кто-то есть. Сквозь дощатую перегородку доносятся голоса, смех. Ему казалось, что он слышит голос Томы.
Он с досадой вспомнил, как по дороге сюда она накачивала его: как бинтовать стопу, да как оторваться от самолета, да как дернуть кольцо, — ну, словом, как с кретином, пока он не оборвал ее — не подумайте! — вполне культурненько: «Советы надо давать тогда, когда их спрашивают». Конечно, он мог бы сказать просто: «Заткнись!» Но это на нее не подействовало бы. И он нарочно подобрал такие холодные, надменные, отчуждающие слова, чтобы сделать ей больно. Действительно, она сразу замолчала. Весь остальной длинный путь сюда они ехали, отвернувшись друг от друга.
Дима переодевался нарочито медленно, чтобы самой неторопливостью движений нарастить в себе спокойствие.
И вправду, надев спортивный костюм, он почувствовал себя удачливым, свойским, готовым на все.
С жадностью вдохнул он знакомый настой дикой мяты, полыни, бензина. Из-за дальних крыш выполз насекомообразный вертолет. Казалось, он не летит, а ступает по воздуху. Было ясно, тихо, трава стояла ровно. Гудели моторы. Подымались и быстро истаивали маленькие косяки тумана.
Вдали виднелась пестрая кучка парашютистов. Заслонившись ладонями от солнца, они смотрели в небо. Дима пошел к ним, перешагивая через лужи, оставшиеся после ночного дождя. Он не приближался к веревке, за которой стояли зрители, чтобы не расплескать своего спокойствия.
Посреди парашютистов в их ярких, как бы карнавальных, костюмах он увидел несколько человек постарше, в пальто и плащах, — между прочим, Колю и Модлинского. Это все были старые волки парашютизма. Дима знал, что Коля, например, не раз прыгал затяжным прыжком с девяти тысяч метров и тысяч восемь из них свободным падением, без раскрытия парашюта. У Димы даже холодок заструился по спине, когда он представил себе это. О Модлинском тоже было известно, что он специалист по затяжным прыжкам. Да и все они тут такие. И эта худая женщина на высоких, модных каблуках. И этот коротышка в шляпе с мятыми полями и с резкими бороздами спортсмена на загорелом лице. И эти судьи с ворохами бумаг в руках и озабоченно-скучным видом бухгалтеров-ревизоров. Все они прыгали с немыслимой высоты с кислородным прибором и без него, прыгали со скоростных самолетов, а не с этих черепах «АН-2», прыгали в воду, из виража, из спирали, вышвыривались катапультой.
Модлинский, держа Колю под руку, что-то с жаром втолковывал ему.
Дима навострил уши.
— Девчата, конечно, как всегда, добросовестнее, — говорил он. — Да и ребята неплохо. Чувство времени отработано недурно. Глазомер натренирован. Но скажи на милость, Коля, чья это умная голова спланировала выпустить вперед перворазрядников? Ведь новички измаются.
— Брось! Пусть учатся. Пусть развивают в себе рефлекс прыжка.
— А ну тебя, Колька, с твоими рефлексами знаешь куда! Хуже нет для начинающих, чем часами киснуть на аэродроме в ожидании прыжка. Все нервы истреплются. Ты только посмотри на ребят. Некоторые просто не выпускают папиросу изо рта. А другие поминутно бегают мочиться.
Коля расхохотался. Диму потянуло к ним, но он боялся, что от него еще пахнет водкой. Но вот же Тома ничего не унюхала, и он так долго перед уходом жевал кофе и чеснок. Но и самый запах кофе и чеснока может показаться им подозрительным. Парни бывалые!
Пока он так колебался, Модлинский, продолжая держать Колю под руку и все так же ожесточенно что-то втолковывая ему, пошел с ним через все поле к клубному зданию.
А Дима придвинулся поближе к старым парашютистам. Ему казалось, что просто от одного соседства с ними в него вливается удаль и вера в себя.
Девушки обступили Модлинского и наперебой задавали ему вопросы. «Наши дурехи уже заобожали его»,— подумала Тома.
Она стояла спиной к ним в углу раздевалки, у зеркала, и оправляла на себе одежду.
— А есть люди, которые абсолютно, ну ничуточки, не боятся?
«Это Нинка Изряднова выпендривается перед ним», — подумала Тома.
— Нема такого индивидуума, — авторитетно заявил Модлинский.
— А вот наша Тома — вон она, в углу, видите? — она такая, она совсем бесстрашная.
Модлинский молчал. Тома не оглядывалась.
— Значит, есть такие бесстрашные? — настаивал звонкий Нинин голосок.
— Бесстрашных нема, бесчувственные есть.
Тома подошла к ним. Модлинский не смотрел на нее. Его большеносое, скуластое лицо было строго и печально. Она хотела, чтобы он улыбнулся. Она была уверена, что по его улыбке она поймет — какой он. Но это было так же безнадежно, как ждать среди темной ночи солнечного луча.
С мрачно-сосредоточенным видом он бубнил:
— А ну, проверьте-ка, девушки, ни у кого нет в карманах твердых или острых предметов? А то я у одного чудака только что выудил из кармана отвертку. Долго ли покалечиться при приземлении... А как у вас, девушки, с каблуками? Не искривлены? А то смотрите, травма голеностопного сустава обеспечена. Так, так, для парашютиста, как и для самолета, самый ответственный момент — приземление.
И все его вопросы и советы были в том же роде — насчет разворота по ветру, насчет техники выдергивания кольца и тому подобное. Никаких шуточек, никаких вольностей. Девушки присмирели.
А Тома так готовилась к отпору! Она накопила столько уничтожающих ответов и столько термоядерных взглядов, обращающих мужчину в пар.
А он к ней:
— Советую не смотреть из окна самолета на прыгнувшего, пока у него не раскрылся парашют.
Тома послушно кивала головой. А он:
— Я лично, например, прежде чем выпрыгнуть, раза три-четыре делаю глубокий вдох и выдох. Ну, у меня это, конечно, уже чисто автоматически.
Внезапно она заметила, что он избегает обращаться к ней во втором лице. Это ее развеселило. Она не удержалась от улыбки.
Он в этот момент посмотрел на нее. Лицо его дрогнуло. Вот сейчас улыбнется. Ну-ка, ну-ка, какой он?
И когда нос его клювом повис над блеснувшим оскалом, она вскричала мысленно:
«Добрый хищник!»
Да, добрый хищник... Налетит, истерзает, а потом будет рыдать над жертвой...
Поговорив с девчатами, Модлинский вышел из клуба. У порога его перехватил Деревягин.
— Дозвольте обратиться, товарищ начальник! — выкрикнул он солдатским голосом и даже откозырял.
— К пустой голове руку не прикладывают, — сухо заметил Модлинский.
— Так точно, товарищ начальник! — отбарабанил Деревягин.
Он продолжал идти за Модлинским, по-солдатски равняясь на него поворотом головы и даже пытаясь печатать шаг своими огромными галошами.
— А ну, бросьте придуриваться! — грубо сказал Богдан.
Но Деревягин продолжал самозабвенно пучить на него глаза.
— Приказали, товарищ начальник, сено убрать,— рявкнул он. — Цельный день поджидал машину, сидел в поле, как Солоха какая. Не пришла. Стога эти весь наш вид портят, товарищ начальник.
— Если я вам дам телефон гаража, сумеете сами договориться?
— Будет выполнено, товарищ начальник! Вы меня, товарищ начальник, только отруководите, а я уж подстроюсь.
«Издевается он надо мной, что ли?» — подумал Модлинский, подозрительно вглядываясь в старика.
Но тот как ни в чем не бывало пялил на него верноподданнические глаза. Богдан плюнул и пошел к самолетам, мгновенно забыв о Деревягине. А старик, хотя Модлинский был уже далеко, все провожал его долгим ласковым и почтительным взглядом.
«Словчился-таки в начальники пролезть», — думал он при этом.
Он поковылял в поле, к парашютистам, чтобы отыскать внучка своего Алика.
Мальчики просачивались на аэродром, как вода. Прошмыгивали за спиной вахтера через проходную, въезжали на задках грузовиков, даже ухитрялись пролазить сквозь забор из колючей проволоки, раздирая не только штаны, но и собственную кожу, что, впрочем, считалось в этой среде почетными ранами.
Они шныряли по всему полю, а главным образом там, где приземлялись парашютисты, рискуя попасть под убийственные удары их тяжелых башмаков. Мальчуганов гоняли, но, как это ни странно, не очень ретиво. Ведь многие ныне славные мастера воздушных прыжков были в детстве вот такими же аэродромными болельщиками. И кто знает, может быть, так именно и следует начинать школу этого блистательного спорта?
— Алик, кошкодав идет! — закричали мальчики.
У Алика сразу сделалось жалкое, испуганное лицо. Он метнулся в сторону, чтоб замешаться в толпе.
Это был худенький, большеголовый мальчик в грязном парусиновом костюмчике и больших женских башмаках,— видно, донашивал мамины. Как многие мальчики, он жил двойной жизнью. Дома им все помыкали. Мать любила его торопливой и невнимательной любовью. А дед гонял его целыми днями по гастрономам и универмагам.
Зато среди мальчиков Алик был признанным авторитетом в области парашютного спорта. Он помнил цифры рекордов, знал мастеров по именам, а с некоторыми даже здоровался за руку.
Деревягин схватил его колючей старческой рукой за плечо:
— Куда, туберкулезный! Опять ремня захотел? А ну, айда до дому! Нет, я тебя сам отведу.
Мальчики разбежались. Остались только двое: рыженький, с рассеченной губой и толстый, холеный, со сдобными щеками, — видно, маменькин сынок. Они не двигались с места и исподлобья смотрели на Деревягина. Глаза их горели. Чувствовалось — скажи им Алик хоть слово, мигни он им только, они б уж вырвали его из рук старика.
Но у Алика на лице была такая беспомощность и страх, что у Димы, стоявшего неподалеку, защемило сердце от жалости. Неясное, тревожное воспоминание забрезжило в нем.
— Послушайте, оставьте мальчика, — сказал он. — Он никому не мешает. Я послежу за ним.
Деревягин снял руку с плеча Алика.
— Он мальчик качественный, — сказал он рассудительно,— только страсть заводной. Не припугнешь его — не сладишь с ним. Иди, Алик, иди погуляй, желанный, только смотри носом не шмургай.
Худенькое лицо Алика оставалось испуганным. Пацаны снова слетелись и гурьбой пошли за Димой. Рыженький все приставал:
— Дядя, а дядя, вы сегодня будете прыгать?
Маменькин сынок, раздув щеки, отталкивал его:
— А ты сам не видишь, дурило?
— Дядя, а вы перворазрядник, а дядя? Дима почему-то утвердительно кивнул. Алик потянул его за руку и отвел в сторону. Шепотом, чтобы его не слышали другие мальчики, он сказал, доверчиво глядя на Диму снизу вверх, как смотрят на взрослых дети и собаки:
— Что я вам про дедушку расскажу — он крадет кошек по дворам и кормит ими нашу овчарку. Вот! Только вы ему не говорите, что я вам сказал, а то он меня выпорет...
— Он бьет тебя?
Алик мотнул головой.
Диме стало тягостно, как если бы про него самого открылось что-то тайное, постыдное. Он сказал сурово:
— Зачем на деда доносишь? Не знаешь разве, доносчику первый кнут.
Алик испуганно посмотрел на него и убежал.
Дима зашагал к самолетам, пружиня шаг, вскинув голову и стараясь выбросить из памяти тщедушного мальчика с его страхами, тоской и смертным трепетом перед кнутом деспота.
Когда Модлинский подходил к судейскому столику, его остановила Тома:
— Так, значит, я бесчувственная?
Он не отвечал. Даже не смотрел на нее. Ее взбесило это пренебрежение.
— Почти не знаете меня и позволяете себе...
Он прервал ее:
— Так я вообще...
Серые глаза ее потемнели. Она стояла совсем близко от него. Он слегка отступил. Она надвигалась на него.
— Ах, вообще?.. Вообще, между прочим, говорят трепачи. А мне вот, например, перед прыжком тоже страшно. Да! Понятно? Как и всем, между прочим. Как и вам!
Он забубнил скучным инструкторским голосом:
— Чувство страха свойственно всем. Страх — это врожденный инстинкт, предупреждающий об опасности. Но люди его преодолевают. Не дают ему стать господином себя. Овладеть...
— Это я все знаю. Так что же, я бесчувственная или нет?
Он молчал. Он по-прежнему не подымал на нее глаз. Они стояли так близко друг к другу, что шнурки, выбивавшиеся из-под ее безрукавки, касались его плаща. Он неотрывно смотрел на эти шнурки.
— Молчите?.. Я знаю, почему вы молчите.
— Почему?
— Не знаете, как ко мне обращаться — на «вы» или на «ты».
Наконец она увидела, как этот самоуверенный человек смутился. Он закрыл глаза, словно его пронизала боль. Он даже слегка пошатнулся.
— Вам плохо? — испуганно спросила Тома.
Он сказал глухо:
— Вы все мои ребята.
Резко повернулся и пошел прочь.
«АН-2» стояли на краю аэродрома, хвостами к шоссе. Здесь сейчас никого не было — ни летчиков, ни наземного состава. Все были там, в центре поля, где кипели спортивные страсти.
Дима уселся под крылом самолета и смотрел на безлюдное шоссе. Ему ни о чем не думалось. Он отдыхал от мыслей, от любви, от страхов, от водки, от всего на свете. Он сбежал в бездумье. Сонно смотрел он на шоссе. Там пробежал кургузый автобус. Он резко перебирал по-слоновьи толстыми колесами. За шоссе молочно белели березы. А еще дальше нежно проецировались на экране неба бесконечные московские дали, крыши, купола, шапки высотных зданий, над которыми висел смутный, никогда не умолкающий гул великого города.
Дима лениво пропускал сквозь пальцы роскошные пряди некошеной травы. Солнце уткнулось ему в спину. Впереди на траве лежала его тень — широкие плечи и длинные ноги комнатного атлета. Все было странно, четко и чуждо, как во сне.
А все-таки мысли лезли. Почему-то вспомнился экзамен в школе. Сосед по парте подсунул на промокашке решение задачи. А здесь... Какие здесь подсказы... Завихришься бумажонкой между облаками и травой...
Он невольно оглянулся и увидел Тому.
«Он смотрит на меня как на святую... Неужели я могу разлюбить его?..»
Она села возле него и положила руку ему на голову.
— Мастера кончили, скоро нам, — сказала она.
— Уже?
— Вот только отлетают реактивщики.
В воздухе показались долговязые самолеты со скошенными крыльями и длинными носами, вытянутыми вперед, как жала. Они проносились низко, с раздирающим свистом.
— Комары... — сказала она, глядя на самолеты.— Прилетели из страны, где царствуют комары.
— Ну-ну, дальше, — попросил Дима.
— А в этих железных комарах, — продолжала она своим детским белым голосом, — сидят ребята. Они учатся. Это их класс. Представляешь? Учитель стоит на земле. Земля — его кафедра. Учитель учит по радио. Видишь, сейчас в воздухе три... пять... восемь — целый семинар. Трудяги и лентяи. Тихони и хулиганчики. Одни ловчатся, другие режутся в первые ученики, третьи списывают у товарища...
— В воздухе?
— Ну, кто подражает движениям соседа, все равно что списывает. Некоторые обожают учителя, некоторые ненавидят. Дурачатся, зубрят...
Она говорила, поглаживая его по голове, и от ее спокойного голоса, от ласковой ее руки, от всей ее нежности и бесстрашия к нему, как в детстве, возвращалась радость.
— Так они зубрят? — весело переспросил он.
— И зубрят, и держат экзамены, и получают награды, и проваливаются с треском. Да, это школьники, с той только разницей, что когда они проваливаются, то разбиваются насмерть...
Она спохватилась и замолчала. Она поняла, что все испортила. Она робко посмотрела на него.
Он казался спокойным. Может быть, он не обратил внимания на ее последние слова? Может быть, я вообще преувеличиваю его чувствительность?
— Пойдем пройдемся, — предложил он.
Он повел ее к клубному зданию. Его окаймляли клены. Шумел ветер. Листья поворачивались то темным лицом, то светлой изнанкой. Дима бросал на них косые взгляды. Он был рассеян. Казалось, он к чему-то прислушивается.
Она все поняла. Если шумят верхушки деревьев, значит, ветер баллов пять. А когда больше четырех, прыжки отменяются... Правда, они молоденькие, эти клены. Не такой уж труд их раскачать. Но они шумят, определенно шумят! Шум, правда, мизерный. Паршивенький шумок. Спросить разве у Томы, тянет ли этот ветер на семь метров в секунду — крайний допустимый предел для соревнований?
Нет! Он решил не спрашивать. Мужская гордость не позволяет. Надо выдержать марку до конца. С последней надеждой он посмотрел на флаг над крышей клуба. Развевается? Да, развевается. Но как-то малахольно...
...Первыми прыгали девушки. Тома приземлилась лицом к ветру на согнутых ногах, мягко припала на бок, — словом, на пятерку с плюсом. Ее только самую малость протащило сквозь лужу. Вся в грязи, но счастливо смеясь, она подтянула стропы и погасила купол парашюта.
Ребята поздравляли ее, Дима тоже. Он оживился. Им овладел спортивный азарт.
Он подошел к своей группе. Все семеро лежали на траве, кто курил, кто глядел в небо. Дима заговаривал то с одним, то с другим. Но не дожидался ответа. Слова из него лились безостановочно. Он суетливо жестикулировал. Ему хотелось двигаться, шуметь.
— Счастливая Томка, всегда ей везет, отпрыгалась, а мы кисни тут, пока эта куча рассосется, — говорил Дима, поглядывая на небо слишком блестящими глазами с неестественно расширенными зрачками.
Небо заволоклось большой изжелта-коричневой тучей. Она висела низко над всем аэродромом. Но прочности в ней не было. Вот отвалился ломоть с полнеба и пополз куда-то вдаль. Вот еще.
Дима зевнул. Раз, другой. Третий...
Тома стояла в стороне и смотрела на него. Она не хотела подходить к нему: еще обидится, как раньше, в автобусе. Не стоит нервировать его перед прыжком. Ей показалось, что лицо его бледно. «Но вообще он ведь плохо поддается загару», — успокаивала она себя.
— Дима! Задумался? — крикнул инструктор, молодой белокурый латыш.
— Иду! — бодро отозвался Дима.
Он надел парашют, закрепил лямки. Все это он делал машинально. Что-то в нем приказывало, что-то приказы выполняло, а сам он был словно в стороне. Он стал в затылок товарищу, и все восьмеро затрусили гуськом к самолету.
Он не заметил, когда самолет оторвался от земли. Ребята, сидевшие возле инструктора, смеялись. Видно, он их, как водится, ободрял оптимистическими шуточками. Краешком глаза Дима глянул в окошко и вдруг ощутил под собой бездонность пространства. Его охватило нестерпимое животное желание жить.
«Приготовиться!» — услышал он команду. Он взялся правой рукой за кольцо на груди. Противный зуд пробежал по лицу, плечам. Все налилось бетоном — руки, ноги, грудь, спина.
«Пошел!» — раздалась команда.
Он поднял непомерную тяжесть своего тела, вдвинул ее в люк и бросил вниз, в эту прозрачную, ужасающую бездну. Кольцо! Где оно? Где же? Где?.. Земля с сумасшедшей быстротой летит навстречу... Где же оно?..
Через поле понеслась санитарная машина. И другая, легковая.
В публике кричали. Многие перепрыгнули через веревку и бежали туда, где упал парашютист.
Дима лежал в стоге. Тяжестью своего тела и силой падения он как бы вырыл в сене большую яму. Он лежал недвижимо. Лицо его было окровавлено. С него уже успели снять нераскрывшиеся парашюты. Врач разрезал на нем одежду.
Загудела легковая машина. Толпа раздалась. Из машины выскочили Модлинский и Знобищев.
— Жив? — крикнул Коля.
Доктор, повернувшись к медсестре, сказал:
— Шприц и ампулу с антистолбнячной.
Коля облегченно вздохнул.
Богдан внимательно осматривал парашюты. Потом он громко сказал:
— Товарищи, соревнования продолжаются. Зрителей прошу вернуться на свои места. Спортсменам — на сборный пункт. Сейчас будет совершен прыжок с этим парашютом. Он исправен. Несчастный случай произошел по вине парашютиста. По-видимому, он растерялся и не выдернул кольца.
Люди медленно расходились. Белокурый инструктор подошел к Модлинскому и тихо сказал:
— Ребята могут не согласиться на этот парашют.
— Прыгнет инструктор, — коротко ответил Богдан.
— Ах, так, понимаю... — Инструктор замялся. Богдан посмотрел на него и сказал:
— Не беспокойтесь, прыгать будете не вы.
— Да нет, что же... — смутился инструктор. — Я, собственно, в том отношении, нужно ли вообще...
— Нужно. Чтоб у ребят не началась деморализация. Он направился к легковой машине.
Знобищев догнал его:
— Куда, Богдан?
— К самолету.
— С Димкиным парашютом?
— А то с каким же?
— Правильно. Но прыгать буду я.
— Минутку. Коля, ты уверен, что парашют исправен?
— А ты уверен?
— Так я же как раз одинокий, а у тебя...
— Спокойно, Богдан.
— Я спокойно.
— Так вот, ты тут займешься всякой письменностью. Акт составишь. В общем, дела хватит. А я прыгну.
— Я прыгну!
— Слушай, встрепанный, не упрямься!
Они говорили почти шепотом, свирепо уставившись друг в друга.
Модлинский молча повернулся и пошел к машине.
— Ах, так? — сказал Знобищев. — Младший лейтенант Модлинский, приказываю вам оставаться на летной площадке. Испытательный прыжок будет совершен мной.
Богдан остановился и сказал мрачно:
— Слушаю, товарищ капитан.
Он поднял на Колю умоляющие глаза и сказал:
— Слушай, Коля, давай потянем спички. Все-таки это мои ребята.
— Ладно, — согласился Знобищев нехотя. Модлинский вынул из коробка две спички и повертел их за спиной в руках.
— Кому с головкой — прыгать, — сказал он.
Он протянул Коле кулак, откуда торчали целые кончики.
Коля подумал, глядя на них. Наконец, решившись, потянул одну из них. Головка была отломана. Он с досадой бросил спичку в траву.
— Значит, я! — крикнул Богдан.
Он побежал к машине. Вдруг вернулся, обнял Колю и прыгнул в машину.
— Товарищ начальник! — услышал Коля.
Он оглянулся и увидел Деревягина. Старик сидел на корточках и шарил руками в траве. Кряхтя, поднялся и победоносно протянул две спички.
— Что это? — не понял Знобищев.
— А вы гляньте поаккуратнее, товарищ начальник. Коля вгляделся и увидел, что у обеих спичек отломаны головки.
— Видали? — сказал Деревягин со злобным торжеством.— И тут сплутовал еврейчик! Вот торговая нация!
Он шарахнулся — таким ужасным стало лицо Знобищева.
— Вон отсюда, сволочь! — закричал Коля. — Чтоб духу твоего тут не было, выпердыш фашистский!
— Товарищ начальник, дозвольте сказать, я же шуткую...
Но Коля не слушал. Он смотрел на поднявшийся самолет. И все, кто были на поле,— и зрители, и парашютисты,— уставились на этот самолет. Он сделал круг, зашел против солнца. И тут из-под его крыла вывалилась фигурка. Секунда, другая — и над нею взвился парашют.
— Молодец, встрепанный! — закричал Коля, словно Богдан мог его услышать.
Он побежал к санитарной машине.
Дима лежал на койке. Гримаса боли пересекала его лицо. У изголовья сидела Тома и не отрываясь смотрела на Диму.
— Отправляемся, — сказал врач. — Попрошу посторонних освободить машину.
Тома не двигалась. Врач беспомощно посмотрел на Знобищева. Он тронул Тому за плечо:
— Тома, тебе на сборный. Она не двигалась.
— Тома, надо идти, мы лучше потом зайдем к нему в больницу.
Тома подняла голову.
— Не мешайте, — сказала она строго, — он хочет что-то сказать.
В глазах у Димы засветилась осмысленность. Взгляд его был устремлен на руку Томы.
Она поняла. Она положила руку ему на голову.
Морщины боли постепенно исчезали с его лица.
Тома тихонько гладила Диму по мягкой, мальчишеской шерстке его волос.

Записки

ЗДРАВСТВУЙ, ПОЛЬША!
1. СВИДАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ
Первые минуты
Портье вручил мне ключ. Шел дождь, и было уже поздно. Но это не остановило меня. Я бросил в номер чемодан и вышел на улицу. Так вот она, наконец, Варшава, о которой я так долго мечтал, которую так кропотливо изучал по фотографиям и планам и которую давно уже населил героями своего воображения.
Сияющие окна витрин. В лужах кровавые отблески неоновых реклам. Щегольские автомобили шипят шинами по черному от дождя асфальту. Стараюсь разглядеть дома, но они уходят в вышину, во мрак. Только здесь, внизу, над тротуарами, — праздничное зарево люминесцентных фонарей. Маршалковская... Аллеи Ерозолимские... Новый Свят... Я читаю названия улиц, как страницы романа.
Вероятно, я сейчас не воспринимал бы Варшаву так остро, если бы до того никогда в ней не был.
Но я помню среду 17 января сорок пятого года, день освобождения Варшавы. На броне самоходного орудия мы пересекли Вислу.
Перед нами простирался необозримый каменный хаос.
В войну случалось мне видеть разрушенные города. Но то были разрушения, сделанные в пылу боев.
А здесь перед нами открылось зрелище педантичного уничтожения гитлеровцами, дом за домом, большой европейской столицы. Мы бродили по этому пустынному б ы в ш е м у городу, изведенному по разверстке. Местами нужна была сноровка альпиниста, чтобы брать обрывистые склоны гор из битого кирпича.
Города похожи на людей. Они шумят, растут, болеют, выздоравливают. О Варшаве в тот день нельзя было сказать, что она больна. Она была мертва. Прах. Сплошной каменный прах.
Я помню газету «Жице Варшавы» тех дней. Она выходила по ту сторону Вислы, в Праге-Варшавской. Она выпустила номер (он сохранился у меня) с лозунгом: «Варшава освобождена!» А на следующий день она сообщала: «Варшава — мертвый город»...
Но в мертвую столицу отовсюду устремились люди. Это было изумительное зрелище, похожее на звездный пробег. По всем дорогам ехали и шли уцелевшие варшавяне, нагруженные домашним скарбом своим.
Тогда мы задержались здесь ненадолго. Переночевали в одном из немногих сохранившихся домов. Нас приютил вернувшийся в тот день в Варшаву старый рабочий Юзеф Грабарек, дюжий мужчина с долгим суровым лицом, одетый в кожаную жилетку и холщовые штаны. Левую щеку его пересекал шрам. Мы так и не заснули в ту ночь. Единственным слушателем нашим был белобрысый мальчуган с презрительно оттопыренной нижней губой, внук Грабарека. Он один выжил из всей его обширной семьи. Посреди ночи он заснул тут же, за столом. А мы со стариком проговорили до утра. Было о чем — какие годы! А чуть свет расцеловались, дали друг другу слово непременно свидеться, немного покатали мальчика на самоходке и пошли дальше на запад.
А когда весной, после победы, возвращались домой, мы снова увидели Варшаву. Грабарека я не застал: он был в партийной командировке на селе.
Но Варшава... С ней совершилось чудо. Хоть ни один дом еще не поднялся над этим гигантским кирпичным крошевом — Варшава жила! Тысячи людей поселились здесь. Где? Теперь это была столица бараков и подземелий. На воротах полуразрушенного дома я увидел клочок бумажки, на котором торопливым почерком было написано: «Бюро восстановления Варшавы». День и ночь люди расчищали улицы от щебня. Единственный инструмент — лопата. Да и тех не хватало. Можно ли ложками вычерпать море? Но варшавяне работали с такой яростью и верой (в первых рядах коммунисты), что уже довольно скоро стали обозначаться очертания улиц. Варшава была похожа на утопленницу, которую вытащили из воды и начали откачивать. Она еще не встала. Но уже дышит...
Полный воспоминаний, я вернулся в гостиницу. Жду у лифта. Замечаю, что стены увешаны картинами. Впоследствии я убедился, что варшавские художники выставляют свои произведения не только в галереях и салонах, но и в кафе, в театральных фойе, в холлах гостиниц, даже под арками домов.
В углу вестибюля — вход в ресторан. Там на постаменте стоит странное сооружение из крючьев и сухожилий. Это абстракционистская скульптура. Оглядываю картины. Беспорядочные и уже изрядно приевшиеся наборы цветных пятен — экстравагантность, ставшая шаблоном.
Завтра воскресенье, в ресторан валит народ. Тут раздеваются и прихорашиваются. Почти все молодежь, притом зеленая.
Всякие тут ребята: и поскромнее, и поэлегантнее, и шумные, и чинные, и совсем такие, как у нас, и не совсем такие, как у нас. Но в общем все славно, молодо и по-хорошему весело.
Попадаются и другие, одетые с подчеркнутой небрежностью,— особый род дендизма: глухой черный свитер до горла, мятые брюки, демонстративно не чищенные башмаки. К этому у девчат преувеличенно залихватский чуб на глаза, у парней — шкиперская бородка, обнимающая лицо узкой рамкой. Лица разочарованные, походка развинченная. Ни следа польской гжечности(вежливости). Выражение разочарованности тоже входит в набор этого вывороченного наизнанку шика. Возраст — от силы двадцать лет.
«Бог ты мой! — подумал я. — Я же видел этих модников зимой сорок пятого. Это были истощенные младенцы в лохмотьях...»
Я поднялся к себе на четырнадцатый этаж и распахнул окно. Тепло. Дождь прошел. Варшава мигает огнями до самого горизонта. Я долго смотрел на это море огненных многоточий, прорезанное прямыми магистралями, похожими на каналы, текущие светом, который полыхает, переливается через край. Вдруг в нос шибнул сухой и пыльный, хватающий за горло запах битого кирпича, преследовавший нас здесь шестнадцать лет назад.
Контраст двух Варшав, той и этой, не покидал меня и в последующие дни. И только постепенно военные воспоминания стали блекнуть и отступили в сны, полные рассыпанных, алогичных видений, похожих на лопотанье испорченной кибернетической машины.
Слова на камне
Поутру Варшава показалась мне совсем другой — деловитой, подтянутой, энергичной. И кирпичный запах отнюдь не ночная галлюцинация, а реальнейший дух, излучаемый многочисленными варшавскими стройками.
На перекрестке двух оживленнейших улиц, Аллей Ерозолимских и Нового Свята, стоит дом (конечно, новый, как и все в Варшаве) «Клуба международной прессы и книги». На фронтоне слова: «Весь народ строит свою столицу». Не на плакате эти слова, не на бумажной ленте, а врезаны в камень, — стало быть, прочно, на десятилетия.
Действительно, очень скоро начинаешь понимать, что значит для поляков воссоздание Варшавы. Я даже встречал людей, которые склонны считать это самым крупным и главным делом в сегодняшней Польше. Разумеется, это—преувеличение, рожденное чисто варшавским патриотизмом. Достаточно сказать, что польские строители ежедневно сдавали пятьсот жилых помещений, а каждые три дня по два новых промышленных объекта. Так что не только Варшава — вся Польша меняется буквально что ни день. Но, несомненно, возрождение столицы — один из грандиозных подвигов польского народа. Притом такой, который длится и сейчас, ибо и сегодня еще Варшава остается гигантской строительной площадкой и останется ею, по-видимому, еще надолго.
— Какой вам кажется Варшава? — спросили меня в первый же день.
— Очень новенькая, — сказал я. — Дома — как на витрине.
— Вот, все приезжие так говорят, — заметил мой собеседник с некоторой грустью.
Но действительно, есть в первом впечатлении от Варшавы какое-то ощущение нарисованности, едва ли не макетности. Это, конечно, от обилия новизны, от воспоминаний о сорок пятом годе и от сказочной быстроты, с какой возродилась польская столица.
Со временем это чувство исчезает, и вы даже начинаете различать в облике Варшавы смену стилевых увлечений.
Вот «эпоха» архитектурных излишеств — громоздкие аркады, под которыми вечный полумрак. Они выглядят так, словно сами стыдятся своей неуклюжести посреди современных, хоть и многоэтажных, но стройных и легких домов. Возникшие как следствие неправильно понятой монументальности, аркады непроизводительно поглотили уйму труда и материалов. Правда, под ними можно укрыться от дождя. Но дешевле купить зонтик.
В разных местах вы натыкаетесь на внушительные следы великой битвы между архаистами и новаторами. Одни охвачены страстью вернуть Варшаве прежнее лицо, милое, родное лицо матери, — тенденция сыновняя. Другие— создать Варшаву новую, современную, юную,— тенденция родительская.
Когда побеждали первые, возникал архитектурный пейзаж вроде жилого квартала Мариенштат, что у Силезско-Домбровского моста. Дома здесь старательно повторяют стиль градостроительства XIX века, созданный скорее домовладельцами, чем домостроителями. Это традиционное зрелище несколько оживляют живописные красные крыши и искусно выполненные сграффито.
Когда побеждали вторые, вырастали «жилетки» (так здесь называют лезвия безопасной бритвы, а заодно по сходству и высокие, обтекаемо гладкие здания) вроде нового корпуса Министерства транспорта на улице Халу-бинского, или по-современному красивые громадины типа Дома партии с его строгими, гармоничными пропорциями, или гостиница «Гранд-Отель» с площадкой для вертолетов на крыше.
Улица Рутковского невелика и узка. Но она приобрела ультрасовременный вид, обстроившись почти сплошь домами в новом стиле.
Что же касается другой улицы — Кручей, то она выглядит как пережиток уже отвергнутого проекта застройки столицы. Проект-то отвергли, а здания остались. Этот проект предлагал разделить город на кварталы по функциям— административный квартал, торговый, культурный и т. д. Успели выполнить только один пункт этого схоластического плана — выстроили административный ансамбль на улице Кручей. Сейчас это рассматривается как монументальное следствие разбухания бюрократического аппарата в прошлом. Это вызвало в свое время здоровую реакцию, и вслед за тем в Варшаве было восстановлено и построено заново много промышленных предприятий.
Но все архитектурные распри разом утихли, когда дело дошло до восстановления Старе-Мяста, этой жемчужины Варшавы, ее сердца, ее гордости, ее страсти. Тут архаисты и новаторы подали друг другу руки.
Наибольшему уничтожению подверглись два очень не похожих друг на друга района Варшавы — Старе-Място и еврейское гетто. Оба они долго и яростно бились с гитлеровцами, и в этом причина их полного исчезновения с лица земли.
Восемнадцатого апреля 1943 года отряды эсэсовцев, а также армейские части — пехотные и танковые — вступили в гетто для того, чтобы вывезти уцелевших жителей в лагеря уничтожения. Немцев встретил огонь. Восстание длилось почти полтора месяца.
Одержав наконец при помощи тяжелой артиллерии и бомбардировочной авиации победу над гетто, немцы взорвали его минами, сожгли огнеметами и перемололи бульдозерами. Средствами новейшей техники они ввергли этот район в первобытность.
Сейчас здесь большой жилой поселок Муранув. Возведение его оказалось трудной технической задачей. Территория была завалена щебнем, высота которого достигала четырех метров! Удаление этих трех миллионов кубических метров щебня потребовало бы трехлетней работы семи поездов и 10 тысяч человек с соответствующим количеством инвентаря. Пришли к смелому решению: строить на щебне.
Эксперимент удался, и сейчас 60 тысяч человек живут здесь в отличных, хотя и разностильных, домах.
Время идет, и в самом Мурануве уже выросло счастливое поколение, которое не слышало разрывов фугасок и не видело крови. И только необычно высокое положение домов по сравнению с улицами, которые остались на старом уровне, напоминает о происшедшей здесь когда-то трагедии.
Нет, не только это! Здесь стоит памятник. Он изображает повстанцев, на лицах которых обреченность и мужество. Он сделан из гранита, заготовленного немцами для памятника Гитлеру...
Старувка
Восстановление Старе-Мяста, или, как ласково называют его варшавяне, Старувки, конечно, не имеет прецедента в истории мировой культуры.
Оно восстановлено все целиком, со своими готическими и ренессансными домами и шатровыми черепичными крышами, и золочеными сграффито на стенах, и чугунными фонарями на витых кованых кронштейнах, со своими порталами, фризами, барельефами, нишами, решетками, мадоннами и василисками, гербами и дверными молотками.
Старувке недостает только одного: налета времени, пыли веков. Придет!
Впрочем, кое-где можно заметить облупившиеся стены. Но даже это воспринимается как реставрация живописного средневекового пятна, а не как дурное качество современной штукатурки.
С такой же скрупулезной достоверностью воссозданы примыкающие к Старувке Ново-Място и начало старого варшавского тракта — улиц Краковское Предместье и Новый Свят.
Тот, кто видел картины венецианца Каналетто, помнит эти улицы такими, какими они изображены на его полотнах XVII века. Но если бы Каналетто воскрес сейчас, он и не заметил бы, что эти излюбленные им места отстроены заново. Реставраторам очень помогли его картины. Их точный и верный рисунок послужил современным варшавским архитекторам документом, по которому они воссоздали исторический облик старых варшавских улиц.
В этой воскресшей старине Старе-Мяста есть новая деталь: стайка голубей, лепящаяся над порталом на Пивной улице. Происхождение этой скульптуры трогательно. В 1946 году в развалинах Старе-Мяста поселилась одинокая старушка. Она взяла на себя заботу о немногих уцелевших в Варшаве диких голубях, кормила и поила их. Благодарное государство вскоре сумело предоставить ей комнату и пенсию. А когда она умерла, увековечило ее скромный подвиг таким своеобразным памятником.
Я посетил одну из квартир этого прелестного района. Она помещается на небольшой площади, которая называется Рынок Старе-Мяста. Он окружен живописными барочными домами, похожими на театральные декорации. Пересекая площадь, я подумал, что на фоне их, пожалуй, действительно можно было бы поставить романтическую сказку, — например, «Три толстяка» Юрия Олеши. И когда я входил в квартиру, у меня было такое чувство, как будто я вхожу за кулисы театра.
Конечно, строители сохранили средневековье только снаружи. Внутри — вполне современные квартиры. Варшава, вероятно, единственный город в мире, где старина и современность одного возраста.
Хозяин, пожилой инженер с худым, решительным, немного желчным лицом, продемонстрировал мне квартиру, действительно очень удобную, а потом потчевал меня кофе, которым здесь угощаются по каждому поводу, а если такового нет, то и без повода.
В ответ на мои восторженные отзывы о Старе-Мясте он признательно поклонился и сказал:
— А знаете ли вы, что, гуляя по Старувке, вы, в сущности, ходите по полю сражения? Да какого!
— В сорок четвертом?
— Да. Здесь был сильнейший пункт Сопротивления. Вы видите: что ни дом — произведение искусства. И немцы били по ним с особым ожесточением. Тут было пекло!
— Вы были здесь тогда?
— Я защищал Старувку, и я же ее восстанавливал. Я хочу рассказать кое-что. Может быть, вам это пригодится.
Он уже знал, какое дело привело меня в Варшаву.
В это время в комнату вошел высокий полный мужчина с открытым, веселым лицом. Это был брат хозяина, тоже инженер. Он вел на поводке маленькую собачку, из породы тех лохматых существ, о которых (как и о современных автомобилях) не сразу скажешь, где у них передок и где задок. Он предложил нам пойти погулять.
— Подожди, Тадеуш, — нетерпеливо сказал хозяин.— Слушайте. В ночь на второе сентября мы покинули Старе-Място. Канализационными тоннелями мы перешли в центр. Так что, вы думаете, сделали гитлеровцы, войдя в Старувку? Они продолжали разрушать ее. Для чего?
— Бессмысленная страсть разрушать, — сказал Тадеуш, лаская собачку.
— Нет! — почти крикнул инженер.
Его худое сильное лицо подергивалось от волнения.
— Нет! Зачем они сожгли единственный уцелевший здесь дом Барычков с ценнейшими музейными коллекциями?
— Маньяки, — отмахнулся Тадеуш.
— Нет! Будь это бессмысленная страсть разрушать — что поделаешь! Варварство, но стихийное. А тут был расчет. Да! Сознательное, по плану, истребление польской культуры. Они, видите ли, считали так: будущее мы у поляков отняли — мы их поголовно стерилизуем, они не дадут потомства и вымрут. Настоящего у них уже нет — вместо Польши немецкая земля. Единственное, что у них осталось, — это прошлое, и они за него цепляются. Так вот мы у них отнимем и прошлое.
Тадеуш начал что-то говорить, но инженер перебил его:
— Вот почему варшавяне с такой страстью восстанавливали лицо Старувки, ее настоящее лицо, подлинное до мелочей, каким оно всегда было. Это протест, понимаете? Грандиозный, всенародный протест против фашистского похода на душу польского гения!
Тадеуш добродушно улыбнулся.
— Ну что же, честь и хвала, — сказал он. — Пошли пройтись.
— Кому это, собственно, честь и хвала? — подозрительно спросил инженер.
— Великому духу польской непрактичности, — сказал Тадеуш, засмеявшись.
Инженер молчал.
— Непрактичность в известном смысле — черта благородная, — осторожно заметил я.
— Вы думаете? — Тадеуш повернулся ко мне всем своим объемистым телом, брови его иронически приподнялись. — Из-за этой благородной непрактичности Польша всегда была полигоном Европы.
Он говорил, обращаясь ко мне. Но у меня было такое впечатление, что он, в сущности, адресуется к брату, продолжая какой-то давний, мучительный спор.
— Это что ж, новый позитивизм? — сухо спросил инженер.
— Называй как хочешь, — сказал Тадеуш.
— То есть против романтики и за реализм? Так ведь?
Мне показалось, что этой формулировкой инженер хочет как-то приподнять позицию брата в глазах приезжего из Москвы.
— Ну, знаешь, — ответил Тадеуш, улыбаясь, — это из тех знаменитых дилемм: что важнее мыть — руки или ноги?
И он засмеялся своим добродушным смехом толстяка.
— Я подожду вас внизу, а то моей собаке уже не терпится, — добавил он и вышел.
Когда мы остались вдвоем, инженер перевел разговор на другие темы. Он рассказал мне, что саперы (главным образом советские) извлекли из развалин Варшавы 98 778 мин. Он показал мне приказ Гиммлера от 11 октября 1944 года, где значатся слова: «...сровнять Варшаву с землей...». Зная о моем интересе к этой эпохе, он старался сообщить мне важные и точные сведения. Он поразил меня, рассказав, что еще в оккупированной Варшаве в сорок втором и в сорок третьем годах группа архитекторов в подполье работала над проектами восстановления столицы. Он был в этой группе. Не менее интересный факт: оказывается, в это же время группа немецких специалистов разрабатывала так называемый «план Пабста»— проект уничтожения Варшавы и возведения на ее территории небольшой военной резиденции для управления покоренной Польшей.
Инженер напомнил о братской руке, протянутой с Востока, о том, как прибыла в освобожденную Варшаву большая группа советских градостроителей, советом и делом включившихся в воссоздание польской столицы.
Я никогда не слыхал о «плане Пабста» и попросил рассказать о нем подробнее.
Оказалось, что вскоре после захвата фашистами Варшавы генерал-губернатор Франк и рейхсфюрер СС Гиммлер осматривали город. Инженер сообщил мне даже точную дату этой прогулки двух палачей: 26 декабря 1939 года. Следы ее сохранились в дневнике Гиммлера в виде следующей записи:
«Варшава должна быть низведена до ранга провинциального города и никогда не будет отстроена в качестве польской столицы».
И действительно, вскоре фашистский бургомистр Варшавы доктор Оскар Денгель представил Франку план под названием «Die neue deutsche Stadt Warschau».
— Это было, — добавил инженер с отличающей его любовью к точности, — шестого февраля тысяча девятьсот сорокового года.
— Подробный план?
— О да! Он сохранился в наших архивах. Я вам покажу его копию. Составлен, знаете ли, с немецкой тщательностью. Ну что вам сказать! Ведь профессия строителя — это профессия созидания, не правда ли? А у фашистов существовали не только лагеря уничтожения, но и архитекторы уничтожения. Один из этих архитекторов навыворот, некто Пабст, составил план немецкого городка Варшау.
Инженер развернул небольшой свиток. Вот уже вправду где поработала рука вандала! Все памятники старины, все изумительные создания польского зодчества предназначались к уничтожению. За одним, впрочем, исключением — Бельведерскнй дворец, который Пабст оставлял для резиденции Гитлера, «буде он пожелает прибыть в Варшау». И, как известно, Бельведерскнй дворец уцелел.
Но история уготовила для Гитлера резиденцию в сырой яме под стенами Имперской канцелярии в Берлине.
На плане Пабста не существовало исконных варшавских улиц — Маршалковской, Мокотовской и многих других. «Городок Варшау» был втиснут на площадь в 6 квадратных километров со 130 тысячами населения.
Судьба архитектора Пабста неизвестна. Что касается его вдохновителя, бургомистра Денгеля, то он как военный преступник был осужден на 15 лет тюрьмы воеводским судом той самой Варшавы, над разрушением которой он трудился. По отбытии наказания и перед возвращением в Западную Германию Денгель имел возможность своими глазами убедиться, что зря Гитлер наградил его военным крестом за «полезную деятельность в Варшаве».
Когда мы с инженером спускались на улицу, он сказал мне словно невзначай:
— Брат мой был одним из храбрейших командиров восстания. Да и сейчас неплохо работает. Но вот этот уход от идейности... «Позитивизм» он это называет. А по-русски есть такое слово?
— Делячество, сказали бы у нас.
Инженер задумался. Потом добавил:
— Знаете, люди редко бывают больше самих себя. Чаще они бывают самими собой. Но иногда — меньше самих себя...
Еще немного о строительстве
В некоторых странах существует обычай ежегодно выбирать красивейшую девушку города. Победительница конкурса красоты получает титул «мисс Лондон», или «мисс Токио», или «мисс Копенгаген» и т. д.
Когда мне сказали, что в Варшаве ежегодно выбирают не «мисс», а «мистера Варшаву», я удивился:
— Неужели красивейшего юношу столицы?
— Нет, красивейший дом столицы.
То есть самый интересный, самый удобный, самый изящный, самый современный из построенных в текущем году.
Конкурс этот организовала газета «Жице Варшавы», и он здесь очень популярен.
Я видел двух «мистеров Варшава».
Один из них — дом на Кредитовой улице, спокойный, элегантный, с красивыми, глубокими лоджиями, выгодный в пользовании. Мне сказали, что в строительстве этого дома удалось достигнуть большой экономии средств и это тоже сыграло известную роль в его победе над соперниками. К дому прикреплена доска с именами создавших его трех архитекторов: В. Клышевича, Е. Мокжиньского и Е. Вежбицкого. Кстати, это та же тройка, которая возвела Дом партии.
Другой «Мистер Варшава» выстроен в районе Муранув. Инженер-архитектор Вацлав Эйтнер сумел соединить в своем творении красоту пропорций с простотой и монументальным изяществом.
Когда в городе много строят, это, может быть, не очень удобно для прохожих — леса отжимают их с тротуаров на мостовые, на головы оседает строительная пыль. Но стройки вносят в облик города черту бодрости и веселого мужества. Варшава — старый борец. Она борется и сейчас. Да, это бой, бой с разрушениями, с бытовыми неудобствами, с жилищным... нет, уже не голодом, но все еще с недоеданием.
В самом деле, до второй мировой войны в Варшаве было около 600 тысяч комнат. Их населял 1 миллион 133 тысячи человек. Уже сейчас жилплощадь Варшавы больше довоенной. Но примите во внимание, что основной тип жилья сейчас — двухкомнатная квартира с кухней. Немалую долю труда и материалов отбирает ежегодный ремонт свыше 22 тысяч комнат. Кроме того, столица столицей, но ведь вся Польша требует жилищ.
Когда вы шли еще недавно через центр по Маршалковской улице, той самой, которая по «плану Пабста» подлежала уничтожению, вам бросалось в глаза странное несоответствие. По одной стороне огромное высотное здание Дворца культуры — дар советского народа. По противоположной, восточной, — черт его знает что: низенькие лавчонки, какие-то дощатые бараки и просто остатки сожженных и разбомбленных домов.
Это было больное место Варшавы, так называемая «одноэтажная Маршалковская». И в то же время — ее центр, то есть то, что является лицом всякого города, его сутью, его эстетической вершиной.
Центр Варшавы давно уже должен был застроиться. Но он представлял из себя стечение трудностей поистине необычайных.
Вообразите четыре гектара, вытянутые в длину. Кишка протяженностью в 800 метров, а глубиной всего в 50 метров.
К тому же будущие здания надо увязать с их «визави» — Дворцом культуры. А этот гигант вознесся на высоту 237 метров, и общая кубатура его — 800 тысяч квадратных метров! Чем уравновесить эту «малютку», как его шутливо называют в Варшаве?
Много лет шел спор. Три конкурса следовали один за другим. Результаты двух первых вызвали у жюри отчаяние. Кое-кому задача начала казаться неразрешимой. Но многолетняя дискуссия разом утихла, когда на третьем конкурсе представил свой проект профессор Збигнев Карпиньский.
Макет проекта остроумен, убедителен и очень красив. Он решает основную проблему: что строить — жилые дома или торговые и административные учреждения.
И то и другое. Двести тысяч квадратных метров проект отдает под жилые дома и около пятисот тысяч — всякого рода общественным зданиям.
Он разумно уравновешивает тяжесть Дворца культуры, противопоставляя ему четыре «жилетки» — тридцатиэтажную гостиницу и три восемнадцатиэтажных жилых дома.
Наконец, само распределение зданий гармонично сочетает удобства и изящество.
Сейчас, когда проект профессора Карпиньского и его группы уже осуществлен, в центре Варшавы вырос архитектурный ансамбль, достойный столицы народной Польши.
Вопрос, который мне задали в первый же день моего приезда: «Что вам больше всего понравилось в Варшаве?» — я услышал и на второй день, и на пятый, и на тридцатый. И я привык уже к тому, что каждый новый знакомый в Польше задавал мне этот вопрос.
Я отвечал:
— В Варшаве больше всего мне понравилась Варшава. Самый факт ее существования.
Разумеется, этот вопрос задавали многим приезжим. Особенно иностранным градостроителям, в том числе и тем, которые в сорок пятом году отрицали возможность воскрешения Варшавы и советовали построить польскую столицу в другом месте.
Было и такое мнение: ввиду того, что Варшава явно не восстановима, благоразумнее перенести столицу в Краков или в Лодзь. Но победило «неблагоразумное», романтическое решение. Оно-то и оказалось самым реалистическим.
Конечно, прелестна Старувка, и радуют глаз новые мосты на Висле, и отрадно смотреть с Замковой площади на могучую перспективу трассы Восток — Запад. Но больше всего Варшава поражает как деяние, как подвиг, как колоссальное материальное выражение воли народа. И, признаюсь, отрадно сознавать, что в этом подвиге есть доля Советского Союза, что лучшие наши специалисты помогали варшавянам поднимать из развалин и ставить на ноги польскую столицу.
Раньше, несколько лет назад, Варшава росла неравномерно, угловато, как подросток, — то ноги вытянутся, то шея. Сил неокрепшего организма хватало на что-нибудь одно.
Теперь Варшава формируется равномерно, как юноша в цвету, гармонично преображаясь в мощного мужа. Одновременно возводятся ансамбли зданий и в Белянах, и на Саской Кемпе, и в самом центре города, в тылу Дворца культуры, на тех пустырях, которые варшавский юмор уже успел окрестить «Диким Западом».
Ох, этот варшавский юмор!
Юмор в жизни и на сцене
Почти каждый варшавянин, помимо того, что он делает какое-то свое дело, делает еще что-то и для Варшавы: строит ее или украшает, озеленяет, совершенствует, пишет ее историю, планирует ее будущее. Приезжих не может не трогать эта верность варшавян своему чудесно спасенному городу.
«Так как я не в Варшаве, то у меня неприятное ощущение, что я нигде», — пишет Казимеж Брандыс в своих остроумных «Письмах к пани Зет».
Но при всем том варшавский юмор, порой добродушный, порой с примесью горечи, иногда не совсем приличный, но даже и в грубоватости своей сохраняющий грацию, не щадит никого, и прежде всего самое Варшаву.
Грузное здание бывшей конторы мыловаренной фирмы Шихта (сейчас здесь профсоюзное учреждение) — одно из немногих уцелевших в разрушенной Варшаве. Оно стоит у Вислы, возле трассы Восток — Запад, на улице Новый Зьязд, и огромной безобразной кляксой пятнает этот чистый воздушный пейзаж. Вздыхая, варшавянин отпускает мрачно-ироническую сентенцию: «Разрушали Варшаву, так уж надо было и эту красотку взорвать...»
Когда вы спрашиваете, как вам лучше всего связаться с человеком, живущим на отдаленной улице, вы можете услышать и такой ответ:
— Если хотите побыстрее, идите туда пешком. Если не очень торопитесь, попробуйте поехать троллейбусом. А если у вас вообще время не ограничено, попытайтесь дозвониться по телефону...
В Варшаве образовалось несколько десятков новых улиц. Варшавянам наскучило давать им невыразительные, служебные названия. И на перекрестках появились таблички: улица Утки-чудачки (это персонаж широко известного стихотворения Бжехвы), улица Ослика Порфирия (которого все поляки знают по юмористическому роману Галчинского «Клуб святотатцев»), улица Лохматого Яшки (имя медвежонка из популярной сказки Милна, у нас она вышла под названием «Винни-Пух»), улица Бычка Фернандо (тоже сказочный персонаж, хорошо известный польским детям по сказке Мунро Лифа в переделке Ирены Тувим).
Увидев, что я записываю эти названия, мой спутник, «позитивист» Тадеуш, недовольно поморщился. Он находит, что и в этих названиях проявился столь осуждаемый им романтически-мальчишеский нрав поляков.
А мне кажется, что в гораздо большей степени здесь проявилась забота о детях. На некоторых из новых улиц помещаются детские сады. И вы представляете себе, как приятно и весело ребятам ходить по улицам, окрещенным именами героев их любимых сказок.
Появилась в Варшаве и улица Ромео и Джульетты. Я, правда, не проверял, много ли туда стекается влюбленных. А в районе Вавера я как-то забрел на улицу Бахуса. Не знаю, чем она заслужила это название. Но на него не без успеха могут претендовать по крайней мере еще несколько варшавских улиц. И, в частности, улица Ясная, где у ресторана «Столица» по вечерам нетрудно заметить граждан, не всегда сохраняющих строго вертикальное положение.
В том же Вавере я обнаружил улицу Гномов (по-польски — краснолюдков) и улицу Эзопа.
Маленький театрик СТС мне рекомендовали как сценическое воплощение варшавского юмора. СТС — это Студенческий театр сатириков. Программа, которую я посмотрел, называется «Часть художественная». По жанру это довольно обычная форма самодеятельных интеллигентных ансамблей, распространенных и в Москве. Некоторые номера очень удачны, — например, песенки З. Федецкого, отмеченные хорошим вкусом и подлинным остроумием, сатирические номера А. Дравича, пародии А. Ерецкого.
Я видел комедию «Кугляже» на Камерной сцене Польского театра в Варшаве.
Конечно, большая форма дает больше простора для сатирического пера. Впрочем, автор «Кугляже» Здислав Скавронский назвал свою пьесу комедиофарсом, застолбив таким образом свое право на гротесковые преувеличения.
Разоблачить эластичность обывательской морали — вот задача, которую он, по собственным словам, ставил перед собой в пьесе «Кугляже». Слово это в первоначальном смысле означает — фокусники. А в переносном — ловчилы, «блатмейстеры».
Пьеса идет с большим успехом, и не только благодаря отличной игре актеров и обилию смешных положений. Смех в зрительном зале раздается так часто, что автор вдруг усомнился: «Не забивает ли смешное идею пьесы?» Нет, конечно. Главный успех спектакля в той остроте, с какой он разоблачает приспособленцев и комбинаторов формации послевоенных лет.
В варшавский Современный театр я пошел нехотя. Меня совсем не привлекала старая и довольно пустая комедия Жюля Ромена «Кнок, или Торжество медицины». Но со всех сторон мне усиленно советовали посмотреть актера Казимежа Рудзского, играющего главную роль.
Я не пожалел. Я испытал то высокое и довольно редкое наслаждение, которое доставляет игра первоклассного комедийного актера.
Рудзский ни на кого не похож. Это художник совершенно своеобразный. Манера играть — четкая, сухая, отточенная. Худое горбоносое лицо его почти неподвижно, сохраняя чуть брезгливую гримаску. Жест изящен, исполнен достоинства. Это — воплощение приличия. Но в каждом его взгляде, устремленном на собеседника с каким-то надменным недоумением, в каждой его интонации, обдающей партнера ледяным холодком, в каждом движении его сухопарого, гибкого тела столько внутренней издевки, почти клоунского эксцентризма и в то же время жизненной типичности, что в результате перед вами встает, можно сказать, эпический образ шарлатана и лицемера.
Я загорелся желанием посмотреть Рудзского в других ролях. Увы! Мне сказали, что Кнок — его единственная крупная роль, что он вообще предпочитает роли второстепенные, превращая их, правда, в маленькие шедевры, что он превосходный конферансье на актерских капустниках и т. д.
А между тем какой бы это мог быть Тартюф! Какой Глумов!
Несколько слов о художниках
В прославленном варшавском кукольном театре «Лялька» давали «Волшебного коня». Я готовился увидеть спектакль. А увидел художника.
Старую сказку Болеслава Лесмяна приспособил для сцены и поставил Збигнев Копалко. Какие бы ни делал этот спектакль заявки на драматизм действия и фееричность постановки, здесь торжествует художник Адам Кильян. Все определила его удивительная работа — маски, костюмы, оформление.
Постановка была рассчитана на то, чтобы вызывать в зрителе некий трепет перед кознями злодеев, заставлять тревожно биться маленькие сердечки. Но так как в художественном темпераменте Адама Кильяна ведущей чертой является доброта, то и спектакль получился глубоко человечный.
Это тоже спектакль масок, то есть, как и в театре «Гротеска», на сцене не куклы, а актеры. Но в краковском театре маски-шаржи, а здесь маски фантастически-сказочные. Невозможно описать очарование этих масок и костюмов, созданных душевной фантазией художника. Они сделаны из ивовых прутьев. Эти комбинации из корзин одновременно неуклюжи и воздушны, фантастичны и необыкновенно выразительны. Добродушный юмор их присолен некоторой долей лукавства.
Кильян, конечно, один из интереснейших польских театральных художников и графиков. Я совершенно согласен с Зенобиушем Стшелецким (тоже весьма интересным мастером), который в своей содержательной статье «Полвека польского театрального оформления» справедливо сетует на недооценку замечательной работы польских театральных художников. Не знаю, почему так получилось, что в польском изобразительном искусстве линия возобладала над цветом, акварель над маслом, рисунок над фактурой. Но польский плакат, польская книжная графика, польское театральное оформление стоят сейчас очень высоко и, по-видимому, опередили польскую живопись.
Не связано ли с этим и то, что польским документальным фильмам, таким, как «Рождение корабля», «Сентябрь», «Варшава 1956», «Кальвария», мы не раз отдавали предпочтение перед художественными? Мне кажется, что влечение польского искусства к документальному жанру сказывается иногда и в литературе, — например, в сухой, «стендалевской» прозе Брезы, примыкающей временами к стилю высокого репортажа, который так любил Пушкин (вспомним его «Кирджали»).
Художественные выставки в Варшаве весьма распространены. Вы просто натыкаетесь на них повсюду, я уже упоминал об этом. Заслуживает одобрения обычай устраивать выставки на предприятиях. Союз польских художников развернул на заводах и фабриках Варшавы свыше ста выставок, сопроводив их лекциями и встречами с художниками. Только как исключение можно увидеть на этих экспозициях работы абстракционистов. Между тем абстрактная живопись в Польше отнюдь не запретный плод. Странные (но не из самых странных) работы абстракционистов висят даже в Национальном музее в Варшаве. Но персональная выставка на заводе, лицом к лицу со здравым смыслом и еще не подпорченным эстетическим чутьем простого человека, — дело совсем другое.
Художники-реалисты даже эксцентрического направления обычно все же исходят от жизни. Абстракционисты большей частью эпигоны друг друга. Это напоминает старинную детскую игру в «испорченный телефон». Даже лучшие их произведения, наиболее счастливо использующие игру геометрическими формами или цветовыми массами, будучи заключены в четырехугольник рамы, еще не приобретают от этого эмоциональной силы. Наоборот, они только теряют, расставшись с естественным для них состоянием ковра или набойки. Об абстрактной живописи можно сказать, что, как только она перестает быть бессмысленной, она теряет всякий смысл.
Что же касается так называемой фигуративной живописи или попыток создания абстракционистского портрета, цель которого все же, как и всякого портрета,— вскрыть существо модели, то сделать это путем перемещения глаза на коленную чашечку или уха на копчик не удавалось даже такому замечательному мастеру, как Пикассо. Его земляк Веласкес достигал этого без применения вивисекции.
Насколько я успел заметить, сравнивая названия картин с тем, что на них изображено, абстрактная живопись все больше удаляется в символизм. А ничего другого, в сущности, ей и не остается, как объявить себя знаками каких-то таинственных постижений. Нигде символизм не производил таких гибельных разрушений, как в изобразительном искусстве. Даже абстракционистское искусство должно быть конкретным. Искусство так чувственно, — в какие бы заоблачные сферы его ни заносили, оно возникает из самой плоти человека, даже такой философский жанр, как литература, — что тут обходиться платоническим отношением к материалу нельзя. С материалом надо жить.
Юзеф Шайна — выдающийся театральный художник Польши. Но, когда я увидел его станковую живопись, она вызвала во мне горестное удивление. Это были прилепленные к холсту или к фанере куски чего-то черного, кажется, угля, а может быть, дегтя. Применив метод «испорченного телефона», я без труда определил родословную этих картин. Так работает итальянец Бурри, только не углем, а еще скандальнее — гвоздями, тряпками, обрывками одежды. Таким образом, Ю. Шайна выступает тоже как скандалист, но застенчивый.
Никак не пойму, зачем этот высокоодаренный художник занимается игрой в какие-то неопрятные ребусы? Что это — боязнь прослыть отсталым? Дескать, пусть дурная, но все же мода.
Я не берусь судить, что в каждом отдельном случае рождает падение художника в абстракционизм — ошибки вкуса, тирания моды или жажда сенсации.
Но вот выставка Марка Оберлендера в фойе одного из варшавских театров. Тут есть превосходные работы, — например, портрет Гарсиа Лорки, или акварель «Птицы», или драматический цикл автолитографий, изображающих Варшавское гетто. А рядом — абстракционистские композиции, лучшие из которых достигают художественного уровня орнаментов из детской игрушки-калейдоскопа или узоров для текстильных изделий. И именно эти вещи датированы последними годами — грустное свидетельство заблуждений большого таланта.
Поляки и бог
Тот, кто был в Кракове, знает, какой славный вид открывается со стен Вавельского замка. Внизу, изгибаясь, бежит светлая Висла. А дальше, на экране неба, тонко вычерчены заречные взгорья, холм Костюшки, колокольни, башни, фабричные трубы, прозрачные дымы над черепичными кровлями. Мне особенно понравилось стоявшее неподалеку здание строгих очертаний, с готическими стрельчатыми окнами. Я спросил соседа, что это.
— О, это старина! Бернардинский монастырь семнадцатого века.
— А сейчас что в нем?
Сосед посмотрел на меня с удивлением:
— Бернардинский монастырь.
По одной из центральных улиц в Варшаве шествует процессия маленьких школьниц. Идут парами, с аккуратными косичками за спинами, болтают, смеются, сосут леденцы. Все как в Москве. Видать, экскурсия в музей или театр.
Нет, позвольте, я и не заметил! Не все как в Москве: экскурсию ведет монахиня. Мне объясняют:
— Это католическая школа.
Довольно скоро перестаешь удивляться мелькающим в уличной толпе экзотическим фигурам черных монахинь с их огромными чепцами, накрахмаленными до стекловидности, и рослых бородатых монахов в скуфейках и рыжих сутанах.
Жил я в Варшаве неподалеку от университета и не раз видел, как из ворот высыпала веселая гурьба студентов и среди них ребята с такими же веселыми и открытыми лицами, как и другие, с распахнутыми воротами рубашек, в таких же сереньких дождевиках, как и другие. Но из-под дождевиков, увидел я с удивлением, выглядывают не штаны, а — честное слово! — длинные черные юбки... Да нет же, конечно, это не юбки! Это сутаны. В Варшавском университете, помимо факультетов физико-математического, биологического, химического, исторического, юридического и геологического, был до последнего времени факультет богословский. Сейчас он выделен в отдельную академию. Но некоторые лекции бурсаки по-прежнему слушают в университете. А в Люблине вообще существует специальный католический университет.
Главную массу верующих в Польше составляют крестьянство и мещанские слои в городе. А среди рабочих — вчерашние крестьяне, недавно завербованные на крупные заводы и стройки.
В Познанском университете историю искусств преподает ксендз. Сходная картина и на кафедре музыковедения в Варшавском университете — контрапункт также преподает духовное лицо. А с другой стороны, среди преподавателей Люблинского католического университета есть заведомые атеисты.
Признаюсь, я был немало удивлен, прочитав в католическом журнале благожелательные рецензии о постановках в польских театрах пьес Сартра и Брехта, по существу антиклерикальных. Чем объяснить это неожиданное свободомыслие?
В дальнейшем я узнал и более удивительные вещи. Например, странный либерализм церкви по отношению к... растратчикам.
Я не знаю софизмов, которыми орудуют священнослужители в полутьме исповедален, убеждая прихожан, что расхищение народного добра не грех. Вряд ли эти пастырские назидания преподносятся в примитивной форме, вроде: осени себя, раб божий, крестным знамением и запусти безгрешную руку в государственный карман. Absolvo te! Католическая церковь всегда умела находить для самых щекотливых положений грациозную форму.
Католицизм всегда отличался большой гибкостью. Дело не только в том, что почтенные прелаты разражаются благожелательными парадоксами об атеистических пьесах, а молодые викарии лихо мчатся на мотороллерах. В Кракове я видел выставку современного религиозного искусства. Она расположилась в доминиканском монастыре.
Много лет прошло с тех пор, как отцы доминиканцы ведали инквизицией. Нынче «псы господни» (как называет себя этот монашеский орден), подоткнув сутаны, гоняют мяч по футбольному полю, а в мрачных подвалах своего монастыря устроили сногсшибательный разлив модернистского искусства. Савонарола, который тоже был доминиканцем, схватился бы за голову при виде этих удлиненных Христов, которых, казалось, писала кощунственная кисть постимпрессиониста Модильяни. Он, несомненно, предал бы анафеме художпика-ташиста, назвавшего свой холст, испещренный грязными пятнами, «Мадонной», и, безусловно, сжег бы на костре и ваятеля, изобразившего евангелиста в виде каменной бабы, и автора скульптуры «Исповедь», представляющей из себя собрание бесформенных обрубков.
Когда-то религиозное искусство создавало мировые шедевры. Сикстинская мадонна и «Троица» Рублева прекрасны своей человечностью. На выставке в доминиканском монастыре тоже можно увидеть талантливые работы и интересные поиски. Но лицо ее определяет стремление католической церкви «быть на уровне», «поспеть за модой». Пока эта гибкость не выходит за рамки искусства, она довольно безобидна. В политике она принимает формы постыдные.
Полякам памятна деятельность Карла Сплета, епископа данцигского и хелмского. В годы оккупации гибкость этого прелата дошла до того, что он запретил не только богослужение, но даже и исповеди на польском языке. Рвение этого ватиканского гитлеровца распространялось не только на живых: он приказал уничтожить польские надписи на надгробных памятниках...
Есть любопытная статистика польского вероотступничества. Оказывается, что за последние годы порвало с религией около ста духовных лиц и около четырехсот семинаристов. Среди духовенства, сбросившего сан, и монахи — францисканцы, капуцины, иезуиты. В то время как приток поступающих в польские семинарии и монастыри с каждым годом скудеет, количество кружков научного атеизма растет и уже перевалило за полторы тысячи.
Случилось мне как-то быть в театре «Атенеум» в Варшаве. В тот вечер давали «Завещание собаки» бразильского драматурга Ариано Суассуна. Я, собственно, пришел не на спектакль. Мне надо было в связи с моей работой повидать Януша Варминьского.
Ныне директор и худрук театра, шестнадцать лет назад он был командиром взвода в рядах варшавских повстанцев. Взвод назывался «Кампинос» — по названию Кампиносского леса, подходящего к Варшаве с севера. Отсюда крохотное подразделение Варминьского совершало свои смелые вылазки в расположения гитлеровцев. Глядя на этого мягкого человека со сдержанными манерами и тихим голосом, я с трудом представлял себе его во главе группки отчаянных смельчаков, совершивших дерзкий и успешный налет на гитлеровский аэродром в Белянах (тех самых, где сейчас ведется такое оживленное жилищное строительство). С боями группка Варминьского пробивалась на соединение с повстанцами, сражавшимися в кварталах Жолибожа (тоже район Варшавы). После подавления варшавского восстания в начале октября сорок четвертого года Варминьский продолжал борьбу с гитлеровцами в партизанских отрядах в районе Закопане.
Но хотя я пришел в «Атенеум» для сбора исторических материалов, я, конечно, не отказался от предложения ознакомиться с работой театра, тем более что на сцене его шла не так давно и моя пьеса.
«Завещание собаки» — пьеса стилизованная. Она написана в духе лубочных народных зрелищ, вроде нашего «Царя Максимилиана». Спектакль яркий, подчеркнуто театральный. А Ян Матыяшкевич в роли ксендза и Бронислав Павлик в роли Шико просто превосходны. Оформление Конрада Свинарского и Эвы Старовейской, как мне показалось, не достигает уровня спектакля, так интересно поставленного К. Свинарским. В «Волшебном коне» (театр «Лялька») случай, если помните, обратный. Но и тут и там эта неслиянность всех элементов представления, разумеется, отражается на его целостности.
Теперь о пьесе. В театральной программе мы находим сведения об авторе. Замечу кстати, что польские театральные программы несколько отличаются от наших, и притом в выгодную сторону. Они дают довольно обильный литературный, исторический и графический материал о пьесе, театре, авторе.
Из программы этого спектакля мы узнаем, что Ариано Суассуна считает свою пьесу прославлением католической религии. Не знаю, что подвигнуло автора на такое странное заявление — наивность или чрезмерно развитый инстинкт самосохранения. Но с таким же основанием Боккаччо мог бы считать свой «Декамерон» апологией католицизма.
«Завещание собаки» — тонкая, умелая, остроумная, злая издевка над религией. В Испании и в Португалии эта пьеса запрещена. В самой Бразилии она вызвала со стороны церкви яростные обвинения автора в непочитании религии, в безнравственности и даже в... коммунизме.
В «Атенеуме» спектакль идет с большим успехом. Театр всегда полон. Публика смеется, часто аплодирует и всячески выражает свои восторги.
— А в воскресенье, — пояснил мне один варшавянин,— эта же самая публика наполнит костелы...
Тут же он мне указал на несколько переодетых ксендзов, которые от души хохотали, наблюдая на сцене жалкие и комические фигуры ксендза, епископа и даже самого бога, которого отлично играл Богдан Эймонт.
Несколько позже в журнале «Аргументы» я прочел, что на одной из недавних конференций польского духовенства некий высокий церковный сановник выступил со следующим признанием:
«Все мы повинны в грехе безразличия к вере. Каждый из нас охотнее читает «Доокола Свята» («Вокруг Света») и «Пшекруй» («Мир в разрезе»), чем «Ноmo Dei» (религиозная литература)».
Привожу это признание потому, что страну, как и человека, правильнее судить по тому лучшему, что в них есть...
Польские судьбы
Я посетил те места в Варшаве, на которые наши летчики сбрасывали повстанцам оружие и продовольствие. На стене дома № 57 по улице Хожа я увидел старые следы пуль и осколков, почетные раны Варшавы. Они не редкость здесь.
Когда много работаешь над историческим материалом, появляются как бы воспоминания о невиденном. Они иногда овладевали мной с такой силой, что, возвращаясь, например, из музея Войска Польского, где я зачитывался подпольными газетами времен оккупации, я вдруг отчетливо слышал на Краковском Предместье цокот кованых ботинок немецких солдат и дробную трескотню автоматов.
Но, разумеется, не только исторические места, а люди — и главным образом люди — интересовали меня. В Варшаве можно встретить ветеранов Нарвика и Тобрука, Монте-Кассино и Ленино. Однажды я целый вечер беседовал с поляком, сражавшимся в знаменитой битве под Арнемом (в Голландии), где осенью сорок четвертого года из-за оплошности английского командования почти целиком погибла польская парашютная бригада.
Но чаще всего, конечно, встречались мне бывшие варшавские повстанцы и партизаны из разных концов Польши. С каждым днем их становилось все больше. Люди не только охотно делились со мной боевыми воспоминаниями, но и приводили ко мне своих товарищей. Образовалась своего рода цепная реакция. Один эпизод из тех времен уместно здесь вкратце рассказать. Редкая особенность его в том, что среди героев его был и немец.
Янина Прох, ныне солидный экономист столичного учреждения, в годы оккупации была в партизанском отряде, в одном из так называемых хлопских, то есть крестьянских, батальонов. Ей, тогда совсем юной, случилось участвовать в ликвидации гестаповского палача. После успешно проведенной операции она укрылась от преследователей в полуразрушенном сарае. Целый день она сидела там, не смея выйти. Вечером вдруг кто-то вошел. Янина, к ужасу своему, увидела немецкого офицера,— высокий, седоватый, лицо не старое. Слегка склонив голову, он смотрел на нее. Она вскинула пистолет. Она решила: первую пулю в него, вторую в себя. Он в это время сказал:
— Бедный ребенок...
Что-то в его голосе было такое, что удержало ее от выстрела. Немец выглянул на улицу и поманил Янину. Они вышли. Улица была пуста. Он привел ее к месту, где стояло много больших ящиков, и сказал, чтобы она влезла в ящик и ждала его. Она так и сделала. Он поставил на нее еще несколько ящиков и ушел. Она ничего не понимала. Но у нее не было другого выхода. Она только успела заметить, что он не эсэсовец, потому что эсэсовцы носят один погон, а на этом немце было два, с голубой окантовкой автотранспортной службы. Она просидела в ящике, наверно, часа два.
Ночью подъехала машина. Стали грузить ящики. По голосу она узнала, что ее ящик несет тот самый офицер. Ему помогал солдат, которого офицер называл «Ганс». А Ганс его — «господин капитан».
Часа полтора она тряслась в машине, по-прежнему сидя в ящике. Наконец машина остановилась. В ящик постучали, она услышала голос капитана: «Выходи! Скорее!»
Она быстро вылезла. В темноте смутно чернела спина капитана. Он не оглянулся. Она спрыгнула с машины и в нерешительности остановилась. Капитан крикнул: «Беги прямо! Там лес!» Все это было так удивительно, что она не удержалась и спросила: «Вы немец?» Он сердито засопел и сказал: «Я немец больше, чем все они, вместе взятые». Потом: «Ганс, поехали!» Машина покатила. А Янина побежала в лес и на следующий день нашла своих.
Этот эпизод имел неожиданное продолжение, которое разыгралось на моих глазах. Позже я расскажу об этом. Вообще же я услышал здесь много удивительных историй. Собрать их — получилась бы потрясающая летопись польского героизма. Поляки, особенно варшавяне, обременены грузом пережитого. Каждый шаг здесь будит прошлое.
Нельзя судить о современной Польше, не вникая в ее исторические судьбы. Люди с трудом отказываются от вульгарных, но привычных определений национального характера, вроде: «пылкие испанцы», «флегматичные голландцы», «мечтательные русские» и пр. Александр Блок в замечательной поэме своей «Возмездие» (кстати, в черновиках она имела подзаголовок «Варшавская поэма») писал:
...все, что губернатор скажет,
Есть серый непроглядный мрак,
И кукиш из кармана кажет
Ему озлобленный поляк...
Вряд ли эта типично швейковская форма политического протеста характерна для поляков. Не кукиш поляк вытаскивал из кармана, а кинжал. Не в обывателях воплотилась душа польского народа, а в революционерах.
— Мы иногда задавали себе вопрос, — сказал мне один польский литератор, — почему в некоторых произведениях русской литературы поляки выведены в таком неприглядном свете? Скажем, у Достоевского. Мы пришли к убеждению: это оттого, что в поле зрения этих писателей попадали неудачные представители польского народа.
— Конечно, — согласился я. — Пушкин презирал Булгарина не за то, что он поляк, а за то, что он гад, продажная душа, доносчик. Что касается Достоевского, то, к сожалению, он, как известно, бывал не свободен от шовинистических настроений.
А вот еще разговор, с другим польским литератором, вернувшимся из Советского Союза, где он побывал впервые. Он посетил Ленинград и там узнал о жертвах блокады. Он говорил мне с явным волнением:
— Мы думали, что страдания поляков не сравнимы ни с чем. Но мы, например, никогда не испытывали ужасов голода, если не считать короткого времени варшавского восстания. Почему же о ваших страданиях так мало известно?
— Мы об этом мало говорим, — сказал я сдержанно.
— Почему?
— Да так... Просто это как-то не в нашем характере.
Жертвы ленинградской обороны были огромны. Но не напрасны.
Жертвы варшавского восстания были огромны: 20 тысяч убитых повстанцев и почти 200 тысяч павших среди гражданского населения. Варшавское восстание — героический подвиг польского народа. Это единственная из оккупированных европейских столиц, которая восстала против фашистов и держалась свыше двух месяцев. Варшавское восстание отличают его всеобщность, массовость, народность, при том, разумеется, что у рядовых участников восстания и у политиканов, руководивших им, цели не совпадали.
Все это вспомнилось мне, когда через несколько дней я осматривал музей в Кракове. Среди драгоценных экспонатов (достаточно сказать, что там хранятся шедевры Леонардо да Винчи и Рембрандта) я увидел в застекленном стенде кусок заплесневелого сухаря. Из пояснительной надписи явствовало, что этот сухарь грыз Наполеон на острове св. Елены. При виде этого огрызка я вспомнил, сколько напрасных жертв поляки принесли Наполеону, который всю жизнь точил из них кровь и всю жизнь обманывал их.
Пусть историки скажут, стоит ли урон, который варшавское восстание нанесло немецкой армии, тех неисчислимых жертв, которых оно стоило самим полякам.
Но даже и тщетность подвига не лишает его величия.
Выросли внуки
В одно из воскресений я отправился на поиски Юзефа Грабарека, старого рабочего, у которого я остановился в первую ночь освобожденной Варшавы.
Название улицы за пятнадцать лет безнадежно выветрилось из моей памяти. Помнится, было это где-то за площадью Трех Крестов. Хорошо помню деревянные массивные красные ворота. Рядом был разбомбленный дом, от которого оставался один первый этаж. (Когда я в том же году снова проездом был в Варшаве, в этот обломок дома уже внедрился какой-то предприимчивый лавочник.)
По мере того как я углублялся в переплетение улиц за площадью Трех Крестов, все более вставали в памяти подробности той особенной ночи. Юзеф Грабарек был первый увиденный мной участник варшавского восстания. Он был бойцом Армии Людовой. А вместе с ним и внучек его, Стасик. Много варшавских ребят работали связными в повстанческих частях. В подражание взрослым повстанцам они присвоили себе конспиративные клички. Кличка Стасика звучала несколько пышно для его двенадцати лет: капитан Немо. Мальчуган обижался, когда хлопцы в отряде называли его фамильярно — Не-мек. Это был горячий парнишка, он все рвался в бой, и дедушка, дрожавший за его жизнь, осаживал его командным окриком: «Капитан Немо, смирно! Кругом марш!» Стасик, обожавший, как и все мальчики, военный ритуал, немедленно повиновался.
Вспомнилось мне и то, что Грабарек вытащил из мешка толстую рукопись и со значительным видом протянул мне. На обложке, сделанной из куска желтых обоев, было написано по-польски: «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс».
Я листал этот диковинный манускрипт, а Грабарек, наслаждаясь моим удивлением, говорил:
— Переписано еще до восстания, в подполье. Издавать же мы не могли. Знаем, история эта неполная, может, и не во всем точная. Да лучшей не было. А знаете, у ребят все же большая охота узнать, как же простой народ дрался и победил.
Рукопись была истрепанная, — видно, прошла через много рук. Некоторые страницы были подклеены обрывками почтовых марок, поверх которых старательно восстановлены заклеенные буквы.
Помню, внимание мое остановили несколько строк, обведенных красным карандашом. Там говорилось, что в 1905 году рабочие Лодзи дрались с царскими солдатами и что Ленин считал эти бои первым вооруженным выступлением рабочих в России. Я посмотрел на Грабарека. Он улыбнулся и тронул старый шрам на своей щеке.
— Дядку, — вдруг сказал мальчик, —а сколько ж тебе тогда было?
— Да побольше, чем тебе сейчас, — ответил дед.— Отцу твоему уже стукнуло тогда два года...
...Я сразу узнал старый дом с деревянными трехстворчатыми воротами. Даже сердце ёкнуло. Место несколько изменилось. Рядом, где была разбомбленная руина с лавочником, — новое четырехэтажное здание. Но старый дом нисколько не изменился. Даже вмятины от осколков по-прежнему зияли на фасаде.
Волнуясь, я поднялся на второй этаж и позвонил.
Пожилая женщина в переднике, открывшая мне дверь, в ответ на мой вопрос грустно покачала головой:
— Он умер два года назад...
Умер... Почему-то это предположение ни разу не пришло мне в голову. А ведь Грабареку было бы сейчас под восемьдесят. Но в нем было столько жизненной силы...
— А мальчик?
— Какой мальчик? — удивилась женщина.
— Внук его.
Она всплеснула руками. На левой руке возле локтя я заметил вытатуированный номер — след пребывания в освепцимском аду.
— Боже милый, какой же он мальчик! — сказала она. — Я могу дать вам адрес пана Станислава.
В тот же день я увидел его.
— Я бы вас сразу узнал, — заявил он мне.
— А я бы вас не узнал, капитан Немо, — сказал я. Мы рассмеялись. Все же какие-то черты варшавского сорванца еще сохранились в этом высоком, статном мужчине.
— Значит, вы строите Варшаву?
— Да, — подтвердил он. — А она — нас.
Он рассказал мне, что сейчас на некоторых предприятиях уже нет рабочих с образованием ниже семи классов. И вообще крупнейшие индустриальные центры Польши сами становятся мощными узлами просвещения.
Он сообщил мне цифры, которые поразили меня.
— Вы знаете, сколько сейчас в Польше инженеров?
— Сколько?
— Сто тысяч с лишним!
— А было?
— В сорок пятом году семь тысяч.
— Это точно? — усомнился я.
— Слушайте! — взволновался Станислав. — За годы оккупации в Польше погибло около семисот профессоров и работников высшей школы и около пяти тысяч учителей средней школы. — Он продолжал, распаляясь: — А вы учитываете, что за те же шесть лет у нас не появилось ни одного квалифицированного работника ни в одной области знания?!
— Я записываю.
— И добавьте, что девяносто процентов современных инженеров получили образование в народной Польше, и что доброй половине этих инженеров еще нет тридцати трех лет, и что нам инженеров не хватает.
— Неужели не хватает?
— Чему вы удивляетесь? Вы видели наши новые верфи? Нет? Жаль.
— Почему?
— Потому, что сухопутная Польша по судостроению сейчас опередила Англию.
— Здорово!
— Вот вы поездите по Польше, увидите, как тихие провинциальные местечки становятся крупными индустриальными центрами.
— Где, например?
— Где? Пожалуйста. Сандомеж знаете?
— Еще бы! Помню Сандомирский плацдарм. Помню этот прелестный романтический городок.
— Так возле этого романтического городка вырос огромный серный комбинат. А в Турошове — это на западе — построены мощные электростанции, потому что там поистине гигантские залежи бурого угля. Ну, говорю вам, возникают просто новые промышленные округа.
— А как обстоит дело с гуманитарной интеллигенцией?
— Учителей не хватает. В общем я считаю, что новая польская интеллигенция — это главным образом техническая. И это к лучшему.
— Ох, нет вашего дедушки, чтобы он скомандовал вам, как тогда: «Капитан Немо, смирно! Кругом марш!»
Молодой инженер рассмеялся, но не отступал. Я увидел в нем черты некоторой технической заносчивости, признаки которой изредка вспыхивают и у нас в Советском Союзе. Вспомните спор «физиков и лириков».
Оказалось, что Грабарек наслышан и об этом. И даже, узнав о моих планах, осведомился с лихостью бывшего варшавского «гавроша», не согласен ли я, что мы присутствуем при отмирании жанра романа.
Я ответил, что под влиянием поразительных научных и технических успехов нашей эпохи действительно время от времени возникают наскоки на искусство. Попытка технократически настроенных инженеров противопоставить науку искусству так же нелепа, как попытка эстетствующих литераторов противопоставить искусству политику. В обоих случаях сказывается стремление, иногда неосознанное, оторвать искусство от жизни.
Что же касается гибели романа, то это скудное соображение родилось, надо полагать, в деловых бюро бизнесменов, которым просто некогда читать книги. Роман не менее гениальное изобретение человечества, чем расщепленный атом.
— А что касается популярности этого жанра, то вот вам лучшее доказательство...
И я указал на лежавший на диване раскрытый роман Казимежа Брандыса «Непокоренный город».
Грабарек рассмеялся и махнул рукой в знак того, что попался.
Потом мы перешли на воспоминания. Станислав извлек из письменного стола старые газеты, листовки, фотографии, нарукавный знак с буквами «А. Л.» (Армия Людова). Среди этих реликвий была истрепанная рукопись.
— Все собираюсь сдать ее в музей...
— В музей истории Варшавы?
— Пожалуй, нет... Знаю, что сейчас есть новая, более полная и совершенная история партии... Знаю, что в старой есть ошибки, и умолчания, и культ личности... А все же и она помогала нам драться. В музее Войска Польского есть зал, где выставлено оружие повстанцев. Думаю, что там для нее подходящее место...
Вскоре после этой встречи мне случилось познакомиться с небольшой группой молодых инженеров. Это произошло в Сверке, польском атомном центре. Если по одному подразделению можно судить о духе всей армии, то следует сказать, что молодые польские инженеры — это армия энтузиастов.
Атомный котел, он же реактор, велик, как дом. Он стоит посреди огромного зала, щедро залитого дневным светом. Мы взобрались на крышу реактора по трапам и мостикам, придававшим ему сходство с кораблем.
Странное это было чувство — сознавать, что под твоими ногами происходит расщепление первозданной материи, из которой и ты сам сделан. К этому примешивалось сознание, что достаточно нейтронам вырваться из адских недр этого котла и, пробившись сквозь бетонную защиту, вспрыгнуть на тебя, как ты из высокоорганизованного существа с мыслями, страстями, надеждами, семьей, паспортом обратишься в хаотическую пляску радиоактивных изотопов.
Но дозиметры утешительно молчали, покоясь в карманчиках наших белых халатов.
Реактор показался большим только нам, профанам. Начальник его эксплуатации Ежи Александрович, молодой, сохраняющий восторженное отношение к своему делу инженер, рассказал нам, что этот реактор уже не покрывает запросы промышленности и медицины. Расщепленный атом стал так же необходим в современной индустрии, как вода, газ, электричество.
Мал этот реактор и по сравнению с масштабами научных работ. У его выводящих каналов образовалась своего рода очередь физиков, которые, фигурально выражаясь, дерутся за место у атома, как прохожие в часы пик на трамвайной остановке.
Скоро приступят к постройке еще большего реактора, на этот раз по польским проектам и из польских материалов (этот создан советскими специалистами).
Мы осмотрели пульт управления, спектрометр нейтронов, подземные переходы, похожие на отсеки подводной лодки, научные кабинеты, чью деловую сухость смягчают цветы и гравюры, подобранные с хорошим вкусом. Мы долго наблюдали умную работу механических рук роботов, манипулирующих там, куда человеку нет доступа.
Потом мы вышли наружу. Ветер едва не сбил нас с ног. Налетела буря. Она гнула, как хлыстики, высокие ели, от которых это место и получило свое имя «сверк» — по-польски «ель». В низком небе ходили тяжелые иссиня-серые тучи. Вдруг блеснула разлапистая молния, и почти без паузы — пушечный удар грома.
Я услышал, как спутник мой, молодой историк, прошептал:
— А все-таки у природы есть власть над человеком...
Сказать так в двух шагах от реактора, где человек взял в упряжку самые сокровенные силы природы!..
— Только поэтическая! — сказал я.
Историк улыбнулся моему возмущению.
— Именно это я и думал, — мягко ответил он.
Опять! Опять я обидел его. В первый раз это случилось, когда я спросил его, верующий ли он. Он долго не мог успокоиться и все посматривал на меня недоуменно и даже огорченно: как это я мог заподозрить его в подобном!
Он ровесник инженера Грабарека и несколько моложе инженера Александровича. Они чужие друг другу, и все же их объединяет какое-то родство. Нет, не молодость. Чем больше знакомился я в Польше с поколением выросших внуков, тем более убеждался в существовании у них того, что можно назвать чертами социалистического сознания.
Юлиан Маслянка и Валерий Писарек — работники Дома культуры, один заместитель директора, другой заведующий художественным отделом. Своим процветанием этот интересный клуб, весьма популярный в Новой Хуте благодаря своей содержательной, разносторонней деятельности, в немалой мере обязан энтузиазму этих двух молодых людей.
Окончив краковский Ягеллонский университет по факультету польской филологии, они пошли работать в самую гущу рабочего класса (так же, между прочим, как и коллектив местного театра, о котором я расскажу дальше).
Писарек сумел организовать среди новохутинского пролетариата широкий и увлекательный конкурс на лучшее описание жизни в этом новорожденном рабочем городе. Юлиан Маслянка совмещает с активной клубной работой серьезные научные занятия. Они, кстати сказать, окрашены явным интересом к русской литературе.
Несколько лет назад Маслянка опубликовал и прокомментировал найденное им в государственном архиве в Вавеле неизвестное дотоле письмо Пушкина. А сейчас он увлечен работой над биографией известного славянского этнографа и фольклориста прошлого столетия Ходаковского, которого, между прочим, весьма ценил Гоголь (см. его письмо к Максимовичу: «...Я очень порадовался, услышав от вас о большом присовокуплении песен из собрания Ходаковского»). А Пушкин увековечил его в строфе:
Но каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне,
Об отдаленной старине.
Я вспоминал пылкие речи инженера Грабарека о высшем образовании и заинтересовался: сколько же было студентов в довоенной Польше? Вот цифра: 48 тысяч. И это тогда считалось непозволительной роскошью для такой бедной страны, как буржуазная Польша. Газеты вопили «о перепроизводстве интеллигенции».
Сразу же после освобождения распахнулись двери университетов и институтов. Лекции читали немногие уцелевшие профессора в полуразрушенных помещениях при свете огарков. Но тогда уже, в сорок пятом году, было 35 тысяч студентов. Сейчас же в народной Польше свыше 200 тысяч студентов.
Принято говорить, что молодежь — это наше будущее. Но почему только будущее? Почему не настоящее? Особенно в стране с таким высоким процентом молодых возрастов, как Польша? Из 30 миллионов поляков 10 миллионов родились и выросли в народной Польше и еще 10 миллионов родились перед войной или во время войны.
Нет, не новый позитивизм, вопреки уверениям Тадеуша, характерен для молодых поколений в Польше, а скорее новый романтизм. Это не значит, что не народилось и новое мещанство. Они живучи, эти мещанские навыки. Все это — безыдейность, религиозный фанатизм, крестьянская ограниченность, жажда наживы, провинциальный снобизм — сгорает на огромном костре новых социалистических отношений. Но, сгорая, все еще чадит, чадит...
Процесс этот, разумеется, протекает не только в Польше. Но здесь я его почувствовал с особенной отчетливостью, может быть благодаря некоторым особенностям национального характера. Не раз отмечалось, что поляк не знает середины. И не только в увлечениях своих. Самая природа его есть якобы воплощение крайностей: уж если поляк темен, то это не сумерки, а ночь, а если светел, то это такое сияние, такая прелесть, такая чистота!
Так ли это?
Воздержимся от лапидарных характеристик. Какая смелость воображать, что все разнообразие народной души можно вместить в несколько слов! Однако есть такие тенденции в развитии народного характера, которые не могут ускользнуть от взгляда внимательного наблюдателя.
Я не считаю себя особенно везучим. Но уж если мне на моем недолгом пути в Польше встретилось столько людей такого высокого идейного и морального обаяния, значит, немало их в Польше. И это не просто хорошие люди. Это новые люди. Это люди с чертами нового, социалистического сознания.
Повесть о двух городах
Вавель, этот польский Версаль, раскинувшийся в центре Кракова, в сущности, музей в музее. Ибо и сам Краков с его Мариацким собором о двух разновеликих куполах, с его Сукеницами— древними торговыми рядами, с его темной громадой средневековой ратуши и выпуклой массивностью старинных крепостных стен похож на гигантский музей.
Все это застывшее средневековье окружает площадь Главного Рынка. Она необыкновенно жизнерадостна,— вероятно, потому, что на ней полно голубей и цветов. И автомобилей.
Я не зря упомянул их рядом. Они антагонисты. Цветы здесь продают с незапамятных времен. Много веков, поколение за поколением, сидят здесь цветочницы под своими большими, как у художников, зонтами. Это деталь, но она сообщает ритму Кракова какую-то спокойную устойчивость.
Но вот появились автомобили. Они заявили — убрать цветы, они нам мешают.
Когда городская рада постановила перевести краковских цветочниц в другое место, потому что они мешают уличному движению, краковчане взволновались и ринулись к своему земляку. Слава всевышнему, он кое-что значил в Польше, все-таки как-никак премьер-министр Иозеф Циранкевич.
Цветы остались на месте.
Вавель грандиозен. Вновь высится в нем памятник Костюшко, уничтоженный гитлеровским наместником Гансом Франком. Новый памятник — дар городу Кракову от города Дрездена.
Величественны дворцовые залы Вавеля с прославленными гобеленами. Но есть среди этих великолепий одна деталь, которая действует если и не сильнее, то острее и больнее всего. Вы узнаете о ней в живописном Зале флагов, где свисают с потолка победоносные знамена Грюнвальдского сражения.
Здесь в годы оккупации Ганс Франк устроил свой домашний кинозал. Знамена выкинул, в стене пробил дырку, сзади приладил будку, спереди — экран. Вероятно, в кровавой биографии Франка, организатора Освенцима, Майданека и Треблинки, это выглядит как мелкое хулиганство. Но иная мелочь с силой прожектора высвечивает облик человека. Я явственно представил себе этого интеллигентного хама, этого кровавого прохвоста, который развалился в кресле посреди изуродованного и оскверненного им зала польской славы.
По случайному совпадению я увидел Франка — уже не мысленно, а воочию — в тот же день. В кинотеатре «Штука» показывали фильм «Нюрнбергский процесс». Фильм поставлен в Федеративной Германии. Это уже не первое усилие деятелей ФРГ отгородиться от военных преступников третьего рейха.
Зрители (зал был полон) в мрачном молчании смотрели столь знакомые многим из них сцены жестокости и цинизма фашистов. Я бы не сказал, что этих эпизодов так уж много в фильме. Пожалуй, их меньше, чем кадров, изображающих моменты казни властителей гитлеровской империи. Причем эти кадры поданы так пространно и с такими физиологическими подробностями, что невольно зарождается мысль: а не смонтирован ли фильм «Нюрнбергский процесс» с расчетом заронить в зрителях чувство жалости и протеста против Нюрнбергского процесса?
Однако не слишком ли часто в Польше вспоминаются эти мрачные картины прошлого? Что поделаешь, такова польская земля, тут на каждом шагу встают видения войны...
Пятнадцать минут езды трамваем, и вы переноситесь из старинной столицы в самый юный польский город — в Нову Хуту.
Когда было принято решение построить гигантский металлургический комбинат, встал вопрос: где?
Первоначально место было найдено в Силезии, в районе Дзержна, у Гливицкого канала. Это облегчило бы строительство: район промышленный, уголь, кокс, электроэнергия, вода — все рядом.
Но в строительстве Новой Хуты, как и в строительстве Варшавы, польский народ и партия пошли по линии наибольшего сопротивления. И победили.
Нову Хуту построили на месте бедных подкраковских деревенек, лишенных электричества и дорог. «За» были только равнинные просторы этих мест да наличие рабочей силы, ибо перенаселенность этих деревенек уже становилась беспокоящей проблемой.
Но независимо от этих соображений мне кажется, что это была удачная идея: поставить под древними крепостными стенами Кракова с его живучими религиозными традициями и музейной психологией мощный индустриальный центр, населенный передовой пролетарской молодежью.
Так в десяти километрах от резиденции польских королей, на месте нищей деревни с символическим названием Могила, возникло это огромное сияющее поселение нового типа. Возведение Новой Хуты можно приравнять к восстановлению Варшавы. Это второй мирный подвиг народной Польши.
Административно Нова Хута — один из районов Кракова. Но по существу это самостоятельный город с многотысячным населением, со своим крупным бюджетом, своими нравами, укладом, интересами, со своей короткой, но бурной историей. Его улицы не похожи на улицы Кракова, его театр не похож на театры Кракова, и, и смею думать, его люди несколько отличны от людей Кракова.
Здесь все просторно, громадно, залито светом: дома, улицы, магазины, школы, клубы. Юлиан Маслянка считает, что Нова Хута — это исполнение пророчества Стефана Жеромского, писавшего полвека назад:
«...Старые города, эти страшные кошмары старой цивилизации, сгинут... появятся новые города-сады,среди полей, лесов...»
Действительно, леса и поля вплотную обнимают этот юный город, где уже сейчас обширные пространства заняты садами, парками, уличными посадками.
И здесь, разумеется, кипели архитектурные страсти. И здесь строители экспериментировали в поисках стиля нашего времени. И здесь некоторое время торжествовали реставраторские тенденции. Но так как Нова Хута начала строиться в 1950 году, то напыщенный стиль ресторанного ампира здесь царствовал недолго. Архаисты успели поставить лишь несколько захолустных «палаццо дожей» с аркадами и колоннадами. Преобладают же здесь чистые и светлые очертания новой архитектуры. Вдруг начинает казаться, что ты идешь не по Аллее Роз в Новой Хуте, а по проспекту Вернадского в Москве.
Город строился комплексами. Каждый такой комплекс-поселок населяет от двух до пяти тысяч жителей. И в каждом своя школа, детсад, ясли, поликлиника, ресторан, магазины, почта. В последнее время появились дома, облицованные цветной штукатуркой. Желтые и коричневые балконы, широкие темно- и светло-зеленые полосы на фасадах, голубые торцы создают зрелище, полное радостного покоя.
Ощущение необычайности Новой Хуты рождается у поляков от сопоставления ее не только со старыми лодзинскими и жирардовскими рабочими поселками — скученными собраниями хибарок и унылых казарм, —но и от соседства дворцово-музейного Кракова.
Хочу тут же оговориться. Было бы ошибкой воображать Краков сплошь средневековой игрушечкой. Здесь не только восхищаются знаменитыми деревянными скульптурами алтаря Вита Ствоша, благоговейно немеют перед гробницами Мицкевича и Словацкого и восторженно ахают при виде турнирного двора в Вавеле, точно слетевшего с иллюстраций к романам Вальтера Скотта. Здесь также строят современные сельскохозяйственные машины, производят химикалии, кожевенные изделия, пищевые продукты. Но при всем том традиции старопольские (так и хочется сказать — старосветские) и отпечаток религиозности здесь явственнее, чем в другом любом месте Польши, чем даже в Ченстохове.
Не могу при этом не поделиться одним наблюдением. Поляки дивятся Новой Хуте гораздо больше, чем мы, советские люди. Ибо, на наш взгляд, Нова Хута выглядит как раз так, как и должен выглядеть всякий новый город. И у нас они именно так и выглядят. А как же иначе? Не строить же, в самом деле, рабочий клуб в виде Мариацкого собора да развешивать в мартеновском цехе аррасские гобелены!
Гораздо более разительные контрасты мы открываем внутри самой Новой Хуты. В этом городе, населенном вчерашними крестьянами, только сейчас ликвидирующими свою неграмотность, играет самый левый, самый утонченный театр Польши. А в иных из этих блистательных многоэтажных домов с лифтами, центральным отоплением, мусоропроводами еще недавно наблюдался кое-где крестьянский, избяной быт. В коридорах держали кур, а то и поросенка, а в ванне — картофель.
Рабочих на комбинат набирали из местных крестьян.
...Ленину были знакомы эти места. Он жил в Кракове с июля 1912 по август 1914 года.
Первоначально Владимир Ильич с женой и ее матерью поселился на рабочей окраине, в доме № 218 по Зверинецкой улице. Надежда Константиновна в записках своих хвалит живописный вид на Вислу и Вольский лес.
На велосипеде, в спортивном костюме и кепке, Ленин совершал дальние прогулки. Он наблюдал нищую жизнь этих отсталых подкраковских деревенек, заходил в покосившиеся хаты, крытые гнилой соломой, разговаривал с людьми.
«В Восточной Европе (Австрия, Балканы, Россия),— писал он тогда, — до сих пор не устранены еще могучие остатки средневековья, страшно задерживающие общественное развитие и рост пролетариата...»
Быт складывался веками. Голод, гнет, неуверенность в завтрашнем дне, недоверие к городу формировали душу польского хлопа. Ныне удивляешься не тому, что он втянул из нищей хаты своей в городскую квартиру «могучие остатки средневековья», а тому, что сейчас он так быстро избавляется от них.
Главный деятель этих перемен — Новохутинский комбинат. О масштабах его можно судить по тому, что он один производит столько стали, сколько производили все предприятия буржуазной Польши, вместе взятые. А ведь ему еще расти и расти. Но значение комбината не только в этом. Подобно тому, как его теплоцентраль разливает тепло не только на своей территории, но и по жилам всей Новой Хуты, так этот металлургический колосс излучает в рабочие массы просвещение и культуру и мощно преобразует сознание людей и их жизненный уклад.
Вот он высится перед нами — крутые уступы заводских корпусов, стеклянные крыши цехов, цветные султаны дыма над мартеновскими трубами, ажурные руки гигантских кранов, — могучий индустриальный пейзаж. Сопровождающий нас ассистент директора магистр Р. Питух обращает наше внимание на три огромные домны.
— Самые большие в Европе, — говорит он с гордостью.
Заметив удивление на моем лице, он поправляет себя:
— К западу от Днепра...
Мы вошли в цех. Стоим высоко на мостике, наблюдаем работу блюминга. Железные руки манипуляторов ворочают грузный раскаленный слиток, гонят его в объятия обжимных валов, откуда он, пыхая искрами, выходит похудевший и выросший.
Блюминг велик, как мамонт. Это — наиболее мощное орудие современной металлургии. Это не одна машина, а целый оркестр механизмов. Я вгляделся в фабричную марку, вытисненную на станине.
Магистр Питух кивнул головой:
— Да, блюминг из Советского Союза.
Он добавил:
— Интересно, откуда когда-то вы получили свой первый блюминг?
Надо же быть такому совпадению! Я присутствовал при рождении первого советского блюминга. И хотя с тех нор прошло тридцать лет и за эти бурные годы я повидал многое, явление на свет божий в тесных цехах Ижорского завода нашего первого блюминга осталось среди самых ярких моих воспоминаний.
В тридцатые годы, в эпоху индустриализации, решено было установить у нас на заводах блюминги. ВСНХ обратился к известной американской машиностроительной фирме «МЕСТА».
Фирма эта заломила ошеломляющую цифру — восемь с половиной миллионов долларов.
— Это вовсе не так много, — уверял представитель фирмы. — За самый блюминг мы просим всего полтора миллиона долларов.
Но дело в том, что отдельно блюминг «МЕСТА» не продавала. Она вынуждала брать к нему огромный набор предметов, легко изготовлявшихся в Советском Союзе,— подъемные краны, чугунные котлы, даже... обыкновенный кирпич.
Мы прервали переговоры с заокеанскими спекулянтами.
Однако блюминги были нужны.
Решили тогда приобрести за границей не блюминг, а только чертежи к нему. Обратились на этот раз к германской фирме «ДЕМАГ». В фирме много иронизировали над чудаками, которые надеялись сами выстроить блюминг. Блюминг! И кто?! Советская Россия, получившая в наследство устарелую промышленность, к тому же разрушенную мировой и гражданской войнами!
Но в конце концов каждый волен проматывать свое состояние, как ему заблагорассудится. Дело продавца — продавать.
И фирма «ДЕМАГ» согласилась продать чертежи. Но заломила за них цену, мало отличавшуюся от фантастической американской.
Мы во второй раз прервали переговоры. Фирма вежливо осведомилась: как же мы намерены поступить?
Наш ответ гласил: сами спроектируем и сами построим.
Ответ этот передавали в германских технических кругах как анекдот.
Через девять месяцев на старом Ижорском заводе, существовавшем еще с петровских времен, родился первый советский блюминг. Вслед за ним второй и третий.
Все это я рассказал в нескольких словах, опустив подробности этого поистине героического подвига ижорских рабочих и инженеров. На этот раз рассказ прозвучал выразительно под стенами Новохутинского комбината, спроектированного в СССР Гипромезом. Не только блюминг, большинство агрегатов поставлено Советским Союзом. Наши специалисты налаживали пуск производства. И все это в порядке братского сотрудничества социалистических стран. Нужна ли лучшая иллюстрация для характеристики воцаряющихся в мире новых человеческих отношений!
Отсталая фантастика и передовая старина
Всякий, кто узнавал в Варшаве, что я еду в Нову Хуту, говорил мне:
— Обязательно сходите там в театр.
Я посмотрел там пьесу Н. Алони «Самый жестокий из всех — царь». Восстание народных масс против жестокого и преступного угнетателя — сюжет пьесы. Никакие потери, как бы тяжки они ни были, не должны устрашить борцов за освобождение народа — вот идея и пафос пьесы. Это с особой пронзительностью звучит на польской земле, где у всех в памяти (а у многих и в биографии) муки и героизм борьбы против фашистской тирании.
Автор относит действие пьесы к библейским временам. Следуя Шекспиру, он заключает современную политическую тему в оболочку исторической хроники. Но иногда Алони, писатель, по-видимому, талантливый, просто копирует своего великого учителя, вплоть до того, что центральный монолог Иеровоама является, в сущности, вариантом известного монолога Марка Антония в трагедии «Юлий Цезарь».
Наслышавшись разговоров об эксцентризме этого театра, я ожидал увидеть кричащее, пестрое зрелище. Постановщик Кристина Скушанка проявила хороший вкус и понимание существа пьесы, придав спектаклю сдержанные, матовые тона. Актеры играют, почти не повышая голоса, движения их словно замедленны. И тем не менее вы чувствуете, что это затишье предгрозовое, вы все время находитесь в предвкушении бури. И она разражается. И потрясает с тем большей силой, что ей предшествовала тишина.
Ритм спектакля и состоит из смены длительных предгрозовых затиший и мгновенных бурь.
В некоторых деталях спектакля чувствуется полемичность. Может быть, в основе ее здоровый протест против окостенения театральных форм. Все же этот ход «от противного» делает иные мизансцены слишком балетными, почти акробатическими. Было бы очень досадно, если бы «полемичность» втянула театр в скучную «левизну». Ибо есть не только шаблон натурализма, но и банальность «новаторства». В этом спектакле увлечения театра не принимают крайнюю форму, и он волнует своей человечностью и идейностью. Насколько я понял, театру дорого признание не изысканных столичных театралов, а зрителя Новой Хуты.
Действительно, когда видишь, с каким увлечением принимает спектакль рабочая аудитория, убеждаешься, что театр Новой Хуты недаром называется Народным.
В те же дни мы смотрели пьесу М. Проминьского «Ракета Молния» в краковском «Старом театре». Нам говорили, что пьеса эта не то научно-фантастическая, не то политический памфлет, действие происходит в будущем, — словом, заманчиво. Действительно, в пьесе есть и то, и другое, и третье. Бандиту, приговоренному в США к казни на электрическом стуле, предлагают совершить рискованный полет в космос. В пьесе есть выигрышная ситуация, когда бандит, улетев на ракете в межпланетное пространство, оттуда, с космической трибуны, гремит на весь земной шар речами, полными издевки и обличительного яда. Но, к сожалению, густой налет сентиментальности и тривиальные лобовые решения мешают этому спектаклю достигнуть необходимой силы выразительности. Пустующий зрительный зал был следствием этого.
Таковы эти два спектакля. В древнем Кракове — ультрасовременное зрелище с ракетами и космическими полетами. А в юной Новой Хуте — ветхозаветная притча с библейскими персонажами.
Но каким архаическим выглядит это краковское космическое действо! И какой передовой и злободневной кажется новохутинская старинная легенда! Вот оно, чудо искусства!
Через некоторое время я смотрел в новохутинском театре пьесу современную и притом — что было особенно приятно — советскую. То была сатирическая сказка Евгения Шварца «Дракон». В этой поэтической и умной пьесе гнев сатирика обрушивается на фашистскую диктатуру.
Я вновь увидел живописное театральное зрелище, острый и четкий режиссерский рисунок. Однако постановка эта (режиссер Ежи Красовский) показалась мне более робкой, чем спектакль «Самый жестокий из всех — царь». Быть может, поэтому, а может быть, из-за чрезмерного обилия эксцентрических положений злое и меткое произведение Евг. Шварца выглядело скорее фарсом, чем сатирой.
И все же я покидал этот интересный молодой театр с тем волнующим чувством, какое всегда возникает при встрече с настоящим искусством.
В горах
Мы ехали по шоссе безукоризненной гладкости, несколько узкому, на наш взгляд. Местами оно было аккуратно залатано.
Воскресный день. Дорога многолюдна, как городская улица в часы пик. То рядом, то отставая, то обгоняя нас, катили машины, набитые палатками и удочками, туристские автобусы с надписями «Будапешт», «Вена», «Киев», мотоциклисты с женами, притороченными за спиной. Все это стремилось к Закопане, в Татры, к озерам.
А на горизонте ласково маячили горы мягких, округлых очертаний.
Мелькали речушки среди плоских галечных берегов, лоскутные одеяла польских полей, стога, похожие на монахов. Стали попадаться стайки гуралов в белых оперных костюмах, расшитых позументами, и в круглых шляпках.
Мы проехали Новый Тарг, Белый Дунаец, Поронино. Места эти овеяны именем Ленина. В деревянном доме, где он жил, все сохранено так, как было при нем: мебель, книги, на стене молодое гордое лицо Надежды Константиновны.
По канатной дороге мы взвились на Каспровый Верх. Кристаллически чистый воздух резко вливался в грудь. Рядом извилистая линия чехословацкой границы. А далее те же горы, сколько видит глаз. Люди бродят молча, здесь не хочется говорить, а только смотреть, смотреть без конца на эту страну гор, чем-то, мнится, похожую на лунный пейзаж.
Впрочем, какой-то немолодой толстяк повернулся спиной к горам и с карандашиком в руках вдохновенно углубился в журнал. Я не удержался и заглянул к нему через плечо. Черт побери! Здесь, на высоте двух километров, среди этой пронзительной красоты, он не нашел ничего более интересного, чем решать кроссворд.
На обратном пути мы посетили Морское око — горное озеро, лежащее, как круглый изумруд, среди отвесных скал. Но почему «морское», да еще «око»? Нам рассказали, что раньше это озеро называлось просто Рыбное озеро. А Морским оком его окрестил некий писатель. Конечно! Узнаю моих собратьев по перу в этой страстишке к пышным выражениям.
Вечером мы вернулись в Краков. В модернистском костеле на краю города зажглись огни. Цветочницы уже ушли с площади Главного рынка. Химеры на Сукеницах таращили на нас свои зловещие глаза и корчили рожи. В вечерней тишине явственно слышен был мелодичный сигнал горниста, трубящего каждый час вот уже пятьсот лет. А говорят, что ночью, когда становится совсем тихо, сюда доносится мерный гул новохутинских домен и мартенов.
Освенцим. Город страданий
Мы приехали в одно из самых удручающих мест мира, в Освенцим.
Он превращен в музей. Здесь все так, как было при гитлеровцах, нет только одного: гитлеровцев.
По верху ворот по-прежнему тянется выложенная железными буквами подлая ложь: «Arbeit rr.acht irei»] Работа делает свободным (нем.).[ Стоят молчаливые кроваво-красные корпуса, среди них позорно знаменитый блок № 11 — блок смерти.
В Освенциме всегда толпы посетителей. Они прибывают со всех концов мира. Сквозь музей Освенцим прошло свыше трех миллионов человек — все еще меньше, чем прошло узников через лагерь Освенцим.
Сюда привозят экскурсии школьников. Дети вбегают, как всегда, веселые, со смехом. Я видел, как они постепенно утихают, как бледнеют их лица, как в глазах у ребят появляется ужас, потом гнев.
Музей не навязывает вам своих выводов. К чему? Они напрашиваются сами собой.
Никакое описание не может сравниться с зрелищем этой горы очков, или женских волос, или этого огромного дорожного катка, в который впрягали советских военнопленных. Они должны были тащить его бегом. Погонщик был немец-уголовник Кранкеман. Палкой он забивал узников насмерть.
Я прошел по всем блокам и тщательно осмотрел этот потрясающий памятник страданий народов, многое записал, даже снял небольшой фильм. Но я не буду здесь рассказывать об этих местах, пропитанных кровью. Это делали многие.
В одном польском еженедельнике, органе католических кругов, я наткнулся на рецензию о фильме «Нюрнбергский процесс». Автор перечислял мотивы преступлений фашистов. Тут и садизм, и презрение к иностранцам, и отсутствие совести, и привычка к повиновению, и еще, и еще... Но в этом обширном списке мотивов я не нашел самого могущественного.
Еще римское право предписывало при расследовании преступлений прежде всего определить: «Сui prodest?» (Кому это выгодно?).
«Когда не сразу видно, — писал Ленин,— какие политические или социальные группы, силы, величины отстаивают известные предложения, меры и т. п., следует всегда ставить вопрос: «Кому выгодно?»
До сих пор многих продолжает мучить загадка Германии: каким образом одно из самых цивилизованных государств мира породило чудовище фашизма, который самую преступность возвел в религию?
Кому это было выгодно?
В Европе было 900 гитлеровских лагерей. Если вам случится быть в Освенциме, не поленитесь взглянуть на карту их расположения. География лагерей свидетельствует, что они создавались возле немецких промышленных предприятий.
Почему с конца 1942 года резко усилилась ссылка в лагеря? По политическим соображениям? Нет, оказывается! Этого добивались немецкие предприниматели. Комендант Освенцима, палач Рудольф Гесс показал на процессе: «Стоящие во главе предприятий лица из среды промышленников подчеркивали постоянно во время моих служебных поездок, что они хотели бы иметь больше узников».
Заключенные были чрезвычайно выгодной рабочей силой. Их рабочий день начинался в 4 часа 30 минут утра и длился до ночи. Я опускаю ужасающие подробности условий этой работы. Упомяну только, что ежедневно во время этого рабского труда умирали сотни заключенных. Сохранились отчеты концерна «ИГ Фарбениндустри». В одном из таких отчетов за период от 8 до 21 февраля 1943 года главный инженер концерна Макс Фауст отмечает, что эсэсовцы обязались «устранить всех слабых узников». На языке эсэсовцев «устранить» означало удушить в газовых камерах. На место «устраненных» немецкие промышленники покупали в лагерях новых узников. (Кстати, об инженере Фаусте: он жив и продолжает как ни в чем не бывало служить в одной из фирм-наследниц «ИГ Фарбениндустри».)
Слова «покупали узников» употреблены не в фигуральном смысле. Освенцим и другие лагеря были настоящим невольничьим рынком. Представитель фирмы сам отбирал заключенных, интересуясь их специальностью и мускулатурой. Фирма платила лагерю 4 марки за рабочий день квалифицированного работника и 3 марки за неквалифицированного. Расходы фирмы на содержание узника составляли 30 пфеннигов в день. Из одного сохранившегося счета видно, что Освенцимский лагерь получил за семимесячный труд заключенных около 13 миллионов марок. Сделка считалась выгодной и для продавца, и для покупателя.
Кто же был покупателем? Самым крупным — химическая империя «ИГ Фарбениндустри», обладавшая многочисленными шахтами и заводами. Один из них, принадлежавший дочернему предприятию концерна, фирме «Регеш», производил циклон Б — препарат синильной кислоты. По сохранившимся счетам фирмы видно, что чистая прибыль от производства этого яда в 1941 году составила около 46 миллионов марок, а в 1943 году выросла до 128 миллионов марок! Циклон Б употреблялся для умерщвления заключенных в газовых камерах. Вырабатывался он руками заключенных. Садизм? Коммерция!
Кроме концерна «ИГ Фарбениндустри» белых рабов у эсэсовцев покупали и другие фирмы: Крупп, Сименс, «Герман Геринг Верке», граф Балленстрем, «Унион», князь фон Плесе, «Дейче Эрд унд Штайн Верке» («ДЕС»), «Дейче Аусгюстунгсверке» («ДАВ») и другие.
Фирма «Байер» покупала узников для производства над ними медицинских опытов. Сохранилась деловая переписка фирмы с комендантом Освенцима. Вот извлечения из нее:
«Мы были бы Вам благодарны, если бы Вы в связи с предположенными опытами для испытания нашего нового снотворного средства предоставили нам определенное количество женщин».
«Мы получили Ваш ответ. Цена 200 марок за одну женщину кажется нам, однако, высокой. Мы предлагаем не свыше 170 марок за голову. Нам нужно приблизительно 150 женщин».
«Опыты закончены. Все женщины умерли. Вскоре мы снесемся с Вами относительно новой доставки».
Эта чудовищная переписка найдена в делах Освенцимского лагеря и приведена профессором доктором Я. Ольбрихтом в № 3 журнала «Пшеглёнд Лекарски» за 1946 год, на странице 3-й.
Фирма «Алекс Цинк» (заводы по переработке волос в Баварии и Силезии) приобретала у лагерей женские волосы. Фирма платила 50 пфеннигов за кило. Было куплено, таким образом, 140 тонн. Последние семь тонн фирма не успела вывезти, и часть их экспонируется в Освенцимском музее, так же как приготовленные из них фирмой циновки, маты, портняжный волос и другие изделия.
Фирма «Штрем» покупала в Освенциме молотые человеческие кости для промышленной переработки. Из найденных в лагере документов видно, что фирме было выслано свыше ста тонн костной массы.
Драгоценности и валюту, отнятые у заключенных, продавали в Швейцарию. Швейцарский рынок был в годы войны завален ювелирными изделиями.
Часы продавали эсэсовцам и армии. Одежду и белье — фольксдейчу и предателям.
Но не довольно ли этих потрясающих сведений? Не ясно ли, что Освенцим, как и другие фашистские концлагеря, был колоссальным коммерческим предприятием по продаже людей, их вещей и даже их останков! О размахе этого предприятия можно судить по тому, что одних только поляков в гитлеровских лагерях и тюрьмах погибло около пяти миллионов.
Мы покинули Освенцим. Мы решили пойти до станции пешком: хотелось развеять тягостные впечатления. Мы шагали по булыжному шоссе среди болотистых равнин Освенцима. Вечерело. Над сырыми низинами подымались пары. Нас обгоняли автобусы, уже зажигавшие огни. Мы шли молча, говорить не хотелось.
Первым прервал молчание мой спутник, человек общительный, веселый. Ни мрачные картины Освенцима, ни жизненные испытания не могли затмить его радостного духа.
— Вы удовлетворены? — спросил он.
— Да. Потому что я получил ответ на свой вопрос. Садизм, издевательства, бесчувственность — и это все было, конечно. Но это болотные цветы, которые порождает самый безнравственный из всех мотивов человеческого поведения, — выгода, нажива...
Немцы
Вдруг наступает момент, когда чувствуешь, что вдоволь насыщен знанием материала. Папки мои были полны записями бесед с героями событий, копиями уникальных документов, выписками из судебных отчетов. Я исходил места боев. Осмотрел самодельное оружие повстанцев. Там среди прочего был четырехствольный гранатомет, гранаты «филиппинки» и «сидолувки», станок, на котором тайно изготовляли автоматы на фабрике металлических кроватей.
Я проштудировал газеты варшавского восстания. Их выходило тогда не менее трех десятков, среди них несколько коммунистических. Дух и быт эпохи явственней всего встает из этой необыкновенной прессы. Просмотрел немецкие кинохроники тех дней. В моих руках побывали даже такие редкостные вещи, как письма и дневники немцев, сражавшихся с повстанцами.
Теперь я мог с полным правом сказать, что видел все о варшавском восстании, за исключением разве живых немцев, подавлявших его. Но судьбе, которая благоприятствовала мне в этой поездке, угодно было, чтобы я увидел и это.
Я пришел в Исторический музей города Варшавы. Конечно, и на нижних этажах есть интересные экспонаты, — к примеру, редчайшие портреты мазовецких князей или гончарная печь XVII века и многое другое. Но меня влекло наверх, в зал, посвященный борьбе с немецкими оккупантами.
Вот стенд, на котором лежит грудка денег. Этот экспонат напоминает об ослепительно смелой акции «Гураль»: 12 августа 1943 года, в 11 часов 17 минут утра, в центре Варшавы несколько подпольщиков отбили у немцев транспорт со 105 миллионами злотых. А вот документы, относящиеся к другой, не менее знаменитой акции — уничтожению начальника СС и полиции Варшавского округа, кровавого палача Кутшеры.
Я углубился в изучение развешанных здесь схем боев на улицах столицы.
В это время я услышал немецкую речь. Оглянулся. Это была группа туристов. Они молча и даже с каким-то торжественным видом рассматривали эти многочисленные свидетельства борьбы с их соотечественниками. Гид, пожилая женщина, бормотала объяснения, подбирая дипломатические выражения. Ни один вопрос не перебивал ее. Только высокий сутулый старик, опиравшийся на палку, качал головой, не то подтверждая слова гида, не то сокрушаясь.
Я подошел к интересовавшему меня стенду, вынул блокнот и карандаш и принялся срисовывать схему уличных боев в районе Старе-Мяста. Вдруг тихая немецкая речь прошелестела рядом со мной. Двое немцев разглядывали схему, и я услышал, как один из них прошептал:
— Я был здесь тогда...
А другой, ткнув пальцем в схему боев на Повислье, так же тихо сказал:
— А я здесь...
Признаюсь, с этого момента я больше смотрел на немцев, чем на экспонаты. Может быть, этот благообразный, с застывшей, ничего не выражающей улыбкой долбил отверстия для мин в жилых домах? А этот, рыжий, как пиво, с прямой спиной военного, подрывал памятник Шопену в Лазенковском парке? А этот высокий старик с палкой, рассудительно качающий головой, поливал огнеметом музей Барычков на Старе-Мясте?
Шумно шагая, эти живые экспонаты наконец покинули зал, сохраняя все тот же замороженный вид.
Работники музея подтвердили мне, что это туристы из Федеративной Германии.
Я увидел их еще раз. Они шли не торопясь по улицам Варшавы. По-прежнему лица их выражали бесстрастие, а кой у кого вежливый интерес. Но за этим нетрудно было различить удивление, с каким они посматривали по сторонам. Уж, кажется, в свое время потрудились на совесть, камня на камне не оставили от Варшавы, а глядите, что делается! Как будто их и не было тут...
Высокий старый немец шел несколько поодаль, тяжело опираясь на палку. А рядом, оживленно беседуя, шла пани Янина Прох. Она окликнула меня и познакомила со своим спутником. Обменявшись несколькими незначащими фразами, Янина Прох и немец вернулись к разговору, прерванному моим появлением. Насколько я мог понять, немец жаловался на настороженное отношение поляков к его соотечественникам.
— Во-первых, для этого есть некоторые основания, — не без язвительности отвечала пани Янина. — А во-вторых, после войны один из первых голосов в защиту немцев раздался все-таки в Польше.
— Как так? — нахмурился немец.
— Я говорю о пьесе Леона Кручковского «Немцы». Вы согласны со мной?
Последний вопрос относился ко мне.
— Да, — сказал я. — Это был поступок бесстрашного и умного писателя.
— Тем более! — воскликнул немец. — А я вам скажу еще и другое. Мы были сегодня в Еврейском историческом музее. И видели там эти железные банки с архивом Рингельблюма. Слыхали о них?
— Ну как же! — сказала пани Янина. — Потрясающая вещь!
Я тоже видел эти ржавые банки, набитые мелко исписанной пожелтевшей бумагой. Их нашли под развалинами Варшавы. Доктор Рингельблюм в течение ряда лет вел ежедневные записи. Полнотой сведений, тщательностью описаний, обилием бытовых подробностей, да и просто интересными мыслями записки Рингельблюма превосходят известные дневники и Анны Франк и Давида Рубиновича. Когда один польский историк ознакомился с содержимым этих заржавленных банок, он воскликнул: «Это похоже на бутылку с тонущего корабля!»
— Уж кто-кто, а Рингельблюм не дал бы немцам спуску, верно? — продолжал старик. — А значит, тем более ценна его запись — помните? — о немце в городе Коньске, который плакал при виде страданий, причиняемых фашистами. И еще — о немецких рабочих в городе Старограде, которые тайком приносили продовольствие семействам, укрывавшимся от эсэсовцев. А? Помните? А разве не было в Освенциме немецких узников? Политических? Были! И они принимали участие в подпольной интернациональной организации вместе с французами, русскими, чехами, поляками. И погибали... Наконец, Янина, неужели вы забыли немцев, которые, рискуя своей жизнью, спасали польских подпольщиков? А, Янина?
— Я ничего не забыла, — сказала она тихо. Старый немец посмотрел на меня.
— Ваша страна, — сказал он, — бьется за мир. Важнее нет дела на земле. Я утверждаю, что со времени появления Христа не было в мире более сильного духовного движения, чем борьба за мир. В него включаются миллионы людей. И я молю бога, потому что я верующий, чтобы ваша страна не ослабила борьбы за мир.
— Ну, а у вас там... — начала пани Янина.
— А! — перебил ее старик, махнув рукой. — У нас! У нас, к вашему сведению, торгуют вовсю реваншизмом. Ходкий товар! Идет и оптом и в розницу... Ну, конечно, и мы кое-что делаем. Но трудно. Очень трудно. Там, в Восточной Германии, иначе. Им легче. И вам, полякам, легче. А мы... Но ничего, кое-что все-таки делаем. Ведь мы, старики, все помним. Молодежь... Есть и хорошая, конечно. Но она не чувствует ответственности за все, что было...
Он замолчал, усмехнулся и сказал просто, без всякого вызова:
— А все-таки я тоже не чувствую себя ответственным...
— И правильно, — сказала пани Янина серьезно.
— Правильно? — переспросил старик.— А вот Томас Манн, самый большой немец нашего века и самый большой враг фашизма, знаете что сказал? «Если ты родился немцем, — значит, ты волей-неволей связан с немецкой судьбой и немецкой виной». А вот я, — продолжал старик,— считаю, что не может быть у народа круговой поруки. Что ж, я не немец?
Он вдруг всполошился, заметив, что его спутники далеко ушли вперед.
— Ох, я оторвался от своих! — Он усмехнулся с горечью.— Это, видно, моя судьба: всю жизнь я отрываюсь от своих...
Янина взяла его под руку.
— Ну, — сказала она, — вы немец больше, чем все они, вместе взятые.
Слова эти поразили меня: где-то я их слышал уже. Но где?
Старик прощально махнул рукой и быстро зашагал вперед, стуча палкой. Я вдруг вспомнил.
— Так, значит, это он? — сказал я.
— Он, — подтвердила она. — Узнали? По моему рассказу?
— Вот только сейчас. Но как же он нашел вас? Он ведь и имени вашего, кажется, не знал?
— Не знал. Но найти меня оказалось не так уж трудно. Это во время войны мы все теряли. А сейчас время находок. Он помнил ту операцию, ее место, ее время. И через наш Союз борцов за свободу и демократию добрался до меня.
Снова в Варшаве
Когда из поездки по стране я вернулся в Варшаву, осень была в полном цвету. Иногда небо хмурилось, и тогда Дворец культуры вонзал свою иглу в тучи. Но большей частью было солнечно, и мы упивались очарованием варшавской осени.
Легкое небо, невдалеке голубеет Висла, на всех перекрестках горы яблок и груш. Их было так много и они были так дешевы, что на ночь их не убирали, и, шагая по ночной Варшаве, вы всюду видели эти никем не охраняемые желтые, коричневые, золотые холмы плодов, над которыми витал тонкий, чуть пряный запах.
И цветов было много. Любимые цветы варшавян — розы и гвоздики. Но в эти дни было больше всего астр и хризантем.
А в центре города, на улице 1-й Польской армии, как в дубраве, под ногами валялись желуди. Эта короткая широкая улица, обсаженная дубами, была бы прелестна, если бы не горькие мысли, которые она возбуждала. Здесь помещалось гестапо. Аллеей Шуха называлась раньше эта улица. Все дома здесь сохранились, потому что немцы уходили отсюда в последний момент и не успели ничего разрушить. В министерстве народного образования (оно и сейчас здесь) был застенок. Он превращен в музей фашистской жестокости и польских мук.
На Аллеях Уяздовских ветер гонит по тротуару лапчатые листья каштанов. В Лазенковском парке разлив красок, деревья в желтом, красном, багряном, алом, пурпурном, карминном, рубиновом цвету. Убор их еще пышен, но дорожки уже застланы палым листом; от него несет ароматным, чуть горьковатым запахом винного погреба. За прудом, глядясь в воду, белеет «рококошный» дворец короля Станислава-Августа Понятовского, восстановленный, как и все варшавские древности, с педантичной тщательностью. Единственное здание, которое здесь не разрушили, — это копия руин древнего храма в Баальбеке (Сирия). Гитлеровцы по своему невежеству сочли, что он уже разрушен.
Плывут по пруду раскормленные лебеди, в каштанах прыгают белки. Дети, с веселыми криками мелькающие меж деревьев, студенты, дремлющие над курсом лекций, стайки пенсионеров, азартно обсуждающих мировые дела,— все это в ласковой рамке осени выглядит необыкновенно мирно.
Так же мирно на Костюшковской набережной, по которой я, сделав солидный крюк, возвращаюсь к себе. Широко, покойно течет Висла. Против течения, посапывая, ползет белый колесный пароходик, точно выехавший прямо из повестей Марка Твена. Чайки косо скользят на распластанных крыльях. Шелестят каштаны. Чугунная Сирена, монументальная эмблема Варшавы, величественно озирает свой город. Все так безмятежно!
Но неусмиренное воображение выуживает из недр памяти другую Вислу. Лед. Пробоины от снарядов. Быки взорваных мостов. И мы на броне самоходки мчимся в варшавский хаос по какой-то гористой, извилистой улице. Может быть, по этой, по Лещинской, которую я сейчас медленно одолеваю? Потом по петлистой поэтической Каровой улице выхожу на Краковское предместье.
Иногда я уходил в Саксонский сад ловить уходящую осень. А она медлила, не хотела расставаться с Варшавой. Саксонский сад далеко не так цел, как Лазенки. Павильон над Могилой Неизвестного Солдата полуразрушен и намеренно не восстанавливается, ибо это разрушение — тоже памятник. Гитлеровцы вырубили здесь восемьдесят процентов деревьев. Решетки вокруг сада нет — той самой, на которую опирался когда-то Александр Блок. И потом писал в планах поэмы «Возмездие»:
«Я стою ночью у решетки Саксонского сада и слышу завывание ветра, звон шпор и храп коня. Скоро все сливается и вырастает в определенную мазурку. Над Варшавой порхают боевые звуки...»
Много боевых звуков слышала с тех пор Варшава. Но прошли годы, и снова выросли деревья в Саксонском саду, и мифологические богини снова глядят со своих пьедесталов на детей, играющих в войну у Могилы Неизвестного Солдата. Сюда привезена земля из всех стран, где поляки сражались с фашистами за свободу мира,— земля Тобрука и Нарвика, земля Ленино и Гвадалахары, земля Арнема и Пущи Кампиносской.
Могилы павших в бою с фашизмом разбросаны по всей Варшаве. Над ними огни, цветы, памятные доски. В назначенные дни здесь стоят в почетном карауле не только солдаты, но и юные пионеры. Так сызмала воспитывается уважение к старшим поколениям, положившим жизнь за свободу, за счастье родины. Это хороший обычай, он достоин подражания.
Ночью Варшава светла. В среднем житель Польши, так называемый «статистический поляк», потребляет сейчас в девять раз больше электроэнергии, чем до войны. Очень ярки газосветные уличные фонари. Много света прибавляют неоновые рекламы, хотя надо сказать, что иногда они впадают в безвкусицу, как, например, огромные бесформенные неоновые цветы над цветочным магазином на перекрестке улиц Круча и Аллеи Ерозолимские. В Катовицах рекламные огни гораздо изящнее и изобретательнее.
В Варшаве множество кафе. В редакции одного журнала я познакомился с литератором, который оказался великим знатоком варшавских кафе, а также баров, винных лавок и ресторанов. Он вызвался познакомить меня с этой стороной Варшавы. Он рассказывал о ней очень увлекательно, почти вдохновенно, с большим знанием дела, с экскурсами в область истории, даже с цитатами из классиков. Но мне не пришлось пройти по этому пути. Не потому, что я им пренебрегаю. Но я приехал в Польшу всего на один месяц, и более могущественные интересы владели моим временем. Поэтому я почти ничего не могу рассказать о варшавских кафе, барах, винных лавках и ресторанах.
Население Варшавы уже перевалило много за миллион. Быть может, для европейской столицы это не так уж много. И это меньше, чем жило в Варшаве до войны. Но какая еще европейская столица была сметена с лица земли? 835 тысяч жителей Варшавы были арестованы и вывезены в лагеря, тюрьмы и на принудительные работы. 165 тысяч варшавян были ранены в боях и изувечены в пытках. И 700 тысяч варшавян были убиты. По статистике Организации Объединенных Наций, из всего населения Варшавы в боях за город и в концлагерях погибло свыше 850 тысяч человек.
И вот этот опустошенный и уничтоженный город стал наполняться людьми в поразительных темпах. Утром 17 января Варшава была пуста. Через две недели здесь уже жило 174 тысячи человек. Через месяц — 241 тысяча. Через год —486 тысяч. Через четыре года — 605 тысяч.
Этот чудесно возрожденный город вызывает острый интерес во всем мире. В Варшаве всегда много иностранных туристов. А среди этих иностранцев немало поляков, живущих за границей. Любопытство и тоска влекут их на старую родину. Польское население за границей велико: в США живет около шести с половиной миллионов поляков, во Франции — около 750 тысяч, в Бразилии — около 400 тысяч, в Канаде — свыше 250 тысяч и т. д.
Мне как-то показали в Варшаве старого поляка, туриста из Америки. Это было возле площади Трех Крестов, у стоянки конных экипажей (их еще с десяток-другой наберется в Варшаве). Старый американский поляк уселся в высокий фаэтон с кожаным верхом и медными фонарями по бокам и заказал прокатить себя по улицам, восстановленным в староваршавском облике. Возница, такой же старый, как и пассажир, залихватски гикнул дребезжащим голосом, и ревматический одер поплелся по польской столице. Проезжая мимо разрушенных домов или, наоборот, мимо новых, бывший поляк зажмуривал глаза. Это было путешествие в прошлое. Извозчик был использован как машина времени.
Варшава растет, словно ее подкармливают пищей богов, как в романе Уэллса, то есть фантастично. Невозможно сомневаться, что Варшава будет прекрасна. Но уже и сейчас в этом городе, не достроенном еще как следует, не слепленном, с лицом переменчивым, в котором не все черты еще ясны, есть неотразимое очарование.
В чем оно?
Самое трудное (и в человеке тоже) — определить природу обаяния.
Все же я думаю, что в облике Варшавы нас привлекают и ее героическая история, и прелесть ее черепичных крыш, новостроек, дворцов и каштанов, и весь этот сплав гордости и горечи, отваги и юмора, упорства, изящества и революционного пыла, которые и есть судьба и нрав Варшавы.
1961
2. ВАРШАВСКАЯ СЮИТА
Тень на перекрестке
Рондо Вашингтона...
Когда я впервые услышал эти слова, я подумал, что это название танца, старинного, медлительного, церемонного танца, вроде менуэта или полонеза.
Но вот я стою на Рондо Вашингтона. Автомобили мчатся по нему сияющей лакированной каруселью и разлетаются по прямым в четыре стороны.
Я опираюсь о стену дома и смотрю на Рондо Вашингтона, смотрю не отрываясь.
Быть может, ни один город в мире не вызывает столько воспоминаний, как Варшава.
Да, этот город весь выстроен заново, перенаселен тенями прошлого.
Тени бродят меж этих новых, с иголочки, домов, тени хватают за руку, тени шепчут: «Ты помнишь?.. Ты помнишь?..»
И здесь, на Рондо Вашингтона, тоже мелькнула тень. Где она?
Он сильно изменился с тех пор, этот перекресток.
Я перехожу на другую сторону, я всматриваюсь, я хочу среди этой новизны воскресить в памяти ломаные, обрывистые черты сорок четвертого года.
Где же тогда стоял тот человек? Где он стоял в своей драной синей рубахе, с изможденным лицом?
По-моему, там, возле регулировщика, где сейчас аккуратные желтые стрелы указывают автомобилям направление в разные концы страны.
Я иду туда. Но свисток регулировщика останавливает меня.
Он делает мне знак, чтобы я подождал его. Понятно: он должен оштрафовать меня. Жду.
Прохожие удивленно косятся на меня: почему я не скрываюсь? Между прочим, и сам милиционер ничего не имеет против этого. Ему тоже не с руки покинуть пост, чтобы содрать с меня злотый и пробубнить мне наскучившее ему самому назидание.
Но я стойко жду его.
В глазах прохожих насмешливое сожаление.
Они не знают, что я не скрываюсь вовсе не потому, что я такой уж законопослушный. А потому, что регулировщик нужен мне самому.
В ожидании его я рассматриваю надписи на желтых указателях:
«На Краков», «На Щецин», «На Гданьск».
Странное чувство овладевает мной.
Разве можно представить себе, что в Москве на перекрестках стоят указатели с надписями: «На Ереван», «На Душанбе», «На Владивосток»?
Странное чувство... В России его не испытываешь. Его можно назвать: чувство стены. В России стены так далеко, что их не ощущаешь. Дух безграничности, иногда даже — вселенности. А здесь — стены рядом, как в небольшой комнате. Чувство камерности. И так во всей Европе. Только в портах это чувство пропадает.
Милиционер передо мной. Он хмуро оглядывает меня. Но когда я объясняю ему, зачем я здесь, он берет меня под руку и, к удивлению прохожих, с величайшей почтительностью ведет меня по мостовой.
Он подымает руку, свистит, и вся блестящая лакированная карусель застывает, как на порванной киноленте.
Он ставит меня рядом с собой.
Да, это было здесь!Тот старик в синей рубахе стоял там, где сейчас стою я.
А мимо него мчались грузовики с бойцами, самоходки, танкетки, комсоставские «эмки», броневики, полевые кухни, амфибии, бронетранспортеры, катюши.
Старик подымал руку. Повелительным жестом он останавливал машины и кричал уже охрипшим голосом:
— Кругом! Здесь мины!
Машины замедляли ход и медленно объезжали эти места одна за другой по кругу, вроде как эти щегольские автомобили, что сейчас кружатся на Рондо Вашингтона.
Кто он был, этот старый человек с изможденным лицом? Не знаю. Может быть, следовало тогда остановиться, пожать ему руку, обнять его, может быть накормить его?
Но нас влекла сила великого наступления. И мы мчались вперед и через мгновенье забывали о старом поляке в драной рубахе, который охранил нас от смерти.
В гостях у короля
Старый пан в каскетке сразу распознал во мне иностранца.
Это случилось со мной впервые, и я огорчился.
Я нахожу свою гордость в том, чтобы сливаться с толпой. Я такой, как все. Я средний, я рядовой, я неотличим от других.
Когда поляки останавливают меня на улице и спрашивают, как пройти к универмагу «Цедет» или где костел Свентего Кшижа, я испытываю глубокое удовлетворение.
А этот подслеповатый пан в старопольской каскетке разоблачил меня с первого взгляда.
И все это потому, что я уставился на короля Зыгмунта.
Ну какой же, спрошу вас, варшавянин станет глазеть на Зыгмунта, который стоит здесь лет триста? Памятники ставят для приезжих.
Он стоит на высоченной колонне, этот король-задира, с мечом и крестом. Он стоит на своей верхотуре, слегка раскорячив ноги, в воинственной позе рубаки. И кажется, что он прыгнул сюда прямо из XVII века...
— Из семнадцатого? — переспрашивает старик. — Он прыгнул сюда, проше пана, из тысяча девятьсот сорок девятого года. Идемте, я вам что-то покажу.
Мы сходим по лестнице под костелом святой Анны, пересекаем мостовую трассы Восток — Запад, выползающую дугой из-под Замковой площади, и останавливаемся у развалин Королевского замка — последних развалин Варшавы. Облагороженные, словно отутюженные, почти отлакированные, они сейчас приобрели вид почтенных руин древности, хотя все знают, что Замок разрушен гитлеровскими варварами.
И тут старый пан показывает мне колонну Зыгмунта, ту, настоящую, из XVII века.
Она разбита, и куски ее лежат, как туши убитых животных.
— Гитлер рубал памятники, как людей, — говорит старик. — В Варшаве он не оставил ни одного памятника. Только круля Яна Собесского забыл чи не успел.
Я вспоминаю о Копернике, который сидит перед Академией наук, осыпанный снегом, с прозрачной сферой в руке.
Старик отмахнулся:
— То реставрация.
— А Шопен в Лазенках? — восклицаю я в последней надежде.
— Копия, — безжалостно говорит старик. — И Мицкевич тоже.
Наверх мы подымаемся не по лестнице, а эскалатором.
У входа играет на скрипке седой инвалид. Подле единственной ноги его лежит шапка. Прохожие бросают в нее монеты.
Когда мы проходим, он подымает на нас глаза, и я вижу его взгляд, усталый взгляд руины, которой уже не восстановишь.
Человек с топором
Я стою у окна и вижу огромную площадь. Она темна, пустынна.
Только на дальнем краю нестерпимо оранжевым блеском горит Могила Неизвестного Солдата. Мерзлая крупа звенит о стекло. Вороны, каркая, носятся над площадью. Варшава кажется вымершей в эту рождественскую ночь.
И грусть, необъяснимая грусть вдруг сжимает мне сердце.
Давно собирался я пойти на улицу Фредро, чтобы оживить одно воспоминание. Да все времени не находилось, хоть и живу-то я в двух шагах от нее, только площадь перейти.
Но при мысли, что мне придется долго шагать сквозь эту унылую пустыню в неживом оранжевом зареве, мне делается еще грустнее.
Я сбрасываю пальто, сажусь в кресло и беру книгу.
Это история варшавских улиц Станислава Лозы. Я погружаюсь в повесть о несуществующих костелах, умерших архитекторах, исчезнувших домах.
Дома на улице Фредро в книге нет. Но я знаю, он там стоит. Я видел его собственными глазами. Правда, это было двадцать лет назад. Но с тех пор дома в Варшаве больше не исчезают, а, наоборот, только и делают, что появляются.
В книге Станислава Лозы только знаменитые дома, прославленные своими скульптурами, гербами, убийствами, ресторанами.
Ах, если бы почтенный пан Лоза видел в этом доме на улице Фредро то, что видел там я, он бы немедленно включил его в свою книгу.
Вдруг я почувствовал, даже не глядя на улицу, что; там что-то произошло. Какое-то движение света. Как бы смещение пространств. Словно бы что-то вторглось в объем мира.
Я подхожу к окну.
Снег пошел!
Валит, валит! Пухлый, звездастый, веселый. Он все переменил, сблизил, смягчил, сделал добродушным. Я надеваю пальто и выхожу.
Я сразу узнал этот дом. Да, это он, довоенный старомодный дом, один из немногих уцелевших в Варшаве. Немцы не разбомбили его в тридцать девятом, не подорвали в сорок четвертом, не сожгли в сорок пятом. Ему повезло. Он стоит передо мной такой же, как 17 января сорок пятого года, когда мы освободили Варшаву.
Вот тогда я увидел его впервые. Мы с Савельевым, длинноногим капитаном из армейского разведотдела, бродили по гигантскому кирпичному крошеву Варшавы.
(Так вот почему мне стало грустно, когда я прежде смотрел из своего окна на пустынную площадь: она напомнила мне ту Варшаву, пустынную, безмолвную.)
Пробираясь среди развалин, мы с Савельевым вдруг услышали тихое пение. Оно доносилось из дома по улице Фредро, одиноко возвышавшегося меж руин.
Мы заглянули во двор. Посреди его стояла небольшая кучка людей. Они сгрудились вокруг самодельного алтаря, сооруженного из ящиков. На алтаре высилась позолоченная статуя Мадонны с облупленными боками.
Худенький подросток что-то быстро бормотал ломающимся, мальчишеским баском. Остальные нараспев повторяли за ним.
Я прислушался:
— Salvi sumus per heroici bellatores armorum ruforum...
Савельев толкнул меня в бок:
— Что они там верещат?
— Дорогой мой, на своей варварской латыни они возносят молитвы во здравие доблестных бойцов Рабоче-крестьянской Красной Армии.
В это время во двор вбежал старик. В руках у него был топор.
— Вон отсюда, лайдаки! — закричал он, свирепо гримасничая лицом, утыканным седой щетиной.
Люди нехотя поплелись со двора. Мы пошли за ними.
Старик развалил алтарь, поставил ящики поперек ворот и сам стал за ними, как за баррикадой.
Люди стояли за воротами и в угрюмом молчании смотрели на старика.
А он вращал топором над головой и кричал:
— Не пущу! Убью!
Я спросил у мальчика:
— Чего это он?
— Домовладелец, — нехотя ответил он.
Такой эта картина и отгравировалась в моей памяти: посреди развалин Варшавы — кучка бездомных людей и против них собственник с искаженным от ярости и страха лицом и со сверкающим топором в занесенной руке...
И вот через двадцать лет я снова вижу этот дом.
Светятся окна, видны елки, поблескивающие свечами. Доносится музыка, нежно смягченная пространством. Видны тени танцующих.
Иногда чья-то рука отодвигает гардины, и к стеклу прижимается разгоряченное и счастливое девичье лицо.
Я бросаю последний взгляд на оживший старый дом и иду обратно.
Теперь эта площадь не кажется мне такой унылой. Снег ласково ложится на мое лицо. Я останавливаюсь перед Могилой Неизвестного Солдата.
На стенах над вечным огнем развешаны доски. На них выбиты слова: Тобрук, Нарвик, Монте Кассино, Арнем, Ленино — все места, где поляки сражались, проливали кровь и побеждали Старика с Топором.
Скамья под каштанами
Небо сегодня очень низкое. На шпиле Дворца культуры висит взъерошенная, сердитая туча. Вот-вот бросится на прохожих.
Я дышу сыростью и бензиновым чадом.
Временами небо светлеет то здесь, то там. Кажется, то солнце мечется позади толстого занавеса и делает отчаянные попытки прострелить его.
В поисках кислорода я направляюсь в Лазенковский парк.
Вот моя любимая скамья под каштаном. Там кто-то сидит. Ну и пускай.
Совсем молодой парнишка.
Я сажусь рядом. Между нами полметра и полвека. Я разворачиваю «Правду».
— Прошу простить, — говорит он, — хотелось бы узнать, там у вас ребята увлекаются танцами, например твистом, роком, леткиссом? Или, наоборот, против?
— Как кто, — отвечаю я кратко.
Смутное воспоминание зашевелилось во мне. Я прикрываю глаза, силюсь настигнуть его. Есть!
«Собачья радость»!
Так комсомольцы двадцатых годов в целомудренном презрении своем называли галстук. В клубах, в газетах шли бои: пристойно ли идейному парню носить «собачью радость»?
— Вы варшавянин? — спрашиваю.
— Я крестьянин.
Он говорит это с некоторой гордостью.
Он белокурый, чубатый. Из его любопытных глаз и напряженной улыбки еще не выпарилось детство. Средний палец правой руки по-школьнически замаран чернилами. Даже если он женат, все равно ему еще снится, что он летает. Он из той половины польского народа, которой нет девятнадцати лет. Да, их уже набралось не меньше половины, черт побери! Интересно, из каких он ребят? Из тех, кто на привязи у своей плоти? Или из тех, кто прислушивается к зовам души?
Он одет со старательной небрежностью — мятые брюки, голая шея, грубый свитер, точно вывязанный из толстых веревок. На коленях — раскрытая тетрадь, вся исполосованная чертежиками и формулами.
— Я крестьянин, — повторил он. — Деревня наша называется Могила.
С каштана спрыгнула белка. Она садится на краю скамьи. Я протягиваю ей сухарик. Я захватил его, зная, что в Лазенковском парке водятся непуганые белки. Зверек берет его двумя лапками, почти человеческим жестом. И исчезает.
— Деревня Могила... — говорю я. — Помню такую в Новой Хуте.
— Вот я как раз оттуда...
Он замолчал. Потом с рассеянной вежливостью, явно думая о другом:
— Вам нравится здесь?
Это совсем не то, о чем он хочет спросить меня. Невысказанный вопрос застыл на его губах. Но я не тороплю его. Пусть дозревает. Спрашиваю:
— А тот большой деревянный крест по-прежнему стоит в Новой Хуте?
Он расширил глаза:
— Вы были там? Вы видели?
— Да, — говорю.
Пока он переживает свое удивление, я погружаюсь в спокойствие Лазенковского парка.
Над прудом сияет дворец веселого короля Станислава-Августа Понятовского. Величественно, как царедворцы по паркету, скользят лебеди, изогнув вельможные шеи и пряча плебейские лапы.
— Вы были там именно в тот день? Это все еще не тот вопрос.
— Нет, — говорю, — я был позже. А вы?
— А я...
Он глянул на меня, и я увидел, что все его юное, чубатое, нетерпеливое, ясноглазое, восторженное существо преисполняется доверием ко мне.
— Вся наша семья пошла строить Нову Хуту. Мы бросили нашу старую избу в Могиле. Нам дали квартиру. Ну! Блеск! В соцгороде. В поселке Шклянэ Домы, может, знаете? А мы — как в избу. С картошкой, с поросенком. Я был тогда совсем хлопчик. Помню, отец вырубил в коридоре дыру в полу и заквасил там капусту. Поросенка поместили в холодный шкафчик под окном. Кур — в комнате, на насестах. Сами спали в кухне. Картошку — в ванну и понесли на рынок. Будете смеяться, но в ту пору в Новой Хуте на рынке меры установились: четверть ванны картошки, полванны картошки. По воскресеньям бегали в Могилу, в наш старенький деревянный костел, которому уже наверно лет четыреста. Но вот на открытие комбината прикатил из самой Варшавы один серьезный товарищ. Банкет нам, строителям, закатил. Речь сказал. Ох, речь! Блеск! Про новые цехи, про домны. А некоторым даже послышалось, что в Новой Хуте костел построят. Или это у них после угощенья в ушах зазвенело? Только они сразу побежали и на том участке вбили высокий деревянный крест, что вы видели. И правда, скоро навезли туда материалу и начали строить. Только — что? Костел? Да нет, школу...
— Я видел школу. Красивая школа.
— Красивая-то красивая. Но что дальше было! Да вы, может, знаете?
— Все равно расскажите.
Я знаю наперед, что он мне расскажет. Но я чувствую, что это только переход к чему-то другому, гораздо более важному, сокровенному.
— Ну, что... Люди разволновались. Пошли толпой к раде. Давай костел! Полетели стекла. Стали рвать всякие там ихние бумаги...
Тут я прервал его:
— Слушайте, я ведь знаю, что вы там рвали.
— Я не рвал!
Мимо нас пробегает ватага детей. Они весело кричат. И мелодия польской речи с ее звонами и пришепетываниями в их устах поразительно похожа на птичий щебет.
— Ну, не вы, ну, другие. А ведь главное, — что рвали? Рвали списки налоговых обложений на частных торговцев.
— Ах, вы, значит, знаете? Да, это так. Они шли впереди и орали. А наши перли за ними. Они городские, бойкие. А мы из Могилы... Что мы тогда знали? Пахать да сеять...
— А сейчас?
— Не узнаете! Нет, нет, не узнаете нас! Возьмите хоть отца моего. Он в кузнечном цехе работает. У него совсем другие понятия стали. Передовик производства, ну, блеск!
— А капуста в полу? И картошка в ванне?
— Что вы! Смеется, когда вспоминает об этой дикости.
— А в костел в Могилу ходит? Юноша вздохнул.
— Ходит. Только не в Могилу. В Краков. За восемь километров. В Марьяцкий собор.
Он поколебался немного, потом сказал робко:
— А можно, я вас спрошу о чем-то?
Наконец-то!
— Давайте.
Он задумывается на мгновенье, потом начинает, запинаясь, подыскивая слова:
— Вот почему это так? У нас каждый парень и каждая девушка может стать кем захочет. Захочет — ученым, захочет — инженером, летчиком или артистом. Кем захочет. И становятся. Я, например, к математике имею тягу. Но не все же так!.. Вот в чем проклятье! Смотришь, тот сделался официантом. Тот — монахом. Кто заводит себе лавочку. Кто просто идет в воры. В чем же тут дело? Вот у вас социализм уже пятьдесят лет или более. На каком году ребята перестали влипать в болото?
Он смотрит на меня не отрываясь. Смотрит с полной верой в то, что я разрешу его юную муку. И я должен это сделать, я, старший брат, русский брат, пример для мира, первенец социализма...
И я говорю:
— Много лет назад, в начале нашей революции, Ленин сказал, что мы строим новое общество, стоя по колено в грязи старого. Он сказал это давно. Теперь мы уже не по колено. Но где-то там на подошвах грязь еще лепится к нам.
— А мы? Нет, мы уже тоже не по колено. Но еще по щиколотку, да?
Он напряженно подался вперед, ожидая ответа.
Глядя на него, я вдруг увидел далекое прошлое, буденновские шлемы, и веру в мировую революцию, и сечу на Перекопе, и наше святое нетерпение, и песню «Каховка», и молодежные коммуны, и я сказал:
— Это вы сами должны сделать, чтобы благородство, красота, честь пришли ко всем. И они придут ко всем!
— Когда? — почти кричит он.
— Терпение, терпение!
— Терпение... — повторяет он задумчиво. — А где его берут? Где вы, русские, раздобыли столько терпения?..
Солнце наконец пробило бетоны туч. Я вижу, как в зарослях парка, в путанице ветвей и трав, встает светящаяся пирамида. Я вижу самую плоть света, дрожащую, блещущую. Он движется к нам. И вскоре нас обоих опутывает сверкающая суматоха фотонов.
Ночь под Рождество
Снег и колокольный звон плывут над Варшавой.
Сегодня, в ночь под Рождество, все здесь закрывается рано — магазины, кафе, министерства, газетные киоски, музеи, молочные бары, кладбища, библиотеки, бани.
Я захожу в лавку, чтобы купить колбасы и хлеба.
Небольшая очередь.
Продавщица, немолодая женщина, нервничает. Она спешит. Она работает бросками. Бросок на весы. Бросок на стойку, покупателю.
В очереди ропот:
— Почему не заворачиваете?
— Да? — говорит продавщица. — А кто за меня пойдет в костел? Вы?
— Я пойду за себя, — отвечает рослая старуха в кожаной куртке.
— Да? А может, вы и петь будете в хоре? Может, у вас лирическое сопрано?
Это производит впечатление. Ропот стихает.
Я с трепетом жду своей очереди. У меня тоже нет лирического сопрано, а кроме того, руки мои и так полны свертков.
Она швыряет мне колбасу и хлеб.
Я робко прошу увязать все мои свертки в один пакет.
Она смотрит на меня с негодованием.
Я смиренно жду.
И все-таки в конце концов в ней побеждает чувство долга, вложенное в нее богом и социалистическим строем. Она подает мне аккуратный пакет. И даже улыбается, улыбка служебная, автоматическая. Но все же улыбка. Я выхожу на улицу.
Снег и колокольный звон плывут над Варшавой.
Обеденный перерыв
Это самый центр города. Здесь всегда было людно и шумно. Толпы прохожих, грохот трамваев, рев моторов.
А сейчас стало еще шумнее. Прибавился гул огромной стройки: какие-то металлические звоны, гуденье подъемных кранов, скрежет самосвалов, визги, стуки, уханья, даже маленькие взрывы.
Словом, как раз то, что мне нужно.
Я сажусь на скамью, спиной к Дворцу культуры, лицом к стройке.
Как хорошо отдыхается среди этого воя!
В тишине никогда так не отдохнешь.
В тишине приходят мысли. Они томят, упрекают, зовут, льстят, дурманят.
А этот могучий шум успокаивает. Я погружаюсь в грохочущее небытие.
Несколько высоченных домов вырастают передо мной. Сейчас такие дома называют холодным техническим словом: высотные здания. Раньше они назывались картинней: небоскребы.
Я среди племени великанов. Сзади гигант — Дворец культуры. Впереди встает семья небоскребов.
Еще недавно здесь были руины войны. И в их щелях лавчонки, бараки, ларьки, дощатые сараи, будки — клоповник большого города. Это называлось «одноэтажная Маршалковская».
Я присутствую при ее конце.
То, что я вижу сейчас, я видел несколько лет назад в макете. Он умещался на столе.
И вот этот макетный зародыш на моих глазах превращается в стройные, рослые дома, похожие на обнаженных атлетов.
Нет, это еще не дома. Пока это только еще геометрия. Кубы, сферы, параллелепипеды. Ребра, сухожилья. Они похожи на рисунки в анатомическом атласе: мускулатура человека.
Но скоро все это заблистает огнями. Стекла отразят небо, птиц, закаты. Здесь будут магазины, кинотеатры, квартиры, рестораны, гаражи, гостиница, пассажи, бары, тоннель и, конечно, кафе.
Вдруг шум стихает.
Нет, он не прекратился. По-прежнему грохочут трамваи, шаркают тысячи ног, визжат автомобильные тормоза.
Но шум сократился, сжался.
Замолчала стройка. Ее уханья, скрежеты, звоны вынуты из уличного шума.
Я смотрю на часы. Понятно: обеденный перерыв.
Из-под лесов стройки выходят рабочие. Они идут гурьбой в своих комбинезонах и касках. Потом рассеиваются по улице. Некоторые подходят к пивному киоску, другие вскакивают в трамвай, третьи усаживаются на ступенях Дворца культуры и разворачивают свертки со снедью.
Есть что-то неуловимо общее в них — молодых и старых, бодрых и усталых, веселых и задумчивых, штукатурах и слесарях, крановщиках и водопроводчиках, каменщиках и верхолазах. Нет, не в наружности, а в повадках, в ритме самочувствия какая-то непринужденность и вольность, какое-то уверенное, хозяйское спокойствие.
1964

В ТЕ ДНИ НА ФРОНТЕ
Одиннадцатого октября 1943 года оперативная сводка Совинформбюро сообщала:
«На Гомельском направлении наши войска на левом берегу реки Сож овладели железнодорожным узлом и пригородом города Гомель — Ново-Белица»...
В те дни я был в частях, наступавших на Гомельском направлении. Я видел героические дела наших бойцов, жестокое варварство захватчиков, радость освобождаемой Белоруссии. Обо всем этом я писал в своих корреспонденциях с фронта. Сейчас они передо мной. Листая пожелтевшие газетные страницы и свои сохранившиеся фронтовые блокноты, я извлекаю из них некоторые подробности тех незабываемых дней.
Иная мелочь красноречивее многотомной книги.
В одной белорусской деревне, накануне освобожденной от немцев, я зашел в хату колхозницы Натальи Ивановны Вислобоковой. Старая крестьянка развешивала по стенам праздничные рушники и портрет Ленина, порядком отсыревший от долгого лежания в земле.
Посреди хаты, на полу, стояла кадка с тестом.
И, глядя на это тесто, я вдруг вспомнил другую хату, другую колхозницу и другое тесто. Это было в августе 1941 года. Гитлеровские полчища, еще не узнавшие поражений, катились с запада на восток. Мы отходили. Фашистский грабительский азарт был тогда нам в новинку. Колхозница, бежавшая из-под Кингисеппа, рассказывала мне в те невеселые дни:
— Удивляюсь я на тех немцев. Замесила я, знаете ли, себе тесто для хлеба. Так они то тесто взяли, да сцапали к себе в мешок. Ей-богу, последний вор побрезговал бы. Сырое ж тесто, а? Да еще ржали: испечем, мол, в Ленинграде...
...Наталья Ивановна Вислобокова, увидев, что я смотрю на тесто, усмехнулась и сказала:
— Немецкое. Замесить замесили, а испечь не успели — драпанули. Да как быстро!
Она подумала и прибавила:
— Переменился фриц. Раньше веселый ходил. А в последнее время понурился. Нудьга его взяла.
Верное наблюдение! На всем пути великого наступления наших войск, освобождавших Белоруссию летом 1943 года, не раз убеждался я, что гитлеровец не тот, что прежде. «Нудьга его взяла». Сознание немца потрясено. За катастрофой гитлеровцев под Сталинградом последовало новое поражение в грандиозной битве, начавшейся на белорусской земле.
В дни войны все более мы убеждались, что немецкий солдат в массе своей — политически темный человек. Фашистские газеты запускали аршинные заголовки: «Каждый немецкий солдат делает внешнюю политику». Но немецкий солдат был плохо осведомлен о внешней политике.
Я слышал показания Вернера Веке, оберфельдфебеля 4-й бомбардировочной эскадры воздушного флота. Он сказал:
— Только десятого сентября я узнал, что Италия уже не на стороне Германии и что там путч, против которого Германия принимает меры.
Правда, о событиях на Восточном фронте фашистский солдат был осведомлен несравненно лучше. Здесь у него другая информация. Информация русского оружия.
И гитлеровец начал — покуда еще потихоньку — подвывать. Под Гомелем в покинутой немецкой казарме я прочел лозунг, начертанный на стене, казенный символ веры немецкого солдата:
«Glauben, kämpfen, gehorchen!»
То есть: «Верить, сражаться, повиноваться!»
Это написано на стене. А вот что написано в письме, найденном на одном из бесчисленных немецких трупов, валявшихся на поле гигантской битвы:
«...Мы были на передовой линии. Русские прорвали фронт протяжением в 40 километров. Такого ужаса я еще никогда в жизни не видел. Я думал, что наступил конец света. Чувствуешь себя счастливым, что выбрался с целыми костями... Мне хочется надеяться, что я больше в такое дерьмо не попаду... Что они еще хотят от наших старых костей?.. Только что фельдфебель объявил, что мы должны сниматься с этого места. Если бы — вон из России!..»
С письмом в руках стоял я над мертвым немцем, который лежал, жалко подогнув ноги, на чуждой ему земле. Когда-то он «верил, сражался, повиновался». Под русскими снарядами вера его превратилась в скептицизм, воинственный порыв — в страх перед русскими, послушание — в ропот, а сам он — в прах. Я смотрю на его обугленное лицо и думаю: почему он не отправил это письмо? И мне кажется, что, хотя письмо обращено к его жене Фриде, он и не думал его отправлять. Эти настроения не имели шанса пройти сквозь военную цензуру. Ими не решишься поделиться даже с товарищами по роте, в которую, как во всякую немецкую роту, были обильно вкраплены гим-млеровские шпики. Для человека с обугленным лицом это неотправленное письмо было просто способом излить накипевшие чувства. Письмо к самому себе.
И все же страшная правда о беспримерном поражении немцев летом 1943 года просочилась в тыл, в Германию.
У другого немецкого солдата, Георга Шоллгена (полевая почта 21011-Д), обнаружено письмо от его жены.
«Мой любимый муж! — пишет она. — Теперь по радио постоянно слышишь о тяжелой битве на вашем фронте. Я так беспокоюсь за тебя!.. Мой дорогой муж, мы живем в тяжелое время... А тут еще итальянцы откалывают такие штучки. В самый тяжелый момент они сдрейфили. Положим, я им никогда особенно не доверяла... Что еще будет?..»
Вместо ответа Руфь Шоллген предстояло получить от штаба части красивенькую бумажку, какие обычно получали с фронта немецкие вдовы, с изображением плана далекой русской равнины, на котором крестом отмечена могила ее мужа, и описание его мифического подвига. И никогда, должно быть, немецкая женщина не узнала, что ее муж среди сотен других немецких мужей валяется на краю мокрого глинистого оврага по дороге на Гомель.
Много я перечитал этих писем, и все чаще попадалось в них зловещее для фашистов слово «Сталинград».
Взятый в плен обер-ефрейтор велосипедной роты 445-го пехотного полка 134-й пехотной дивизии, человек с фамилией, звучащей кощунственно, когда смотришь на его нагловатое лицо, — Теодор Энгельс, — сказал на допросе:
— Мы отступаем, боясь нового Сталинграда...
Кошмар Сталинграда мучил немцев, пока они пятились к Десне. Западный берег Десны представлялся им обетованной землей, защищенной «восточным валом».
— В первой половине сентября среди офицеров только и разговоров, что о Десне: за Десной мы остановимся, за Десной наша главная оборонительная линия, за Десной мы проведем зиму 1943—1944 годов...
Так говорил пленный Вилли Шут, высокий жилистый вахмистр из 253-го артиллерийского полка, старый вояка, проделавший бельгийскую, голландскую и французскую кампании.
И вот они за Десной. Не успели почиститься, перезарядить обоймы, обмыть кровь, как командир дивизии генерал-лейтенант Беккер огласил приказ:
«Русские прорвали фронт. Наша оборонительная линия в районе реки Десна не совсем готова к обороне. Приказываю отходить в направлении к городу Гомель».
От русских невозможно оторваться! Ни минные поля, ни лесные завалы, ни беспрерывные контратаки не останавливали наших бойцов. В эти дни часто вспоминались слова Суворова: «Делай на войне то, что противник почитает за невозможное».
С неизъяснимым чувством оглядываешь путь немецкого драпа. Никакие разрушения не смогли замедлить нашего хода на Запад. Взамен взорванных мостов мгновенно из-под волшебных топоров саперов вырастали новые. Взамен поваленных телеграфных столбов как из-под земли вставали другие, еще пахнущие свежестью только что срубленного дерева. Дорога, взрытая воронками, временно уходит в сторону и вновь упрямо возвращается на свое место курсом на запад. Для разрушения железнодорожных путей гитлеровцы изобрели специальное приспособление: паровоз волочит за собой струг, который сдавливает рельсы и превращает их в стальной клубок. А через день, глядишь, по ровным путям грохочут советские паровозы.
Овраги завалены немецкими трупами. В деревне Ровны Марфа Аникеевна Соловьева сказала:
— Это далеко не все. Мы видели, как немцы увозили много своих покойников на машинах.
Мы идем по деревенской улице, ступая по втоптанным в грязь немецким листовкам, таким глупым, что они давно перестали вызывать в населении даже любопытство. Немецкая пропаганда, лживая по содержанию, стоеросовая по форме, поражала своей поистине выдающейся тупостью. В минской газете, выпускавшейся оккупантами, я прочел объявление: «Брянская женская немецкая драматическая труппа дает здесь выездные гастроли».
Я спросил у старых брянских грузчиков, которые много рассказывали мне о жизни под немцем:
— А что за немецкая женская труппа у вас тут была? Наступило молчание. Потом один неохотно ответил:
— А, чепуха... Один раз пошли, больше не ходили.
— Что ж они показывали?
Снова пауза и снова неохотный ответ:
— Срамное показывали.
И больше от них ничего нельзя было добиться. Представляю себе это искусство, при воспоминании о котором краснеют старые грузчики.
Как всякий немецкий путь, и этот путь пролегает сквозь пепелища. Как ни огрубели нервы за время войны, сердце не может не тронуться зрелищем жалких куч мусора, дымящихся на месте деревень. Уничтожение всего живого и ценного входило в систему действий гитлеровской армии и имело свою разработанную технику.
Фронтовые дороги многолюдны. Народ возвращался в родные места, пусть разоренные, но все же родные. Идут с обеих сторон. С востока — из эвакуации — и с запада — те, кто были и угнаны немцами и бежали от них. Снова нахлынули воспоминания о 1941 годе. И тогда дороги были полны. Но тогда был исход. Ныне — возвращение.
В июле немцы начали угонять население, когда обозначилось их отступление. Я читал приказ, расклеенный по деревням и подписанный: «Главнокомандующий». Там написано на скверном русском языке:
«Будут сейчас мужчины и женщины из ваших деревень взяты на работы в Германию».
Угоняли целыми деревнями. Увидев голову потока возвращающихся, я подумал:
«Их сотни».
Через час:
«Тысячи...»
Еще через час:
«Десятки тысяч!»
За Унечей я потерял счет.
И потом стоило бросить взгляд за борт машины, чтобы увидеть нескончаемую ленту русских крестьян, идущих от немца домой. Впечатление было такое: Россия возвращается на место. Попробовал было фашист стронуть ее — не вышло. И, отшибленный советским колоссом, сам он побежал на тонких немецких ножках, дуя на синяки. И шагает молодежь, глядя восторженными глазами на встречные колонны Красной Армии, шагают женщины, кормя на ходу ребят, шагают бородачи, порой с дубьем в руке, а между ними малый с бегающими глазами — предатель.
Немцы угоняли население с большой поспешностью: «Шнель! Шнель!» — кричали они. Красная Армия надвигалась, шагая через Зушу, Оку, Десну, Беседь, Сож, приближаясь к Днепру. И это противное немецкое: «Шнель! Шнель!» — жужжало, как шмель, по всем деревням. Люди прятались в гумнах, в погребах. Но немцы отовсюду вытаскивали их.
В дороге гитлеровцы прикрывались нашими людьми. Свои отступающие колонны они располагали между колоннами угоняемых советских жителей. От многих в те дни я слышал рассказы о том, как наши летчики носились на бреющем полете над отступающими немцами и не стреляли в них, боясь попасть в русских людей, среди которых прятались немцы. И немцы не стреляли по самолетам, боясь озлобить их и вызвать ответный огонь.
Грабеж не прекращался и в дороге. Евдокия Васильевна Силаева из поселка Боброво, Хвастовичевского района, рассказывала:
— Немцы выгнали нас пятнадцатого августа, меня, старуху мать, сестру с четырьмя детьми и братишку Колю. Полтора месяца мы брели голодные, холодные. Взяли с собой лошадь, корову, овечку и телку. Думали, убережем. А немцы дорогой все отобрали.
Другая колхозница из той же колонны, Прасковья Ивановна Анишина, добавила:
— За Клинцами немцы застрелили мою корову. Отступающие фашисты убивали коров для пропитания. Людей, очевидно, для развлечения.
Анастасия Максимовна Оборина вспоминала:
— Кто остановится, стреляют в того, проклятые. У одного старика в нашей колонне — фамилии его не знаю, а звали просто Матвеичем — заело колесо телеги. Возится он, бедный, в грязи. Подошел немец конвоир, закричал. А что может сделать старик, коли ось сломалась? Немцу надоело, он снял с плеча ружье и застрелил старика.
Мальчик Вася Репин рассказывал мне:
— Был у нас в колонне дед Павел. По фамилии Борисенко. Устал он, упал. К нему немец подошел, облил его бензином и поджег. Мы старика окунули в реку. Но все-таки он помер. Когда он горел, фрицы сильно смеялись.
Наступая, гитлеровцы грабили и убивали мирных жителей. И отступая они грабили и убивали мирных жителей. Ну, а как же они вели себя там, где они подолгу оставались на месте? Так сказать, в оседлом состоянии? Огромная территория, освобожденная наступлением Красной Армии, была под немцем два года и более.
В освобожденных местах была популярна частушка, сложенная в период оккупации:
— Германская вошь,
Куда ползешь?
— В Россию, под кровать,
Картошку воровать.
По-видимому, воровство глубоко вкоренилось в психологию гитлеровского немца. И не только на захваченных им землях. Я читал письмо из Дюссельдорфа, найденное на убитом немецком солдате:
«...Дело с Анной окончательно выяснилось. Она украла все карточки у Греты. Всего я могла от нее ожидать. Но что она может отнять у детей еду и одежду...»
Из другого письма — к солдату Георгу Штински (полевая почта 37038):
«...Вот еще новость, которая тебя заинтересует. Вальтер Мотце был представлен к чину унтер-офицера. Но он украл мешок муки и за это отправлен на передний край, в штрафную роту...»
Так если они у себя дома такие прыткие по части плохо лежащего соседского добра, представьте себе, как развернулись их таланты «ýрок» в местах, которые они вообразили своей колонией.
Это было воровство, так сказать, неофициальное. Воровство же официальное было регламентировано и выражалось в бесконечных сборах, поборах и налогах. В Почепе я читал их перечень на двух огромных листах. Каких только оброков там нет! За выдачу пропуска до 100 километров. За выдачу пропуска свыше 100 километров. За разрешение на вырезку торфа. За разрешение на рыбную ловлю удочкой. За разрешение на рыбную ловлю сетью. За справку о побоях (наверно, немаловажная статья доходов). За разрешение на покупку гроба. И т. д. и т. п.
Кроме того, каждый немецкий оккупант мог приказать в любую минуту любому русскому исполнить любую работу. Например. Немцу понравился ваш рояль. Он выходит на улицу, ловит первых попавшихся русских и заставляет их перенести ваш рояль к себе на квартиру.
Это если немец музыкальный. Другой случай. Немец немузыкальный. Он занимает комнату в вашей квартире. Там стоит рояль. Немец приглашает приятелей, и они выбрасывают ваш рояль через окно. Они могли бы предложить вам убрать рояль. Но полет чужого рояля из окна на улицу развлекает их на несколько минут.
Когда у немца появляется надобность в прачке, он поступает просто: входит в первую попавшуюся русскую квартиру и приказывает первой попавшейся русской женщине выстирать его грязное белье.
Поразительно, что за два года оккупации немцы не сумели наладить дорог в захваченных ими областях. Они их только портили. Границу оккупированной местности сразу отличаешь резким переходом с доброго советского шоссе на разбитый, утопающий в грязи немецкий жердевый настил. Не сумев благоустроить дороги, немцы с идиотской методичностью выгоняли жителей придорожных деревень на ежедневное бессмысленное подметание этих полуразрушенных настилов, мало отличающихся от болота.
О кровавых расправах гитлеровцев с населением можно было услышать в любом населенном пункте — в Красной Дубраве, где они расстреляли председателя колхоза Емельяна Щербакова, в Маяках, где они устроили виселицу на воротах бывшего дома отдыха, в Почепе, где они убили 1800 человек, и т. д.
Почеп долго был в отдаленном немецком тылу. Среди бумаг, брошенных бежавшими немцами, я видел «Приказ № 14» по местной комендатуре от 3 мая 1943 года:
«Вернувшегося из отпуска господина Кеплера назначаю начальником торгово-промышленного отдела Почепского района с 1 мая с. г. с окладом 1200 рублей и 25% надбавки за опасность работы в районе».
За Почепом на берегу одного ручейка я увидел мальчика лет пятнадцати. Он лежал на зеленой мураве с сумой и резным посохом, — белорусский пастушок, льняноволосый, голубоглазый, с кротким ликом, типичный нестеровский отрок. Я рассмотрел его посох. Хитрую вязь его портили восемь грубых зарубок.
— К чему это? — спросил я.
Нестеровский отрок поднял на меня свои ангельские глаза и сказал:
— По числу убитых фрицев, дядя.
Нам было по дороге, и я довез его до Брянска, куда он отправлялся на областной съезд партизан. Нет, недаром господин Кеплер получал свои 300 рублей надбавки!
Восемнадцатого сентября у большого Брянского моста был захвачен в плен среди других Эрвин Пройс, обер-ефрейтор 10-й роты 533-го пехотного полка 383-й пехотной дивизии.
Несколько раньше его на сторону Красной Армии перебежал немецкий артиллерист Эрвин Байер.
Я присутствовал при разговоре двух Эрвинов. Это был обмен упреками. Эрвин Байер укоризненно спрашивал Эрвина Пройса, почему тот сам не перешел на сторону Красной Армии:
Второй Эрвин ответил:
— Хорошо тебе, одинокому. А перейди добровольно я или другие семейные солдаты, то ты ведь знаешь, что наши семьи на родине за это расстреляют...
Чем дальше на запад шло наступление Красной Армии, тем больше становилось в германской армии дезертиров и перебежчиков. Тускнел символ веры гитлеровского солдата: «Glauben, kämpfen, gehorchen».
По дороге к Гомелю я подобрал весьма любопытный документ, оброненный гитлеровцами во время их поспешного драпа:
«Материалы для политического воспитания. Тезисы № 2 для доклада дивизионным офицерам».
На документе вверху надпись: «Не допустить в руки противника! После использования уничтожить!»
Далее — подзаголовок:
«Положение на Восточном фронте».
Вначале документ признается, что конечные цели наступления 1941 года германской армией достигнуты не были.
«Летом 1942 года, — сказано далее, — фюрер предпринял новое наступление. Но и это наступление не могло быть доведено до конца. Причины объяснить сейчас невозможно, это привело бы к разрыву с нашими союзниками. В том, что мы не удержали завоеваний 1942 года, солдаты и командование не виноваты».
Другими словами, делается попытка свалить вину за разгром гитлеровцев под Сталинградом и на Дону на итальянцев, румын и венгров, хотя хорошо известно, что подавляющее большинство разгромленных тогда дивизий было чисто немецкими.
«Летнее наступление 1942 года, — продолжают «Тезисы № 2», — было предпринято не для завоевания новых земель. После завоевания Украины и Белоруссии можно считать, что борьба за европейское жизненное пространство на Востоке завершена (подчеркнуто в подлиннике. — Л. С.)».
Самое любопытное, что строки эти я читал на освобожденной земле Белоруссии в тот момент, когда и с доброй половины Украины фашистские оккупанты уже были изгнаны.
Больше к этой скользкой теме «Тезисы № 2» не возвращались, предоставляя выпутываться из этого тяжелого положения красноречию гитлеровских ротных пропагандистов. «Наступления в будущем, — заявляют далее «Тезисы», — будут нами проводиться только в том случае, если: 1) противник сам не наступает, 2) в наступлении имеется смысл».
Договорились! Это значит: «Будем наступать, если противник разрешит нам наступать». Экие деликатные стали!
Ну хорошо. Это все о прошлом, да о будущем. А где же о настоящем? О страшном немецком настоящем? О невиданном поражении, нанесенном им летом 1943 года?
Ага, вот. В самом конце.
«Дело сейчас в том, чтобы истощить противника. Если при этом теряется территория, то речь идет о боевой территории, а не о жизненном пространстве».
Итак, еще один термин. Ко всем прежним псевдонимам отступления и поражения — «эластичная оборона», «планомерное передвижение», «оборонительный фронт» и пр. — прибавилась в 1943 году «боевая территория».
И в самом конце документа заключительная фраза, звучащая довольно кисло:
«Если говорить о будущем, то удержать можно только ту территорию, которая будет заселена своим народом...»
Документ был предназначен для гитлеровских офицеров. Много их видел я, плененных нашими бойцами. И должен сказать, что тройственный символ веры, начертанный на стене бывшей немецкой казармы под Гомелем, чем дальше шла война, тем больше бледнел и выдыхался.
Конечно, плен — это не фронт. «Kämpfen» немец здесь не должен. «Gehorchen» тоже не должен. Но «glauben»-то полагалось бы.
А у гитлеровца и от «glauben» к 1943 году маловато осталось. А может, и прежде не особенно было? Может, это была не вера, а автоматизм? А всякий автомат в конце концов снашивается, особенно если его плохо смазывают.
Надо сказать, что после сталинградского котла геббельсовские агенты пустили ложный слушок по каналам «пропаганды шепотом» (так назывались фальшивые слухи, специально распространяемые фашистскими властями) о том, что «полководческий гений фюрера» никогда не ошибался, а все поражения фашистов — следствие ошибок гитлеровских генералов. А генералы не оставались в долгу и, попав в плен, охотно распространялись на тему о бездарности и невежестве Гитлера в военном искусстве. В общем это был тот спор, где обе стороны правы. И сколь усердно ни подчеркивали гитлеровские вояки своего внезапно вспыхнувшего (в плену!) презрения к недавно столь обожаемому ими фюреру, не подлежало никакому сомнению, что они оставались преданными ему не за страх, а за совесть.
Кроме того, мне, грешным делом, давно казалось, что немецкому фашисту при всей его колбасно-пивной тяжеловесности свойственны истерически резкие переходы настроения. Сознание его легко травмируется.
По-видимому, под мощными ударами нашего наступления эти переходы настроения участились в гитлеровской армии, чем и вызвано было появление цитированных выше «Тезисов», представляющих собой, в сущности, самооправдательный документ германского командования.
Но если кто-то оправдывается, значит, кто-то другой его обвиняет. Если германское командование на третий год войны стало оправдываться перед армией, значит, какие-то значительные элементы в армии его обвиняли.
Самый момент появления «Тезисов» выдавал их самооправдательскую сущность. Надо же было своим солдатам объяснить причины длительного безостановочного драпа. Надо было «смазать автомат». Вот и была сделана такая попытка. Но смазка оказалась жидковатой.
Надо было сказать совсем другие слова.
И они были известны, эти слова. Они очень простые. Но не хотелось германскому верховному командованию бухнуться на колени и завопить при всем честном народе: «Вяжите меня, братцы! Виновато я! Просчиталось!»
Да и чувствовало ли оно, что раньше ли, позже ли, а ведь все равно придется ему становиться на колени?
Потому что если само не станет — поставят.
И поставили.

АРМЕНИЯ! АРМЕНИЯ!
Я вошел в Армению через ворота живописи. То, что в натуре не совпадало с полотнами Мартироса Сарьяна, Арутюна Галенца, Минаса Аветисяна, я отвергал как ересь. Так было, пока я не приехал в Гарни.
Александр Гумбольд называл Армению центром тяжести античного мира, так как она стояла на равном расстоянии от всех культурных стран древности.
Гарни — плоскогорье, на котором стройно белел, нависая над оврагом, античный храм. За девятнадцать веков, прошедших со дня его рождения, от него остались руины. Я бродил среди разъятых частей прекрасного — поверженных колонн, голубоватых базальтовых глыб, обломков статуй, плафонов, плит с изображением атлантов.
Это языческое капище видело многое. Оно меняло религию, обращалось в христианство и снова, под влиянием царя Трдата III, впадало в эллинистическое идолопоклонство. Только после того, как означенный царь, по словам предания, был превращен в кабана, он одумался, сообразив, надо полагать, что все-таки приятнее быть человеком, хоть и христианином, чем язычником, но кабаном.
Этот клочок земли излучает видения Рима. Но, в сущности, маленькая свободолюбивая Армения никогда не была пленницей цезарей. Тацит писал: «Мы только призрачно завладеваем Арменией...» Армянский царь Артаваз II, сын Тиграна Великого, сочинял греческие трагедии. Это было в те дни, когда туда вторгались римские интервенты. Их вел Марк Лициний Красе, по прозвищу Богатый. Он был крупнейшим финансистом Рима, нажившимся на присвоении конфискованного имущества репрессированных во время переворота Суллы, к которому он примкнул. Плутарх описывает его конец. Во время пира, который давал драматург и царь Артаваз, «трагический актер Ясон из Тралл,— пишет Плутарх, — декламировал из «Вакханок» Еврипида... В то время, как ему рукоплескали, в залу вошел Силлак, пал ниц перед царем и затем бросил на середину залы голову Красса... Таков, говорят, был конец, которым, словно трагедия, завершился поход Красса».
Разбросанные руины храма похожи на гигантски увеличенную игру «Конструктор». Сходство усиливается благодаря тому, что этот античный «Конструктор» сейчас монтируют. Скоро армянский Парфенон возникнет среди гор, окруженный двадцатью четырьмя колоннами ростом с четырехэтажный дом. К нему поведет лестница с девятью крупными базальтовыми ступенями. Это будет поразительное зрелище — классическая Эллада среди хаоса гор, желто-охристых вблизи и нежно голубеющих по мере того, как они уходят вдаль. Это будет другая Армения, греко-римская, не тронутая кистью замечательных ереванских художников. Сейчас здесь трудятся каменотесы и резчики, к которым с таким вниманием приглядывался Василий Гроссман, оставивший незабываемые записки «Добро вам», о современной Армении.
Гроссман приземлял свои высокие мысли об Армении. Он опасался показаться высокопарным и велеречивым. Он прорезал свое волнение бытовым просторечием. Пример:
«А овца, которую хотел пригладить переводчик (так Гроссман называл себя. — Л. С), прижалась к ослику, ища у него покровительства и защиты. Было в этом что-то непередаваемо трогательное — овца инстинктивно чувствует, что протянутая к ней рука человека несет смерть, и вот она хотела уберечься от смерти, искала у четвероногого ослика защиты от той руки, что создала сталь и термоядерное оружие».
Как бы устыдившись собственного глубокомыслия, Гроссман тут же приглушает свой философический накал:
«В тот же день приезжий (то есть он же, Гроссман. — Л. С.) купил в сельмаге кусок детского мыла, зубную пасту, сердечные капли».
Гроссман знал цену слова. «Слово — это целый мир», — сказал армянский классик Туманян. Этот мир Гроссман принес в ту работу, ради которой он приехал в Армению. Может показаться несерьезным и даже отчасти самоуничижительным аттестование себя в третьем лице «переводчиком», тогда как за Василием Гроссманом уже были широко известные книги «Глюкауф», «Степан Кольчугин», «За правое дело». Чего ради он взвалил на себя работу переводчика, это разговор особый. Но, взвалив, он отнесся к ней честно. В процессе перевода романа Р. Кочара «Дети большого дома» переводчик и автор подружились. «Кочар очень мил, внимателен, — пишет Гроссман в одном из писем к жене, — все стремится показать мне интересные памятники и места». Все же в записках своих Гроссман остерегся выводить Р. Кочара под его собственным именем, очевидно для того, чтобы не ограничивать меткость характеристик. Переводчик называет автора Мартиросян.
Записки Гроссмана об Армении «Добро вам» могли бы называться «Объяснение в любви к Армении». Нравилась ли ему его работа переводчика? Гроссман всегда Гроссман, даже тогда, когда он мучился от неосуществленного желания, такого страстного и такого — скажу — естественного: быть самим собой. «...мечтаю о том, — пишет он жене, — как закончу работу и отдохну в тишине, буду снова самим собой, а не переводчиком». И в другом письме: «...люблю быть самим собой, как бы это ни было тяжело и сложно».
Он достиг этого на страницах «Добро вам». Описывая свои первые минуты в Ереване (да в общем и далее в Армении), Василий Гроссман выпустил из себя демона образности. Никогда еще он не писал так живописно, так метафорично. Он приблизился в фактуре последних страниц своей жизни к Олеше, к Катаеву.
Читая опубликованные письма Василия Семеновича из Армении, нетрудно заметить, что восхищение страной иногда окрашивается грустью. А ведь в Армении ему нравилось все: и люди, и природа, и искусство, и обычаи,— словом, все! За одним исключением: его переводческой работы. Он сам называет ее в своих письмах «костоломной». Это и отозвалось в его письмах грустью и горечью.
Странно, что Гроссман не упоминает о дороге на Гегард, упоительно красивой. Горы то сближаются, чтобы раздавить путника, то с неожиданной любезностью вдруг великодушно распахиваются, открывая луга, поймы, равнины. Самое поразительное в горных вершинах Армении — та легкость и охота, с какой они превращаются в подобия воздушных шаров, нежно плывущих в небе. А между тем дикость их неопровержима. Это — окаменевший ураган, застывший мятеж природы. Застывший ли? Он звучит, этот бунт. Я сам был свидетелем того, как из ущелья вдруг вырвался ветер метафор, ударил меня в лицо, едва не сбил с ног. Я понял в ту минуту стилистические истоки «Добро вам».
Армения — страна многоярусная. Рыжие пропасти, циклопическое изящество гигантских хаотических нагромождений, которые словно соревнуются в том, чтобы превзойти друг друга причудливостью форм... И все, как когда-то писал о местах этих О. Мандельштам, «окрашено охрою хриплой».
Построение Гегардского пещерного монастыря предполагает в неведомых средневековых строителях не только талант, но и специальные познания. Впрочем, почему «неведомых»? В пещерной церкви Авазан на одной из стен сохранилось имя строителя, вырубленное в камне: Галдзак. Да, конечно, он строил наверняка: малейший просчет — и гора, в которой выдолблен храм, села бы на головы строителей. Так пусть не говорят мне об инженерных чудесах, якобы творимых верой. Верующий невежда не мог бы создать этот архитектурный шедевр. Невозможно сомневаться, что Галдзак обладал необходимыми познаниями в математике, в сопротивлении материалов. Замечательные древние сооружения рождены не мистическим трансом, а строгим и точным расчетом талантливых и опытных строителей.
Гегард значит — копье. Да, есть в этих древних храмах что-то воинственное, грубое, крепостное. И — крестьянское. «Плечми осьмигранными дышишь мужицких бычачьих церквей» (О. Мандельштам). Предание говорит, что этими горами владеют вишапы. Слово это означает — дракон. В случае необходимости, разъясняет предание, они принимали образ людей. Следовательно, иные цари и полководцы были на самом деле неопознанными драконами.
Мы пришли к Джотто. Так все называют Геворга Григорьяна. Хотя, на мой взгляд, уж если давать ему прозвище из инвентаря Ренессанса, так скорее Эль Греко, которого, кстати, Григорьян любит и на которого походит гаммой темных тонов, драматизмом сюжетов и удлиненностью изображений.
На полотнах армянского Джотто никакого пленера, так щедро разлитого в работах многих армянских художников, подсказанного, вероятно, самим цветом Армении и нет-нет, а начинающего кой у кого принимать несколько навязчивый характер. Своими работами Геворг Джотто показал, сколько сияния таится в темной гамме красок.
Он не похож ни на кого из своих современников. Разве только на Руо. Небольшая комната Джотто (она же мастерская) завалена его картинами. К сожалению, они плохо (и в этом не вина художника) расходятся по музеям, они здесь почти все, эти странные, волнующие композиции, такие, например, как «Клавиатура и ласточка» или многочисленные портреты композитора Комитаса, написанные словно бы и не красками, а скорбью и гневом. Жесткая кисть Джотто становится неожиданно мягкой, когда он пишет жену. Начиная с шестидесятых годов, он вводит в свои портреты руки, в изображении которых он достигает острой выразительности. Но в общем длинный путь этого старого художника удивительно целен. По-видимому, его коренная артистическая добродетель — верность себе. Впрочем, прощаясь со мной, он сказал:
— Когда я был молодым, я писал как старик. Сейчас я пишу как взбудораженный юноша...
Вечером мы пошли в кино. Огромный амфитеатр. Крыша — звездное ереванское небо. Фильм С. Параджанова «Цвет граната» очень талантливый. И очень армянский. Может быть, даже иногда слишком армянский. Он настаивает на своем национальном своеобразии с таким упорством, что где-то порой сбивается с пути к общечеловеческому. А ведь в искусстве только то и общечеловечно, что подлинно национально. Иначе оно рискует впасть в провинциализм, то есть в узость и незначительность. «Цвет граната» рассказывает о судьбе, о возвышении, о неразделенной любви и трагическом конце знаменитого поэта XVIII века Саят-Нова.
Фильм этот не перестает поражать вас на всем своем протяжении. Вы восхищаетесь тщательностью режиссерской работы, ее неистощимой изобретательностью. С уважением думаешь о том, сколько труда было положено на создание этих бесчисленных ловких и никогда друг друга не повторяющих комбинаций красивых людей и красивых вещей. Словом, я любовался фильмом Параджанова. И нисколько не волновался. А ведь — трагедия. Трагедия загубленной жизни поэта. Трагедия любви. Трагедия огромного таланта. Холодность моя, возможно, проистекала еще и оттого, что исполнители, — чьи костюмы великолепны, телодвижения безупречны, — сохраняют на лицах полное бесстрастие. Это не артисты, а, волею режиссера, фигуранты. Словом, я не волновался. Я только любовался. Не кара ли это, которая постигает художника за отсутствие страсти, попросту за удаление в эстетство?. Страсть и музейность — две вещи несовместные. Поэзия не экспонат, и на любовь не навесишь инвентарный жетончик.
В двадцатых годах прошлого столетия шла русско-персидская война. 1 октября 1827 года, через два года после восстания декабристов, генерал Паскевич штурмом взял Эривань. Группа офицеров своими силами разыграла «Горе от ума». Лизу, Софью и прочие женские роли исполняли молоденькие солдаты. Все это происходило во Дворце Сардаров.
Сейчас там на базальтовой стене висит памятная доска. Я списал ее строки:
«Здесь в 1827 году в присутствии автора впервые была представлена бессмертная комедия великого русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Постановку осуществили офицеры-любители из Эриванского Карабинерского 7-го полка, участвовавшего во взятии Эриванской крепости».
«Читал я, — пишет Василий Гроссман, — как гордилась армянская интеллигенция тем, что в Ереване раньше, чем в Петербурге и Москве, была поставлена комедия Грибоедова».
Действительно, в Москве она была поставлена позже, в тридцатых годах. Играли не любители, а великие артисты — Щепкин, Мочалов, Ленский и другие. Но у офицеров 7-го Карабинерского полка при всей их профессиональной неумелости было неотъемлемое преимущество: они изображали свою современность. Для них время действия комедии Грибоедова был «век нынешний», тогда как московская постановка воссоздавала уже «век минувший». Но, как тонко замечает Иван Александрович Гончаров в своем знаменитом критическом этюде «Миллион терзаний»: «...пока будет существовать стремление к почестям помимо заслуги, пока будут водиться мастера и охотники угодничать и «награжденье брать и весело пожить», пока сплетни, безделье, пустота будут господствовать не как пороки, а как страсти общественной жизни, — до тех пор, конечно, будут мелькать и в современном обществе черты Фамусовых, Молчалиных и других...»
Иногда кажется, что народность таланта армян объясняется их происхождением: это крестьяне. Еще и сейчас почти половина населения Армении проживает в селах (из каждых ста — сорок четыре). О ком ни спрашиваешь, следует ответ: он из такой-то деревни (иногда зарубежной). Как часто исток одаренности исходит от земли! Мысли эти приходят в голову, когда соприкасаешься с портретной живописью Акопа Овнатаняна. Давно уже нет в живых этого художника. Но купцы, градоправители, генералы, мещане, чиновники, их жены, обвешанные драгоценностями, выписанными с ювелирной кропотливостью, живы на его полотнах.
За любым портретом Акопа Овнатаняна вы видите и душу, и время, и личность, и эпоху. По таким портретам можно изучать историю общества. В то же время каждый рассказывает о какой-либо сокровенной страсти, первенствующей в душе его модели, — о надменности (А. Саркисян), романтичности (Акимян), мудрости (Нерсес Аштаракеци), нежности (Назелли Орбелян), любви (Ананян).
Шесть поколений Овнатанянов на протяжении двух столетий были художниками. Род их прервался на Акопе. Это был пик наследственной талантливости. Гены одаренности, накапливаясь, достигли в Акопе Овнатаняне вершины, и на нем же эта артистическая династия исчерпала себя, свою творческую силу.
Почему-то все называют этого художника просто по имени: Минас. Хотя, конечно, у него есть и фамилия: Аветисян.
Природа Армении радостна. Но и сурова. На полотнах Минаса краски Армении приобретают новое качество. Когда я смотрю на картину, которая называется «У порога»,— огненно-желтая фигура крестьянки выглядывает из коричневого мрака приоткрытой двери дома, — я вижу не только пылкую природу Армении, но и застенчивость крестьянской души, ее скрытую силу в облике скромности, ее единство с сущностью страны.
В замечательном автопортрете Минас изобразил себя не с традиционной виноградной гроздью в руках, а с бурой, запыленной колючкой, репьем или чертополохом. Он борется с чувствительностью, с красивостью. Перед нами на портрете и есть борец, рыцарь, подвижник, а может быть, пахарь. В картине «Посвящение» художник изобразил на кресте самого себя. По бокам — родители, старые крестьяне. Нет здесь ни страдания, ни мучительства, свойственного этой теме. Наоборот — жизненность, душевная теплота. Как заметил один из созерцателей картины: «Ну что ж, все-таки распятый добился кой-чего в жизни...» Я не успел спросить, кого он имел в виду: Христа или Минаса? И самого художника я не мог спросить, потому что он в те дни был в Москве, на своей персональной выставке.
Покидая мастерскую Минаса, мы еще раз увидели Ереван сквозь проемы лестничной клетки. Мы спускаемся с шестого этажа, и на каждой площадке перед нами встает гора, обнимающая город. На склонах ее уже зажигаются вечерние огни. Пейзаж становится другим не только в стремительно блекнущем свете неба, но и в изменяющемся ракурсе. По мере того как мы спускались, гора на горизонте росла. Наконец, в самом низу, ее заслонили одноэтажные глинобитные домишки, посреди которых растрепанные хозяйки жарили на мангалах шашлыки.
Поначалу мы не понимали, по какому случаю столько людей всегда толпится на площади Ленина, у гостиницы «Армения». Нам объяснили: в Ереван приезжают зарубежные армяне. Местные жители (в большинстве пожилые люди) расспрашивают приезжих о судьбе своих родичей и земляков, уехавших некогда в США, в Эфиопию, во Францию, в Сирию, в Аргентину, в Ливан, в Болгарию, в Канаду. Это рассеяние армян по миру пошло после печально знаменитой резни, которую турки учинили в 1915 году.
На той же площади Ленина, только с противоположной стороны, в Историческом музее мы рассматривали древнюю повозку, найденную на осушенной территории озера Севан. Это первобытное сооружение держится на четырех огромных деревянных дисках, исполнявших роль колес. Мы взирали на повозку почтительно. К этому обязывал ее возраст: XIII век до нашей эры! Тысяча триста лет, да еще прихватите нашу эру. Итого колымаге около трех тысяч трехсот лет. Ничего себе!
Рядом с нами стоял пожилой армянин. Я вспомнил: вчера я видел его в одной харчевне в Эчмиадзине. Их было трое за столиком, три седых мальчика: краснощекий толстяк, тощий старец с изможденным и страстным лицом библейского пророка и вот этот наш сегодняшний сосед — спокойной, уравновешенной наружности.
Сейчас он покосился на нас и сказал, качая головой:
— Ну и ну... Тринадцатый век... Потом неожиданно:
— Точно в такой телеге мы бежали пятьдесят лет тому назад... нет, уже больше, пятьдесят пять, перед самой резней...
— Откуда?
— Мы жили у озера Ван. Мы бежали в Эчмиадзин. Там я живу до сих пор. Мальчиком я был тогда. Мне сейчас шестьдесят четыре...
— А вы, простите, кто?
— Шофер я. Казарьян моя фамилия.
Мы все снова посмотрели на трехтысячелетнюю телегу.
— Запрягли в нее буйвола, — сказал он, — и — в Россию. Крепкая телега. В нашей деревне у всех такие были.
В апреле 1915 года было уничтожено около двух миллионов армян — третья часть народа. В Эчмиадзине скопилось много беженцев. Великий армянский поэт Ованес Туманян пришел к ним на помощь. Вспоминают, что он «спешил от одного места к другому, из палатки в палатку, от одной группы к другой, от одного умирающего к другому». Левон Ахвердян рассказывает о таком случае из этой деятельности Туманяна:
«Однажды в проливной дождь он насильно открыл двери строящихся новых Патриарших покоев, которые были до той поры неприкосновенны. Беженцы забились внутрь. Католикос возмутился, как посмел поэт позволить себе такое, — «ведь перед ним Католикос всех армян...» Говорят, Туманян на это ответил: «Но с вами говорит Поэт всех армян».
Все человекоубийственные преступления, все массовые резни, геноциды и погромы похожи друг на друга. Известна отвратительная по своему цинизму формулировка инициатора армянской резни султана Абдул-Гамида: «Мы покончим с армянским вопросом, только покончив с армянами». Это почти совпадает с не менее зверской формулировкой Гитлера об «окончательном решении еврейского вопроса». Недаром, вынося это «решение», Гитлер в качестве оправдывающего примера привел эту ужасающую резню армян. «Кто помнит сейчас, — сказал он, — что турки вырезали армян?»
Убийцы надеются, что у человечества короткая память.
Напрасно!
Умирают люди, но память живет.
Мы подымаемся вверх по широкой дороге. Мы идем к вещественному доказательству непроходящей памяти человечества. Дорога замощена большими, слегка шероховатыми плитами, по этой зернистой поверхности легко ступать. Далеко внизу ущелье. На дне его течет Раздан. Через ущелье перекинут мост.
Люблю мосты! В них есть что-то отважное, победное. Вот и этот, красавец и смельчак, огромной дугой скрепил оба края ущелья. А поверху дуги с безупречной геометрической красотой идет касательная моста.
По обе стороны дороги раскинулся молодой парк. Я продолжаю подыматься по этому лесистому холму. Постепенно из-за гребня показывается край обелиска. И вот мы уже видим его целиком, во весь его сорокаметровый рост. А рядом — подобие шатра. Он образован двенадцатью огромными гранитными пилонами. Они склоняют свои вершины над бронзовой чашей, в которой горит вечный огонь. Звучит музыка, источник ее не виден, она кажется порождением самого пламени, рвущегося из бронзовой чаши, — музыка, щемящая сердце, печальная и торжественная. Если у народа было горе, всегда найдется певец этого горя. Им стал композитор Комитас.
Я выхожу из шатра, я у подножья обелиска. Всем своим устремленным в небо легким телом он как-то сразу перечеркивает настроение. В этой взлетающей игле есть мощь и радость. Уже позже я узнаю, что в этом и есть цель обелиска, ибо он — знак возрождения Армении.
Отсюда хорошо виден Ереван — город, который называют розовым, хотя он, в сущности, многоцветный, так как туф, из которого он выстроен, не только розовый, но и оранжевый, и коричневый, и сиреневый, и серый, и желтый. А горы вокруг добавляют в этот пейзаж от своей голубизны, нежной дымчатости и серебряного мерцания горных вершин.
Сад в доме Арутюна Галенца сохраняет тот же вид, какой он имел при жизни художника. Среди деревьев стоят вещи, которые он любил: большая амфора, древний камень с орнаментом, так называемый «хачкар», которому добрая тысяча лет. Из травы выглядывает скульптурная голова, как если бы ее обладатель стоял по горло в земле.
Картины Галенца быстро расходились по рукам. Он не дорожил своими работами, он легко дарил их. Написав картину, он быстро забывал о ней. Это был Моцарт в живописи. Все же некоторое количество полотен еще сохранилось в его доме благодаря заботливости Армине, его жены и ученицы. Поднявшись на второй этаж, в мастерскую покойного художника, вы можете любоваться его могучей, смелой и свободной кистью.
Когда Галенц приехал из Сирии, он был принят в Ереване, как и все репатрианты, с распростертыми объятьями. Выставка его произведений произвела впечатление исключительное. Галенцу была присуждена высшая награда — он стал лауреатом государственной премии республики. Диплом о присуждении сейчас висит в мастерской. Галенц не успел увидеть его. Он умер на пороге своего дома. Ему было пятьдесят семь лет.
Искусство Галенца полно ума и мощи. Из каждой картины бьет свет радости. Сопоставляя контрастные цвета, он на своем языке рассказывает нам о том, как прекрасно жить, просто жить. Когда смотришь картины Галенца, повышается жизненный тонус. Заразительная сила его искусства не только в цветовой энергии его красок, но и в неопровержимо убедительной композиции. Вспомним хотя бы портрет балерины Майи Плисецкой — изображение пересекает пространство холста по диагонали, и это усиливает впечатление устремленности, почти полета.
Если портреты Галенца — раскрытие душевной сути человека, то его пейзажи, сделанные в необычайной интенсивности желтого и голубого цветов, — портреты страны.
Поначалу кажется странным и неожиданным, что у этого художника радости были, по всеобщему свидетельству, печальные глаза. Глубинную грусть во взгляде этого жизнерадостного человека замечали почти все знавшие его. Раиса Мессер называет глаза Галенца «затаенно-страдальческими». Левон Мкртчян находит в его облике «что-то праздничное и что-то трагическое». Мартирос Сергеевич Сарьян говорил о «печальных глазах» Галенца, о том, что он «в себе носил страдания целого поколения народа, пережившего 1915 год». В то же время Сарьян отмечает, что картины Галенца «захватывают свежестью, чистотой, радостью и добротой».
Как сочетались в одной душе печаль и радость? Сарьян объясняет это тем, что Галенц «воплотил в себе жизнеутверждающий дух родного народа».
Это так, конечно. А кроме того, самое обладание талантом дает ощущение радости, рождая в художнике уверенность в своей силе и правоте. Знаменитые слова Маяковского о том, что он наступает на горло собственной песне, сами по себе мощный образ, — то есть они-то и есть та самая песня, которую невозможно задушить, ибо акт самозадушения превращается талантом художника в произведение искусства. Так свою скорбь гений Галенца переработал в радость.
Я еду в Цахкадзор. Слово это значит — Долина цветов. Я покидаю горы. Вместе с ними уходит спокойствие. Как это ни странно, но горы, эта затвердевшая смятенность земли, почему-то производят успокоительное действие. Я родился в равнинной степи и очень люблю ее. Но когда я там, я неспокоен. Ее ровная бесконечность рождает какое-то томление. Она непостижима в своей монотонности, она зовет разгадать себя, тайну своей беспредельности. Может быть, потому я и люблю степь. Она, как море, однообразна и изменчива.
А горы — это плоско. Это нечто раз навсегда данное. Не отсюда ли ощущение покоя? Или от их прочности?
Прочности, говорите? А землетрясение? Но пока его нет, в него ведь не веришь, как не веришь в свою смерть.
Впрочем, когда я стоял над кратером Везувия, у меня было другое ощущение. Везувий молчал. Полупьяный итальянец в капитанской фуражке с позументом, называвший себя «комендантом Везувия», зажег газету и бросил ее в кратер. Оттуда выбухнули клубы белого дыма. Я невольно отшатнулся. Мне послышалось из темной пасти вулкана угрожающее ворчанье.
В Помпеях вспомнилось другое. Мучительство. Но не природы, а людей. Когда я увидел посреди этого уникального музея античной жизни фигуру человека, дошедшую до нас из глубины веков и скрюченную в нестерпимом страдании, я вспомнил войну, фашизм, Майданек, Освенцим. Остовы античных домов были похожи на остовы сожженных гитлеровцами домов в Орле, Гомеле, Варшаве, среди праха которой бродили мы с Гроссманом в день ее освобождения, 17 января 1945 года...
В Цахкадзоре я пошел к дому, где восемь лет назад жил и работал Василий Семенович. Двухэтажное белое здание традиционно курортного типа. Так строили в тридцатых годах. Здесь разместился небольшой Дом творчества союза писателей Армении. На веранде ободранный бильярд — тот самый, на котором любил играть Гроссман. Комнаты закрыты. На всем отпечаток запустения и грусти. Я внимательно вглядываюсь во все вокруг, силясь смотреть глазами Гроссмана. Да, я попробовал приобрести на время его слегка удивленный, чуть насмешливый испытующий взгляд. И — добрый. Это последнее, вероятно, труднее всего. Когда одному старику, который все время обращался к Гроссману по-армянски, заметили, что Василий Семенович не понимает, он рассердился и сказал: «Не может быть, чтобы человек с такими добрыми глазами не понимал по-армянски».
Меня уверяют, что здесь, в Цахкадзоре, ничего не переменилось с тех времен. В саду — грушевое дерево, старый граб, небольшой фонтан с водоемом, в котором плавают желтые листья осени. Под домом журчит ручей. («Ночью открываю окно, и слышно, шумит ручей...» Из письма Гроссмана к жене.) Неподалеку от дома древний храм, которому девятьсот лет. Об этом храме Василий Семенович как-то сказал Мери, дочери Р. Кочара:
— Вот так надо писать — как строили армянские зодчие: просто и чтоб внутри бог...
Мне очень хотелось повидать в Цахкадзоре безумного старика Андреаса, и кочегара Ивана, и его отца, старого молоканина, и, может быть, если удастся, испытать в разговоре с ними то высокое чувство, о котором Гроссман пишет в «Добро вам». Я отправился на их поиски. Уже нет ни Андреаса, ни Ивана, ни отца его, ни Карапета-аги, ни всех тех, с кем встречался здесь Василий Семенович. Но и те, что разбрелись кто куда, и те, что умерли, продолжают жить на страницах «Добро вам».
В Ереване Гроссман был почти одинок. Он сам свидетельствует об этом:
«Я прожил в Армении два месяца; почти половину этого срока я провел в Ереване. Я приехал в Ереван, зная писателя Мартиросяна и переводчицу Гортензию... и уехал из Еревана, будучи знаком с Мартиросяном, его семьей и переводчицей Гортензией» (так Гроссман называет А. Таронян. — Л. С.).
Почему так случилось? Мало сказать, что Василий Семенович был человеком общительным: его жадность на новые знакомства, его страсть к познанию людей была поистине неисчерпаема. С другой стороны, общеизвестна и гостеприимная общительность армян. Что же образовало вокруг Гроссмана атмосферу одиночества? Сам он пишет об этом с ироническим разочарованием:
«А я-то полагал, что, подобно Платону, стану дарить своей беседой не только ереванских художников пера и кисти, но и ученых...»
Под этой иронией прощупывается тоска по людям. Я слышал два противоположных мнения. Кое-кто из «художников пера» убеждал меня, что Р. Кочар (он же, напоминаю, «Мартиросян» из «Добро вам») отстранял Гроссмана в Ереване от новых знакомств. При этом Кочар окружил его всяческими заботами, дабы в этой золотой клетке ничто не отвлекало Гроссмана от работы над переводом его романа.
Иначе (и вопреки тому, что пишет сам Гроссман) говорила об этом дочь Р. Кочара, Мери, молодой востоковед, уверяя меня, что Василий Семенович сам не хотел никого видеть, сам избегал новых знакомств, сам не хотел выходить из узкого круга, очерченного Кочаром.
Я не оспариваю ни одного из этих утверждений. В каждом из них, возможно, есть своя правда. Но точно так же не подлежит сомнению и жажда Гроссмана общаться с людьми и широта его дружеских связей.
Безусловно, силовое поле, окружившее Гроссмана в Ереване, независимо от того, было ли оно возбуждено самим Гроссманом или другими, огорчало его. Он старался утешить себя, что так же одинок был здесь и Осип Мандельштам, поэзию которого Гроссман высоко ценил:
«Утешился я несколько тем, что спросил как-то у Мартиросяна о пребывании в Армении Мандельштама... Однако Мартиросян не помнил Мандельштама. Мартиросян по моей просьбе специально обзванивал некоторых поэтов старшего поколения — они не знали, что Мандельштам был в Армении. Мартиросян мне сказал, что смутно вспоминает худого носатого человека, видимо, весьма бедного: дважды Мартиросян угощал его ужином и вином; выпивши, носатый человек читал какие-то стихи,— по всем видимостям, это был Мандельштам».
Гроссману, несомненно, были известны и записки О. Мандельштама «Путешествие в Армению» («Звезда», 1933, № 5). Одна глава там называется «Ашот Ованесьян». Я сейчас вспомнил об этом вот почему. Нынче летом стоял я с Левоном Мкртчяном в аллее одного из ереванских бульваров. Вдруг внимание мое привлек проходивший невдалеке человек. Чем? Что-то сильное и значительное было в его лице, не утратившем скульптурных очертаний, несмотря на преклонные годы. Стан его был прям, густые волосы, отброшенные назад, напоминали львиную гриву. Я подумал, не отрывая от него глаз: возраст обтесал это лицо, оно стало гороподобным. Безусловно, я видел этого человека впервые. И все же в нем было что-то до боли знакомое. Левон проследил за моим взглядом и вскричал:
— Это же академик Ованесьян! Помните, у Мандельштама?
Еще бы!
«...вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой. Его Прометеева голова излучала дымчатый, пепельно-синий цвет, как сильнейшая кварцевая лампа... Черно-голубые, взбитые с выхвалью пряди его жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера».
— Познакомьте меня с ним! — взмолился я, увидев, что мой друг и академик Ованесьян разменялись поклонами.
После нескольких незначительных слов, входящих в обряд знакомства, я попросил академика с горячностью, которая, кажется, несколько его удивила, рассказать мне, что ему запомнилось о встрече с Мандельштамом.
По удивленно-вежливой улыбке академика Ованесьяна я понял, что эта встреча не запала ему в память.
Я подумал, глядя ему вслед, что разговор этот, присутствуй при нем Василий Гроссман, также принес бы ему некоторое утешение.
Прослышал я и о другом разговоре. Тоже в Ереване. О разговоре между двумя поэтами — Чаренцом и Мандельштамом. Выслушав стихи Мандельштама об Армении, Чаренц сказал:
— Понимаете ли вы, что из вас рвется книга?
Мандельштам удивился. Он и не заметил, что из него «рвется книга». Гроссману этого никто не говорил. Он сам заметил и написал жене из Еревана, что делает записи для будущей книги об Армении. Написал как-то смущенно, застенчиво. Может быть, не очень верил в будущую книгу. Но Армения так могущественно подействовала на него, что он не мог не взяться за перо. Это случается почти с каждым писателем, там побывавшим.
Сегодня ясное небо, и уже с утра «выдавали» Арарат. Нам отпустили его не торгуясь, полностью, и Большой, и Малый. Он ведь капризный. И неподкупный. Пушкинская улица прежде называлась Царской, потому что здесь останавливался царь Николай I в доме, который сохранился до сих пор. За время пребывания царя Арарат ни разу не выглянул из-за облаков. Можно было усомниться в его существовании. Так Николай и уехал, не повидав Арарата и сказав в некотором раздражении: «Но и Арарат не видел русского царя!» Как знать! Я думаю, что Арарат подсмотрел в щелочку меж облаками. Доставило, ли это ему удовольствие — другой вопрос. Облака — это нечто в роде челяди Арарата. В любую минуту он может заслонить ими свою головоподобную вершину в модном седом парике. «Мне удалось увидеть служение облаков Арарату», — радостно сообщает Мандельштам, к которому Арарат отнесся благосклонно. Впрочем, Мандельштам уверял, что он «выработал в себе шестое «араратское» чувство: чувство притяжение горой». Словом, Арарат — достопримечательность Еревана, хотя он не значится в качестве таковой в путеводителях, но зато попал в герб Армянской ССР. На заре советской власти это даже вызвало протестующую ноту соседнего государства. Нарком иностранных дел Г. В. Чичерин незамедлительно ответил соседу, что вот ведь в его гербе наличествует изображение луны, которая, насколько известно, ему не принадлежит. На этом дипломатическая дискуссия закончилась.
В путеводителях есть другие полезные сведения. Например, что Ереван — ровесник Рима и Вавилона (что, впрочем, не мешает ему сохранять весьма юный вид и даже, что ни год, молодеть). Или, что из каждых ста жителей Еревана — сорок два ребенка и тринадцать стариков (остальные, по моим наблюдениям, художники). Что средняя продолжительность жизни женщин в Армении на шесть лет выше, чем у мужчин (не этим ли объясняется уверенная осанка прелестных ереванок?).
В щелях новых домов еще сохранились старые ереванские дворики, тупики, переулочки. В них есть особая южная прелесть. Такие дворики еще не вывелись во многих городах полуденной Европы — в Венгрии, в Италии, да и у нас, в Тбилиси, например, или в Одессе, — с их наружными лестницами, тутовыми деревьями, стеклянными террасами, маленькими водоемами, с их жизнью наружу, с аппетитными запахами вареной кукурузы и дымящейся баранины, которые готовят тут же, во дворе. Всюду эти дворики исчезают, всюду их одинаковую, не очень опрятную, но все же милую уютность сметают новые высотные и тоже до ужаса одинаковые дома.
Я ехал по Армянскому нагорью в ту пору, когда на вершинах уже ложился снег. По дороге из Раздана и Ереван я увидел за обочиной стайку птиц, сидевших на щебневатой земле. Я удивился их неподвижности.
Приблизившись, я увидел, что это не птицы, а камни...
Мы, жители бесконечных ровных степей, с изумлением оглядывая вздыбленную Армению, спрашиваем: «Кто ж это навалил сюда столько камня!» Ничего, кроме камней и овец, пасущихся среди них. Вот и сейчас я вижу вдали, под горой, серую курчавую отару. Леонид Гурунц в своем отличном романе «Наш милый Шушикенд» уверяет, что овца — единственное животное, которое не узнает человека. Гурунц знает, он был пастухом.
Приблизившись, я увидел, что это не овцы, а камни...
Нет, больше вы меня не обманете, раздосадованно подумал я, обращаясь к камням, нет, нет, это не туши уснувших слонов, это туго обтянутые низкой изжелта-серой травой камни. Нет, нет, вы меня не проведете, это не суслики, приподнявшиеся у своих норок на задние лапки и с любопытством озирающие окрестность, — это нахохлившиеся камни. Ничего, кроме камня и колючих кустарников — барбариса, боярышника, шиповника. Становится скучно среди этой каменистой безжизненности! Слава-те, господи, наконец люди! Видимо, там идет общее собрание колхозников, — может быть, митинг по случаю сдачи урожая.
Приблизившись, я увидел, что это не люди, а камни...
И я сдался.
Камни оказались племенем, они подбирались к самому автомобилю, то рассыпались, то вновь собирались в толпы и что-то орали... Да, орали! Это слышал и Мандельштам, он писал: «орущих камней государство». И Амо Сагиян: «Мне в колыбели камни пели». Это о них было сказано: камни заговорили. О чем? О чем наконец заговорили камни?
Я остановил машину, вышел. Я стоял среди камней. Вслушивался в их молчаливый гул. Да, они говорили то громом обвалов, то скороговоркой перекатывающейся гальки, то шорохом песка под ногами, то окриками катящихся с гор валунов. Но кроме слов: «Я не могу молчать!» — я ничего не мог разобрать.
Когда мы вернулись в Ереван, я с облегчением вздохнул. Признаться, я устал от камней. Здесь они тоже есть, но прирученные, обтесанные, уложенные в дома, умеющие себя вести. Только в одном месте я увидел в основании дома глыбы дикого камня, как будто дом своей тяжестью выдавливал их из-под себя.
Это я видел на улице Барекамунтян, что означает дружба.
Прежде чем достигнуть знаменитого озера, мы проезжаем городок того же имени: Севан — смесь села, курорта и археологических раскопок. Одноэтажные глинобитные домики, современный отель, древности легендарного царства Урарту. Но вот и она, необъятная чаша, налитая голубизной. Мы едем по бывшему дну озера. Высоко на горе — белые столбики заброшенной дороги. Там двадцать лет назад был берег озера. Здесь много «бывшего»,— например, остров, где стоит храм; за те же двадцать лет остров превратился в полуостров, ибо уровень воды в Севане снизился на семнадцать метров. Сейчас пробивают сквозь горы пятидесятикилометровый тоннель, по которому воды реки Арпы вольются в Севан. Правда, прежнего не вернешь, полуостров не станет островом, уровень воды не подымется, но хоть по крайней мере перестанет снижаться.
За Севаном синеют Арегунийские горы. Их замечаешь не сразу, они — цвета неба, а значит и озера. В недрах одной из гор — она называется Зод —нашли золото. Какая богатая гора и какая богатая аллитерация!
Облака медленно покидают небо и садятся на горы. Они ползут все ниже и ниже. Вот они уже у подножья. И я увидел удивительное зрелище: облака коснулись озера и поплыли по нему. Теперь их называют туманом и уже забыли об их небесном происхождении. Но я готов поклясться, что этот туман над озером не что иное, как облака, которые спарашютировали на вершины гор, оттуда сошли на воду и, похожие то на верблюда, то на замок, а то и на человека, зашагали по ней, как по тверди.
Озеро Севан, как это ни странно, не порадовало Гроссмана. Описание его в «Добро вам» отличается холодностью. Он и сам признается в этом: «Севан — одно из красивейших мест на земле». Но «...встреча с Севаном не вышла, не запала мне в душу». Почему? Зря Гроссман валит это то на свою пресыщенность изображениями Севана в искусстве, то на пресыщенность в первоначальном, самом прямом смысле этого слова, то есть на чревоугодие, на пиршество, которое развернуло перед ним армянское гостеприимство. Конечно, Василий Семенович не обращался в паническое бегство при виде рюмки водки, а тем более коньяка. И точность восприятия отнюдь не изменила ему на Севане. Все дело в душевной горечи, которая в последние годы жизни Гроссмана в общем не отпускала его. Он был тяжело болен и, возможно, догадывался об этом.
Василий Гроссман писал «Добро вам» с предельной искренностью, с самоотверженной отдачей душевных сил.
Средневековый армянский поэт, гениальный Нарекаци писал:
Не дай испытать мне муки родов и не родить.
Скорбеть и не плакать,
Мыслить и не стенать,
Покрыться тучами — и не пролиться дождем,
Идти и не дойти...
«Добро вам» впервые появилось в ереванском журнале «Литературная Армения» в 1965 году.
Не без волненья входил я в дом-музей Мартироса Сергеевича Сарьяна. Трехэтажный стеклянный цилиндр. Внутри его штопором взвивается лестница. Достигаем третьего этажа, отсюда начинается осмотр. Самого художника мы надеемся увидеть внизу, на первом этаже. Пожар сарьяновских красок пылает на всех этажах. Сарьян — художник солнца. Не только по огненному накалу своих красок, но и по всей своей ликующей сути. Не только в пейзажах, но и в портретах. Мне ж почему-то дороже всего сарьяновская Анна Ахматова. Не широко известный живописный портрет, а сравнительно мало известный рисунок карандашом. В нем вся Анна Андреевна, ее душевное мужество, ее ум, ее горделивая скромность, ее высокое человеческое достоинство, ее поэтическое величие.
Как старых знакомых встречаем мы подлинники работ, известных по репродукциям,— автопортрет «Три возраста» и тройной портрет Лусик Сарьян. Необыкновенная смелость художника заключается в том, что в этих портретах он выводит живопись из границ пространства и сообщает ей протяженность во времени, как если бы она была не изобразительным искусством, а музыкой или литературой.
Внизу нас попросили немножко подождать. Мартироса Сергеевича пока донимали иностранные поклонники. Мы хотели удалиться, но нас, по просьбе художника, задержали.
Первое впечатление: Сарьян, несмотря на усталость от конвейера гостей, во всеоружии своих духовных сил. Гладко выбритое лицо его, иссеченное морщинами, светится добротой, умом и благожелательностью, слегка присоленной небольшой долей добродушного лукавства. Читает без очков. Мне приятно, что он нам это продемонстрировал на моей книге. Главным образом — на иллюстрациях к ней. Он одобрил их мастерство, а преувеличенная их условность не вызвала у него возражений. Это обрадовало мою спутницу. Сарьян посмотрел на нее, в глазах его, удивительно живых, мелькнула ирония, и он сказал:
— Вообще я про все говорю хорошо, потому что если что плохо, то зачем говорить об этом? Не поможешь...
Это уже целая философия примиренности. Я молчал. Я почему-то чувствовал себя в его обществе мальчишкой. А он, не отводя глаз от моей спутницы, вдруг спросил:
— Простите, вы по профессии не врач ли?
— Нет... — удивилась она. — А почему вы так подумали?
— Потому, — сказал он задумчиво, — что у вас взгляд полезный.
Он повторил настойчиво:
— Есть люди, у которых вредный взгляд, а у вас полезный...
Потом мы говорили о русских художниках. Он вспомнил своих учителей — Серова и Коровина.
Я хотел было сказать, что нахожу в нем больше Серова, чем Коровина. Но не решился.
Почему я чувствовал себя в его обществе таким мальчишкой? В конце концов, нас разделяет всего шестнадцать лет. Все дело, по-видимому, в возрасте. Если бы я встретился с Мартиросом Сергеевичем посредине жизни, между нами, конечно, лежали бы все те же шестнадцать лет. Но какая огромная качественная разница! Сорокалетний и пятидесятишестилетний в общем ровесники. И совсем другое дело — соотношение 73—89, здесь такая же пропасть, как между десятилетним и двадцатишестилетним. Иной уровень сознания. Отставая в детстве, мы нагоняем старших в зрелости и снова отстаем от них в старости.
Так, глядя на Сарьяна и слушая его речь, я видел перед собой великий покой мудрости, которой так недостает моей мечущейся, сумбурной семидесятитрехлетней молодости!
В маленькой мастерской Рубена Адаляна пахло свежим деревом. Куда ни посмотришь, холсты в новеньких, только что сработанных рамах или просто пустые рамы, так сказать форма без содержания. Рубен (молодой, невысокий, ладно сложенный, молчаливый и быстрый, в спецовке — рабочий, а наряди его в кольчугу и латы— рыцарь) подтвердил, что уже два месяца он не работает как художник, а только делает рамы, чтобы в пристойном виде показать свои картины какой-то высокой комиссии. Строит рамы, конечно, сам, своими рабочими руками художника.
Я люблю этот момент, когда художник начинает поворачивать картины лицом к зрителю. Долго молча стояли они, рядами прислоненные к стене, обратив к вам свою серую холщовую изнанку. Но вот художник повернул их, и они заговорили, закричали, запели, застонали или принялись уговаривать вас длинной и не всегда убедительной речью.
Я прежде всего потребовал, чтобы Адалян показал мне своего «Коня». Я знал его только по репродукциям. Тогда он очень понравился мне своей мощью, экспрессией движения, разрывающего неподвижность картины, удивительным соединением фантастичности и жизненности. Словом, я жаждал увидеть подлинник его в настоящих размерах, а главное — в цвете. Не вышло! В мастерской «Коня» не было. Художник показал мне одноцветную копию и только добавил, что в картине преобладает гамма пожара — красные, желтые, пламенные тона.
Зато я увидел в подлиннике «Быка», который прежде тоже остро заинтересовал меня в воспроизведении. Несомненно, это одна из сильнейших работ Адаляна. Картина проста. Бык, маленький, но мощный, стоит, угрожающе нагнув свою могучую шею, против огромного, не помещающегося в раме, мучительно однообразного здания, уходящего куда-то в бесконечность своими бездушными, стандартными колоннами. Пусть говорят, что это символично, что это экспрессионизм, что это «фигуративная абстракция» и т. п. Не знаю и не хочу пускаться в искусствоведческий спор и перебрасываться специальной терминологией. Для меня бесспорно, что созерцание этой картины рождает много ассоциаций — о противостоянии природы и цивилизации, порядка и стихийности, свободы личности и бюрократического равнодушия. Показал Ада-лян также и свою «Хиросиму». Непонятно, почему эта яркая вещь не была принята в Москве на выставку. И в Ереване она попала на выставку не без труда, а в конце концов получила премию. Работа, безусловно, интересная, хотя должен сказать, что после того, как я видел на площади в Роттердаме знаменитую скульптуру Цадкина «Истерзанный город», все другие вещи этого плана мне кажутся вариантами цадкинского решения темы.
Адалян самый не армянский художник из всех, кого я здесь видел. Конечно, и в нем сильно национальное начало. Но в целом в его работе есть оттенок отказа, даже протеста против канонизирования примет Армении — солнечности, каменистости, охристо-желтоватой розоватости и т. п.
А потом пошли и вовсе непривычные вещи. Они шли сериями. Серия аппликаций. Серия словно бы городов. Серия словно бы рукописей. Словно бы горных обвалов. На голубом фоне сложный зигзаг, который я мысленно назвал «Приключения линии». Другой зигзаг — черный, который я, на этот раз вслух, назвал: «Черная молния» — и был удовлетворен, услышав, что картина так и называется.
Было много неожиданного. Щедрый художник! Очень широкий. Очень искусный, иногда напоминающий изобретателя. А иногда я вспоминал замечательные слова Ованеса Туманяна: «Когда говорят, здесь есть вино, вы понимаете, что оно в сосуде. Но если скажут: здесь есть сосуд, — это ведь не означает, что в нем есть вино».
Уже уходя, в углу мастерской я заметил небольшую картину, до того не похожую по манере на работы Адаляна, что я принял ее за работу какого-то другого художника. Нет, это был Адалян, вполне реалистический портрет женщины, написанный рукой мастера в строго классическом стиле.
Когда великий Сарьян увидел эту картину, он сказал Адаляну:
— Ну, раз вы и так умеете, то вы вольны делать в искусстве все, что хотите...
Путешествуя по Армении, я в конце концов сказал себе: «Углубимся в историю, но не позволим ей овладеть нами». В Армении столько древностей, что возраст их постепенно перестает поражать воображение. Начинает казаться совершенно естественным, что Эчмиадзинский храм воздвигнут в 301 году. Ну и что ж, Арарат еще древней.
В Сардарабад нас влечет памятник. Нет, не древний. Совсем новый. Даже как будто еще и не законченный. Однако если мы решили не позволить истории овладеть нами, то попробуем сами овладеть ею. Придя к этому благоразумному решению, я не смог выполнить его. Не существует ни одного описания Сардарабадской битвы. Героический подвиг армянского народа, совершенный не в темных глубинах средневековья, а пятьдесят лет назад, запечатлен не на бумаге, а в камне, не историками и поэтами, а ваятелями и зодчими. То немногое, что мне стало известно о Сардарабадской битве, я узнал из устных рассказов.
Араратская долина, через которую мы едем в Сардарабад,— это совсем другая Армения, не похожая на ту, что мы видели до сих пор. Огромная плоская равнина. Вся гористость стянулась в одно место: Большой Арарат неотступно сопутствует нам, шествуя по горизонту в сопровождении своего адъютанта — Малого Арарата, от которого его отделяет Сардар-булакская седловина.
Плодовые сады, распаханные поля, виноградники... Эта страна Ноя густо населена. Села почти смыкаются друг с другом. Дома из розового туфа, крытые шифером. Много легковушек, мотоциклов. Тягачи влекут на парфюмерные фабрики грузовики, набитые геранью. Иногда попадаются белые солончаки, и рядом с яблонями и гранатами соседствуют тамариски и верблюжьи колючки.
Сардарабад заявляет о себе издали грандиозными воротами, составленными из двух колоссальных быков, протянувших друг к другу массивные головы на мощных шеях. Они символизируют силу армянского народа, отразившего в 1918 году на этом холме нападение турецких орд. Против 53-тысячного войска интервентов бросились в бой 17 тысяч армян и русских. Из них 10 тысяч — солдаты бывшей царской армии, остальные — добровольцы из гражданского населения. Память о резне 1915 года была совсем свежа. В Эривани началась паника. Армянские бойцы стояли насмерть. Среди них было пятьсот священников-смертников в белых саванах, с крестом в одной руке и мечом в другой.
Защитники отбили натиск турецких интервентов и обратили их в бегство. Особенно отличился 5-й полк. В его честь на холме воздвигнуты пять огромных пирамид из красного туфа, увенчанных орлиными головами.
Покинув Сардарабадский холм, мы долго еще, оглядываясь, видели гигантских быков, и высокую звонницу с памятными колоколами, и полукруглую стену с барельефами, изображающими боевые эпизоды, и эту пятерку красных орлов, которые словно поводили своими царственными головами, провожая нас.
Но вот снова Араратская долина, и мы катим вдаль по дороге, обсаженной золотыми тополями.
Странствую — значит, живу.
1970
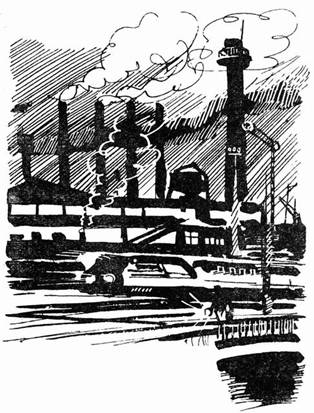
ИЖОРЫ ТРИЖДЫ
— Где вы были?
И стоит только мне сказать, что я провел это время на Ижорском заводе, как собеседник, кто бы он ни был, выдает с точностью автомата, в который вы опустили монету:
Подъезжая под Ижоры...
Похоже, что, кроме этой пушкинской строки, в которой, как муха, жужжит буква «ж», мало кому что-нибудь известно об этом замечательном явлении русской истории и современной действительности.
Партийный комитет помещается в памятнике архитектуры, в здании, украшенном старинной четырехугольной башней и возведенном зодчим В. И. Гесте полтораста с лишним лет назад. Неподалеку от новых цехов, блистающих эстетикой современного промышленного строительства, стоят приземистые петровские цехи, оснащенные, впрочем, ультрапередовой техникой.
Эпохи смешались и в моих встречах с Ижорским заводом. Впервые я увидел его в тридцать первом году, в начальную пору индустриального преобразования России. Вторично — в сорок первом, когда завод и весь город Колпино стали передним краем обороны и здесь был огненный ад.
В третий раз — в наши дни.
Пространство завода необозримо, как необозримо и время его, как необозримо и его людское разнообразие. Оно-то и влечет меня к себе более всего — рабочие династии, чьи поколения сменяют здесь друг друга на протяжении веков.
Для того чтобы уразуметь исторические судьбы этого ядра российского пролетариата, заглянем хоть ненадолго в петровский корень завода.
В 1703 году Петр I повелел построить в сих местах лесопильни. Отсюда сплавляли пиленый лес в Санкт-Питербурх, на Адмиралтейский двор. Эти лесопильни, или, как их тогда называли, «пильные мельницы», царь пожаловал своему любимцу, бывшему денщику, едва умевшему подписать свое имя, Александру Даниловичу Меньшикову.
Кроме Ижор фаворит получил под свое управление Новгород, Старую Руссу, Великие Луки, Торопец, Каргополь, Псков и другие земли. Однако Ижоры были в особом положении. Здесь Меньшикову повелено было поставить завод «для плющения меди, цепей, металла, якорей». Особое положение Ижор отразилось в новом титуле Меньшикова. «Полудержавный властелин», как его назвал Пушкин, стал именоваться «светлейший князь Ижорский».
Не один он был одарен поместьями. Огромные земли были розданы и другим приближенным царя, притом с непременным обязательством возводить строения,— иначе дар отбирался. Потребовалась рабочая сила. Здесь были поселены каменщики, кирпичники, обжигальщики и другие рабочие. Их наделили землей, положили им жалованье.
Ижорский завод встал в 1722 году. За последнее пятидесятилетие он преобразился несравнимо разительнее, чем за предыдущие двести лет.
Долгое время завод числился за морским ведомством. В самом названии его появился флотский оттенок: Ижорский Адмиралтейский. В шестидесятых годах прошлого столетия русское правительство стало стремиться к независимости от заграницы в создании военного флота. К концу века на Ижорском заводе работало уже полторы тысячи человек, а к первой мировой войне число их перевалило за три тысячи. Из ижорской стали были построены линкоры «Гангут», «Петропавловск» и другие. Стальная броня стала специальностью и славой Ижор.
Но те же рабочие руки, которые ковали броню для укрепления самодержавия, одновременно в подполье отливали оружие для его свержения.
Передо мной «Уведомление». Ему свыше шести десятков лет. До сих пор оно дышит жаром девятьсот пятого года.
«Уведомление временно исправляющего должность Начальника Петербургского губернского жандармского управления господину Петербургскому губернатору.
5 декабря 1905 года.
Секретно.
Помощник мой в Царскосельском и Петергофском уездах подполковник фон Плато донес, что 2 сего декабря полицейским надзирателем фабрично-заводской полиции при Адмиралтейском Ижорском заводе, что в посаде Колпино, получены были сведения о том, что в чугунолитейной мастерской тайно производится отливка бомб...»
После Октябрьской революции ижорская сталь пошла служить народу.
— Ленин-то, когда в семнадцатом приехал из-за границы в Питер, первым делом к нам, — сказал мне старый ижорец, с которым мы ходили по заводу.
— Прямо-таки к вам? — усомнился я.
— А вы вспомните, куда он приехал.
— Да что ж вспоминать-то! Общеизвестно: на Финляндский вокзал.
— Ну, а там?
— А там с броневика сказал речь к народу.
— Вот! Я и говорю!
— Что? — не понял я.
— Броня-то на броневике наша, ижорская. На ней он стоял.
Да, это был ижорский броневик. Он находился на вооружении бронедивизиона и действительно участвовал во встрече Ильича на Финляндском вокзале.
В то лето броневик этот был неотделим от большевиков. Он охранял Центральный Комитет партии в бывшем особняке Кшесинской, он шел с наступающими рабочими на Зимний дворец, он стоял на страже у Смольного. Бойцы прозвали броневик «Враг капитала».
Когда я прошел на завод через главную проходную, я остановился в изумлении: «Враг капитала» стоял передо мной, водруженный на пьедестал. Неужели его перевели сюда из Ленинграда? Когда ж успели? Только на днях я видел его у входа в филиал Центрального музея В. И. Ленина, где он, превратившись в монумент, стоял много лет.
Спутник мой рассмеялся. Оказалось, что здесь, на заводе, копия, любовно изготовленная ижорцами к пятидесятилетию Октябрьской революции. Копия скрупулезно точная, вплоть до рисунка протектора на шинах и двойного рулевого управления.
Бесспорно, у ижорцев особые права на исторический броневик. И можно понять чувства ижорцев, гордящихся тем, что сталь, ими выкованная, была первой трибуной Ильича в России. Но гораздо более значительную роль сыграли те семнадцать броневиков, которые ижорцы привели с завода в Петроград в ночь с 24 на 25 октября (то есть с 6 на 7 ноября) 1917 года для охраны Смольного и борьбы с юнкерами.
— А в гражданскую войну, — добавил мой собеседник, — наш завод был основным поставщиком танков.
Я кое-что знал об этом и сказал:
— Да, это верно, вы, да московское «АМО», да сормовичи.
— Ну, и сормовичи, — неохотно согласился он.
Вспоминая о своем первом свидании с Ижорским заводом, я окунаюсь в молодость страны и тем самым в свою молодость. Над русскими просторами вставали дымы первых пятилеток. Причина, которая привела меня в те дни именно на этот завод, отнюдь не его древняя родословная. Напротив, острейшая злоба индустриального дня — постройка первого советского блюминга.
Сейчас блюминг никого не удивляет. Это привычная подробность любого крупного металлургического предприятия. Десятки наших блюмингов работают в стране. И не только у нас. Несколько лет назад был я на крупнейшем польском металлургическом комбинате в Новой Хуте, под Краковом. Там я наблюдал точную и, я сказал бы, красивую работу огромного блюминга, обжимавшего раскаленные стальные слитки. Подойдя к его станине, я увидел на ней фабричную марку советского предприятия.
Но в ту пору, то есть примерно сорок лет назад, даже самое слово это — блюминг — было в новинку.
И надо же быть такому совпадению! Когда я сейчас посетил Ижорский завод, я, естественно, заинтересовался производством блюмингов, чтобы посмотреть их современное состояние, сравнить с прежним, может быть увидеть кого-нибудь из старых работников.
Мне сказали:
— Спешите. Мы сейчас проектируем последний блюминг. Больше их производить не будем.
Тут же мне сообщили, что тот первый блюминг весом в 3 тысячи тонн просто малютка по сравнению с этим последним, который будет весить 10 тысяч тонн и обжимать 24-тонные слитки (вместо 7-тонных первого).
Первый и последний! Между ними эпоха! Люди состарились, коллектив помолодел. Нынче каждый второй ижорец не достиг тридцати лет.
В начале тридцатых годов партия поставила перед страной задачу: поднять производство металла. Первыми откликнулись сталеплавильщики. За короткое время колоссально возрос тоннаж печей. Магнитогорские мартены достигли емкости в 150 тонн. (Кстати, сейчас на заводе установлен мартен в 250 тонн.) И вот тогда-то на вызов мартенов машиностроение ответило блюмингом.
История его создания полна драматизма. Поначалу решили заказать блюминг заграничной фирме, ибо невозможно было предположить, что молодая советская промышленность в состоянии произвести на свет это мощнейшее орудие металлургии, представляющее из себя огромный оркестр сложных механизмов.
Американская фирма «МЕСТА» запросила 8 с половиной миллионов долларов. Немногим меньше — германская фирма «ДЕМАГ», притом только за чертежи.
Решили строить собственными силами.
Немало заводов было обследовано с этой целью. Нужно было остановиться на таком, который обладал бы оборудованием и машиностроительным, и металлургическим. Выбор пал на два завода — Ижорский и Старокраматорский. Впоследствии Старокраматорский отпал: не осилил блюминга. Пытался, но не сумел. Оставался Ижорский.
Он тогда, как говорится, распечатал третью сотню своей жизни. Оборудование его было частично столетней давности. Не было печей нужной мощности. Подвижной состав не соответствовал грандиозности замысла. Не хватало даже простейших инструментов, сверл, резцов.
Вот пример. Основным цехом по постройке блюминга стал цех № 2. (Замечу в скобках: сейчас возле него стоит обелиск, воздвигнутый в память ижорцев, павших смертью храбрых в годы Отечественной войны; среди них было немало творцов того исторического первого блюминга — они покоятся в холме под обелиском.)
В этом цехе стоял станок, известный среди рабочих под дружески-фамильярной кличкой «Марья Ивановна». Было ему — страшновато вымолвить! — более ста лет! Этот долгожитель работал, соответственно своему почтенному возрасту, нестерпимо медленно и отличался трудным, норовистым управлением. «Марью Ивановну» использовали только для грубой обдирки.
На этом-то допотопном чудище Николай Яковлев, токарь высокого искусства, сумел, приспособив специальные суппорты, выточить две оси для ступенчатых роликов поразительной чистоты и точности.
Здесь, собственно, и начинается ответ на давно напрашивающийся, хотя и невысказанный покуда вопрос: каким образом это старинное предприятие с безнадежно отсталым оборудованием сумело создать сложнейшее чудо техники тех лет?
Решение этой загадки заключается в том, что, помимо материальной части, на вооружении ижорцев была и часть моральная: сознательность, упорство, находчивость и — не побоюсь сказать этого — культура труда.
Да, культура русского инженера и русского квалифицированного рабочего. Она была особенно жива на этом старом заводе. Еще раз отдадим должное прозорливости Серго Орджоникидзе, тогдашнего наркома тяжелой промышленности, который избрал для постройки блюминга именно этот древний завод, хотя в стране уже появились, новые предприятия с современным оборудованием. Но мертвый инвентарь не мог спорить с преимуществами традиций и навыков мастерства, накопленного веками.
Мне хочется тут же отметить, что у нас еще нередко недооценивают высоту русской технической мысли, русского инженерного искусства. Все еще в ходу эффектная и поверхностная теория «чуда» преображения России лапотной в Россию индустриальную. Но «чудеса» не возникают на голом месте. Точно так же, как русская социальная революция опиралась на многолетнюю работу партии большевиков, русская индустриальная революция опиралась на знания, опыт, искусство русского инженера и умельца рабочего.
Я помню те удивительные дни. Неожиданные препятствия возникали на каждом шагу. Их мягко называли «трудности». Одна такая «трудность» возникла, когда приступили к формовке станины блюминга. Дело даже не в том, что каждая станина весила 65 тонн. А в том, что в месте формовки вдруг обнаружились грунтовые воды. Встреча воды и жидкого металла это взрыв. И вот решение: соорудить над водами бетонный кессон.
Взялась за это ударная бригада Бахвалова.
Константин Михайлович Бахвалов и сейчас живет в Колпине, неподалеку от Ижорского завода. В ту пору ему было около тридцати лет, а работал он на заводе с шестнадцати.
Возвращаюсь к морозной ночи 1930 года, просвистанной резкими порывами сырого балтийского ветра. Для кессона нужна была яма двухметровой глубины. Работали руками. Это сейчас Ижорский завод строит экскаваторы. А тогда их и в помине не было. Лопаты не всегда брали мерзлую почву. Долбили ее кирками. Шли все глубже в землю. В свете прожекторов фантастически плясали изломанные тени людей. Ветер расшатывал тепляки. Ночь прошла, занялось утро. Но только к полудню рабочие удовлетворенно посмотрели друг на друга. После одиннадцатичасовой непрерывной работы кессон был сделан.
Возвращаясь мыслями к тем временам и вспоминая старых товарищей, К. М. Бахвалов замечает о молодом рабочем Алексее Шувалове:
— В 1931 году я присутствовал при рождении таланта...
Талант! Вот слово, которое почему-то редко применяется к труду рабочего. Говорят и пишут обычно, желая оценить по достоинству его труд: сметка, настойчивость, трудолюбие. Все это, несомненно, присутствует в сложной работе сталевара, листопрокатчика, токаря, любого квалифицированного рабочего. Но ведь самое главное, как и во всяком творческом усилии, талант.
В связи с этим позволю себе ненадолго перенестись в наши дни. Сейчас на Ижорском заводе, в 121-м цехе, работает сталевар Николай Арсентьев. Я познакомился с ним в одном из тихих кабинетов заводоуправления. Николай Иванович произвел на меня впечатление человека сдержанного, сосредоточенного, целеустремленного, скупого на слова, точного в выборе их. Когда вскоре я увидел его в цехе, я убедился, что один и тот же стиль поведения характерен для Арсентьева и в быту, и у огненной печи, где варилась сталь. Ни одного лишнего движения, ни секунды проволочки, тот же целесообразный лаконизм, снайперская точность во всех звеньях работы. И к этому — особенная ритмичность, та совершенная спаянность с подручными, которая отличает работу дирижера или режиссера, — словом, любой творческий процесс, протекающий в коллективе. Я не удивился, узнав, что в минувшем году бригада Арсентьева выплавила сверх плана 400 тонн стали.
Возвращаясь к Бахвалову, я должен сказать, что Константин Михайлович прекрасно понимает и не раз подчеркивает признак талантливости в своих интереснейших записках, хранящихся в маленьком, но насыщенном колпинском музее. Вот, например, его замечание о бригадире такелажников Михаиле Зарубине, погибшем в первые месяцы войны под стенами родного завода.
«Его дарование, — писал К. М. Бахвалов, — в сочетании с острым юмором служили средством к сближению коллектива, укреплению дисциплины и дружбы...»
Блюминг, подобно человеку, созревал в чреве завода девять месяцев и родился на божий свет 26 апреля 1931 года, на два дня раньше запланированного срока. Официально он назывался: «Блюминг 1150 Первый Советский». Да и на всей планете этих индустриальных слонов было не много. Первый советский был тринадцатым в мире.
Серго Орджоникидзе, добрый гений русской индустриализации, лично, как и Киров, следивший за созданием блюминга, писал в «Правде» в те дни:
«Производство на Ижорском заводе в короткий срок мощного блюминга является блестящим доказательством, что может при желании русская техническая мысль...»
Это был большой праздник.
«Было радостно...» — вспоминает Бахвалов.
И неожиданно заканчивает:
«...и немного грустно».
Почему? Откуда родилась эта грусть после блестящей победы?
Бахвалов поясняет:
«Радовался тому, что успешно закончил работу. Грустил оттого, что большой кусок жизни, полной забот, тревоги, напряженного труда, уже позади...»
Историческому блюмингу ныне под сорок. Но он не превратился в музейный экспонат, а продолжает по-прежнему работать на Макеевском заводе. Недавно «старик» отпраздновал своеобразный юбилей: он обработал за свою жизнь 50 миллионов тонн металла, в ознаменование чего макеевцы выпустили медаль. В центре ее отчеканен силуэт блюминга.
Всякий раз, когда я приезжаю в Ленинград, воспоминания о годах войны овладевают мной со щемящей силой. Ничто не может затереть в памяти день 30 августа сорок первого года, когда легковая машина газеты «Красная звезда» проскользнула сквозь станцию Мга и въехала в Ленинград, завершив таким образом свой путь из Москвы.
На корпункте (он помещался в начале Невского) нам рассказали, что накануне, то есть 29 августа, удалось отправить два поезда с эвакуированными женщинами и детьми. Это были два последних поезда из Ленинграда.
К ночи 30 августа немцы овладели станцией Мга, и таким образом за спиной корреспондентов «Красной звезды» захлопнулась последняя дверь в Ленинград. Редакционное поручение удалось выполнить. Один из них был поэт Михаил Светлов, другой — автор этих строк.
Пребывание в Ленинграде дало мне возможность снова побывать на Ижорском заводе, — ведь до Колпина рукой подать, двадцать минут езды на машине. Меня влекли туда не лирические воспоминания о первом блюминге. Не до лирики было в грозные дни ленинградской блокады.
Мы помним, как неожиданно началась война. Старый ижорец показал мне сохранившийся у него плакат:
22 ИЮНЯ 1941 Г. СОСТОИТСЯ ЭКСКУРСИЯ
В ПЕТЕРГОФ.
СБОР У ПРОХОДНОЙ В 9.00
А через два месяца возле этой проходной загрохотали бои.
За день до нашего приезда в Ленинград, то есть все того же 29 августа, на территории завода разорвался первый немецкий снаряд.
Забегая несколько вперед, скажу, что с этого дня Ижорский завод сделался излюбленной мишенью гитлеровской артиллерии. Когда в те дни я приехал к ижорцам, я увидел высокую трубу, торчавшую голо и одиноко посреди развалин цеха № 2 (того самого, где за десять лет до того я наблюдал рождение блюминга). Канонада не умолкала круглые сутки. Считайте сами: в тот месяц, то есть с 29 августа по 1 октября, на пространстве завода разорвалось 657 снарядов. В те же дни немецкая авиация бомбила завод четырнадцать раз, то есть в среднем через день. Скорбные итоги этого месяца: 172 раненых и убитых.
День 29 августа особая мета в военной истории Ижорского завода. Не только потому, что на его территории упал первый снаряд. Случилось нечто гораздо более грозное: враг подошел к так называемой Третьей колпинской колонии — это в пяти километрах от завода. А ведь на этом, направлении Колпино было последним форпостом перед Ленинградом. (Надо ли говорить, что Ижорский завод и небольшой городок Колпино — это одно и то же. Город и завод тесно переплетены. О близости Колпина к Ленинграду говорит хотя бы то, что сейчас городок этот стал одним из районов Ленинграда.)
Но еще за девять дней до этого, двадцатого августа, когда фронт придвинулся к Любани, ижорцы сформировали свой батальон. Правда, и до этого немало ижорцев влились в народное ополчение, в истребительные отряды, в противовоздушную оборону.
Но свой батальон — это совсем другое.
Я не знаю, было ли в составе Советской Армии еще подразделение или часть, сохранившая в своем названии имя предприятия. Во главе 72-го отдельного пулеметно-артиллерийского рабочего Ижорского батальона стали два своих работника: инженер-металлург, лейтенант запаса Георгий Водопьянов и его заместитель по политической части, председатель заводского комитета Георгий Зимин. Начальником штаба был назначен технолог одного из цехов А. Еремеев. День 21 августа стал в дальнейшем полковым праздником Ижорского батальона.
Он был сформирован вовремя. 27 августа 39-й немецкий корпус захватил Тосно и двинулся на Колпино.
Вот запись в боевом журнале Ижорского батальона об одном из первых боев под стенами завода:
«...В 6 часов утра отборная рота ефрейторов, смяв боевое охранение, ворвалась в юго-восточную часть Третьей колонии1 и заняла шесть домов. Станковые пулеметы взвода Чернова и взвод 1-й роты Рудзита остановили продвижение противника. Во время контратаки, сраженный вражеской пулей, пал Рудзит. Фашисты забаррикадировались около домов и открыли огонь. В 12 часов дня бронемашины ижорцев, зайдя во фланг противника, подбили орудие и вывели из строя пулеметные расчеты. В 24 часа ижорские подразделения заняли исходное положение для атаки. Ночным боем руководили Водопьянов и Зимин. Ижорцы шли в атаку за бронемашинами. Колония была полностью очищена от противника. Фашисты отступили к Красному Бору, оставив на поле боя около 40 убитых. Были взяты в плен фашистский ефрейтор и офицер.»
__________________
1В старое время в окрестностях Колпина были земледельческие колонии — немецкие, эстонские, финские. Впоследствии на их месте возникли совхозы, но старые названия — «колоний» — бытовали еще долго.
Их много, этих подневных записей, повествующих с эпической простотой о том, как сражались ижорские сталевары, токари, профработники, инженеры. Сопротивление ижорцев выводило из себя гитлеровцев. Они кричали по радио:
«Ижорцы, как вы ни переодевайтесь, а мы все равно считаем вас партизанами и будем расправляться как с партизанами — вешать!»
В то время, когда одни ижорцы сражались, другие не переставали работать. Я не берусь сказать, где было горячее: на фронте или за станками. И там, и тут пролегал огненный рубеж. До конца года на заводе было убито и ранено около трехсот человек. Некоторых я знал — начальника мартеновского цеха № 2 Шмакова, листопрокатчика Фалолеева и других.
Приезжая в Ижоры, я видел могучий бастион, сооруженный в поразительно короткое время. Здесь, как и в Пулкове, был мощный артиллерийский кулак, защищавший Ленинград. У орудий стояли рабочие в пальтишках, подпоясанных ремнями, с гранатами в карманах.
За спинами их дышал израненный завод. Он жил и работал. Там ремонтировали танки, делали броневые щиты для дотов, волокуши для раненых, из труб — реактивные снаряды для «катюш»...
Те, кто в мае сорок пятого года вошли с армией в Берлин, могли прочесть на одной из стен рейхстага:
За разрушенное Колпино, за Ижорский завод!
Майор А. Щербаков.
Александр Алексеевич — потомственный ижорец. Отец его старый сталевар. Одиннадцать его детей связали свою судьбу с заводом. После войны Александр Алексеевич вернулся в родной механосборочный цех. 72-й Ижорский батальон снова стал заводом. Демобилизованные ижорцы, украшенные боевыми орденами, заполнили искалеченные цехи. Завод-боец принялся залечивать раны.
Среди вернувшихся был и Владимир Горюнов.
— Я один старик в цехе, — говорит он, улыбаясь несколько смущенно, словно извиняясь.
Мы идем по бульвару Свободы. Ветлы склоняют над водой свои могучие ветви. Неспешно течет Ижора (в старину — Ингра), толкая свои медлительные воды в Неву. Проходим мимо памятника в честь воинов 72-го батальона. На нем бронзово сияют слова:
СЛАВА ИЖОРЦАМ — БЕССТРАШНЫМ
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА!
Я смотрю на Горюнова и думаю: «Какой же ты старик!»
Он, словно угадав мои мысли, говорит:
— Ведь мы, металлурги, проходим по первому списку. Нам пенсия идет с пятидесяти.
И он прибавляет, вздохнув:
— А мне пятьдесят семь...
Постепенно, шаг за шагом, я проникаю в его прошлое и настоящее. Это такая обыкновенная и такая героическая история жизненного пути русского рабочего. Сын мастерового, медника, Горюнов работал здесь, в 11-м цехе, сначала подкрановым, потом прошел разные специальности, наконец добрался до того, что стало делом его жизни, — до листопрокатки. Жил он не в самом Колпине, а неподалеку, в Никольском. В сорок первом немцы отрезали Никольское. Горюнов ушел в партизаны. В отряде имени Ленина, где комиссаром был П. М. Машеров, ходили под Невель и дальше — в Латвию, в Литву. А с сорок третьего Горюнов в армии — старшим сержантом пулеметчиком. Сейчас на груди его, рядом с медалью «Слава» и другими боевыми орденами, звезда Героя Социалистического Труда.
Прошел весь путь Ижорского батальона и другой Герой Социалистического Труда — Афанасий Прокопьевич Михалев. Шестнадцатилетним мальчишкой он начал этот путь. Только из ремесленного направили его на практику в 5-й цех, как разразилась война. Вернувшись на завод, он стал огнерезом, потом бригадиром слесарей. Слова эти, наименования профессии, сами по себе еще ничего не говорят. Надо увидеть людей у могучих прокатных станов, возле пылающих водопадов стали (правильнее сказать — сталепадов), низвергающихся в ковши, за гигантскими прессами, мнущими и формующими металл. Я читал мемуарную рукопись инженера Георгия Вениаминовича Водопьянова, бывшего командира Ижорского батальона. Эта интересная рукопись помогла мне представить себе боевой путь ижорцев. Но только когда я увидел Водопьянова на работе в 121-м цехе, которым он сейчас командует, я понял природу этого человека, соединяющего в себе мягкость и силу.
На Ижорском заводе всегда сильно было семейное и даже родовое начало. Оно идет не только вглубь, в историю, но и вширь. Сын поступил в цех после отца, младший брат, подрастая, тянулся за старшим. О разветвленной семье Щербаковых я упоминал. Кроме нее вы найдете на заводе трех братьев Матвеевых, братьев Рыбаковых, отца и сына Александровых, братьев Жигель, семью Соколова, чей дед работал еще на Адмиралтейском, отца и сына Рожковых и много других. «Нам продолжать дела отцов!» — пишет от имени молодежи живая, интересная многотиражка «Ижорец», тоже насчитывающая почти полвека существования.
Пойдете ли вы в самый город — и там ижорцы. Колпином, в сущности, управляют свои, заводские. Секретарь райкома партии Борис Петрович Таукин — ижорец. Оттуда же председатель исполкома Александр Павлович Параничев.
Николаю Залесских вы никак не дадите его сорока с лишним лет. Живость движений и речи, блеск глаз, быстрота реакций, весь тонус его существа дышат далеко не истраченной молодостью. Жизненный путь его, как у многих старых ижорцев, отмечен стремительным ростом. Начав когда-то токарем-инструментальщиком, Николай Александрович сейчас возглавляет одну из лабораторий по автоматизации и механизации производства. И, как многие ижорцы, он воевал.
Стрелок, пулеметчик, разведчик, Н. А. Залесских, как он сам выражается, «в свободное время ходил на передовую снайперить. А передовая у нас в ту пору была рукой подать — под Ям-Ижорой. Я и сейчас туда хожу...»
Он улыбается и добавляет:
— ...по грибы.
Если вы заглянете к нему домой, он вам покажет одну из своих наград, которую встретишь не часто: именную снайперскую винтовку. Вспоминаю, что, когда я был на Ленинградском фронте, ижорские снайперы считались там лучшими. У Н. Залесских на счету сто двадцать пять фашистов. Он кавалер двух орденов Славы.
А в цехе он вам покажет зачистные машины, сконструированные в его лаборатории. Ведь раньше стальные листы зачищались вручную. Тяжелая работа, — стоя на коленях, вертеть наждачный круг, сметая окалину, выравнивая вмятины. За двенадцать часов проходили один квадратный метр. Сейчас рабочий стоит у пульта и легко маневрирует двумя наждачными кругами. Теперь квадратный метр отнимает не более двух часов труда.
Я не знаю, чему равняется площадь земли, занятой Колпином. Думаю, что она, во всяком случае, не больше территории завода. Когда вы спрашиваете, где вам искать технолога В. М. Кузовкина, или машиностроителя А. К. Ершова, или инженера Ю. Т. Черемисина, вам отвечают со сдержанной улыбкой: «В 124-м цехе». Улыбка эта вас настораживает тем более, что о таком цехе вы не слыхали. Да его и нет на заводе. Это шутка. Так называют город Ранчи. Он — в Индии. Но в каком-то смысле действительно можно сказать, что там один из цехов Ижорского завода. Ибо в этом индийском городе возводится завод тяжелого машиностроения, оборудование которого поставлено Ижорским заводом. А монтирует его и налаживает производство бригада ижорцев.
Поэтому хотя производство Ижорского завода весьма разнообразно, его можно назвать по преимуществу заводом заводов. Бригады ижорцев можно встретить и в Финляндии, и на Кубе, и в Болгарии, и на Цейлоне. На морских лайнерах Польши, Индонезии, Греции, Ганы работают судовые машины с маркой «ИЗ» (то есть «Ижорский завод»), так как на этом, быть может самом традиционном, русском заводе не меркнут навыки судостроения бывшего «Адмиралтейского».
В ковше горного экскаватора может свободно поместиться легковой автомобиль. Этот агрегат уникальный. За один взмах он нагружает грунтом ли, рудой ли 25-тонный самосвал.
А стоит ли делать такие великаны? Выгоден ли этот 12,5-кубовый экскаватор? Есть ли у него другие достоинства, кроме того, что он величайший в мире?
Есть. Дело в том, что чем больше ковш, тем ниже стоимость единицы перемещаемой породы или грунта. Не удивительно, что с таким нетерпением ждут его на крупнейших рудниках и угольных разработках страны. И прежде всего — на комбинате «Иртышуголь», который является его первым заказчиком.
И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!
Гоголь, «Ревизор»
Пятьдесят семь курьеров — это, конечно, не армия, но все же довольно солидный отряд, вся деятельность которого сводилась к разноске из заводоуправления в цехи приказов, уведомлений, распоряжений, да мало ли какие бумаги ежедневно рождает управление столь обширным предприятием, как Ижорский завод.
Сейчас из пятидесяти семи курьеров осталось два. Плюс связные машины, автомобильная кольцевая почта. Остальные ныне работают в цехах на производстве.
Смысл этой небольшой реформы не только в том, что пятьдесят пять человек сменили труд механический на труд производительный. Единственный вид голода, который испытывает Ижорский завод, — это голод на рабочую силу. В цехах беспрерывно вводятся все новые мощности. Но много ли значит энергия машины без энергии человека, его мозга, его рук!
Особенно это видно на примере одной из самых тонких отраслей квалифицированного труда — на работе станочников. Константин Михайлович Бахвалов, сам старый станочник, говорил мне с грустью:
— Неохотно идут люди на станки. Отпугивает ответственность: и скорости на современных станках большие, и точность требуется большая. Принято думать, что труд шахтера самый изнурительный. А ведь, знаете, редкий станочник дотягивает до пенсии, к пятидесяти годам бросает станок, потому что глаз, руки, голова уже не те...
Вот и получилось, что нехватка станочников исчисляется цифрой трехзначной. Думается, некоторую роль сыграла и материальная сторона. Рабочие могли бы перевыполнять нормы, несмотря на их жесткость. Но существует негласно установленный «потолок». А раз так, то станочник не заинтересован в том, чтобы использовать все возможности своего станка. Норму он выполняет еще до окончания месяца. А в оставшиеся дни работает с прохладцей.
В последнее время хозяйственная реформа, новый порядок планирования и материальной заинтересованности успешно с этим борются, упорядочивая ритм производства.
Когда вы сейчас подъезжаете по Октябрьской железной дороге к Ленинграду, внезапно посреди бегущих за окнами березовых рощ и сосновых боров, дачных коттеджей и заводских корпусов на мгновенье мелькнет, поражая вас блеском новизны, сияющее видение города. Это Колпино.
Хорошо помню его дымящиеся развалины. Немногие оставшиеся, здесь люди продолжали жить в них. Жить и работать в уцелевших цехах завода. Мертвых не хоронили. Их сжигали в заводских печах. За передним краем, в нейтральной зоне, лежала неубранная капуста. Каждую ночь в маскхалатах ползли за ней.
Я заглянул в официальную статистику. В Колпине до войны числилось 2183 дома. Из них к концу войны уцелело 372. Так по статистике. На деле их сегодня уже гораздо меньше, и они исчезают с каждым днем. Появление нового связано с исчезновением старого. Цифрам не угнаться за темпами жилого строительства в Колпине.
В первое время после войны Колпино застраивалось стихийно. Люди сами строили для себя жилье, как заночевавший в лесу строит себе шалаш, чтобы укрыться от непогоды. Правда, это были довольно благоустроенные «шалаши» о двух и трех этажах. Ижорцы возводили их действительно собственными руками. На заводе был даже организован специальный цех, где изготовляли силикатные плиты. Дома эти возникали быстро. В Колпине есть целый жилой район, построенный ижорцами для себя Дома добротные, но, разумеется, общего эстетического решения застройки не было. С тех пор далеко шагнуло Колпино.
В те годы, когда я впервые увидел его, в годы первого блюминга, в Колпине жило 31 тысяча людей. Через двадцать лет, в 1952 году, население удвоилось: 62 тысячи человек. Сейчас здесь — за 100 тысяч. Генеральный план Большого Колпина предусматривает в восьмидесятых годах нашего века— 180 тысяч жителей. Не мало ли? Не занижена ли эта цифра? Ведь завод беспрерывно расширяется. Он технически перевооружился и дает сейчас в пять раз больше продукции, чем до войны. Номера его цехов стали обозначаться трехзначными цифрами. Бывая здесь, не можешь отделаться от вопроса: кто же при ком — завод при городе или город при заводе? К примеру, Дом культуры принадлежит заводу. А пользуется им весь город. И это естественно, ибо что же такое, в конце концов, Колпино, если не составная часть Ижорского завода?
Сейчас Колпино — город с иголочки. Архитектурные ансамбли встречают вас, когда вы идете со станции. На фоне неба силуэты десятиэтажных домов. Магазины, рестораны, прозрачные кафе современного «аквариумного» тина. Город полностью газифицирован.
Несомненно, деятельному колпинскому предисполкома А, П. Параничеву помогало то обстоятельство, что он по профессии инженер. Вообще-то говоря, мэр города в идее личности универсальная. Он должен разбираться в правовых проблемах, быть не чуждым вопросам педагогики, не оказаться профаном и в делах здравоохранения. Да мало ли какие еще задачи ежедневно ставит перед ним жизнь города! Совсем не плохо, если он к тому же хороший психолог. Однако важнее всего для процветания города, если его руководитель инженерно мыслящий человек. Думаю, что именно эта черта в личности Александра Павловича сыграла решающую роль в растущем благосостоянии Колпина.
Я иду по древней ижорской земле. Я иду по земле, обильно орошенной потом и кровью многих рабочих поколений. Я ощущаю ее целостность, неразделимость. Хоть Ленинград под боком, ижорцы свободны от распространенной тяги в большие города. Да, они не отделяют себя от Ленинграда — любви и гордости России, но они гордятся и своим небольшим Колпином. И эту гордость ижорские ветераны воспитывают сызмала в своих ребятах. Здесь в обычае хорошее мероприятие — беседы старых рабочих со школьниками старших классов. Я присутствовал на одной из них. Седой металлург заговорил о слове «романтика», но с неожиданной стороны — о некоторой моральной изношенности этого слова.
— Через каждые три слова его употребляют, — сказал он. — Я слышал, между прочим, что уже есть печенье «Романтика». И, кажется, собираются выпустить эластичные носки «Романтика». Но что такое есть романтика, очищенная от пошлого словоупотребления? Это есть, как бы сказать, поэзия жизни!
И старый металлург среди увлеченно слушавшей его молодежи стал поистине вдохновенно разрушать миф о неполноценности физического труда.
Он напомнил о том, что все, что нас окружает, все, что мы едим, во что одеты, в чем живем, ездим, летаем, — все это сделано руками рабочих. Он приводил множество примеров, в том числе не забыл упомянуть о Московском метро:
— Москвичи мчатся в огромных металлических трубах, изготовленных на нашем Ижорском заводе.
Беседы эти имеют немалое значение, поскольку профессиональные училища не покрывают потребности в рабочей силе. И сейчас в цехах завода стало так много молодых лиц, что, глядя на них, думаешь: как же он молод, этот Дедушка Русских Заводов!
Обогащенный впечатлениями, я возвращаюсь в Ленинград. На вокзале знакомый спрашивает меня:
— Издалека?
— С Ижорского завода.
— А! — говорит он, немедленно щегольнув эрудицией. — «Подъезжая под Ижоры...»
1969
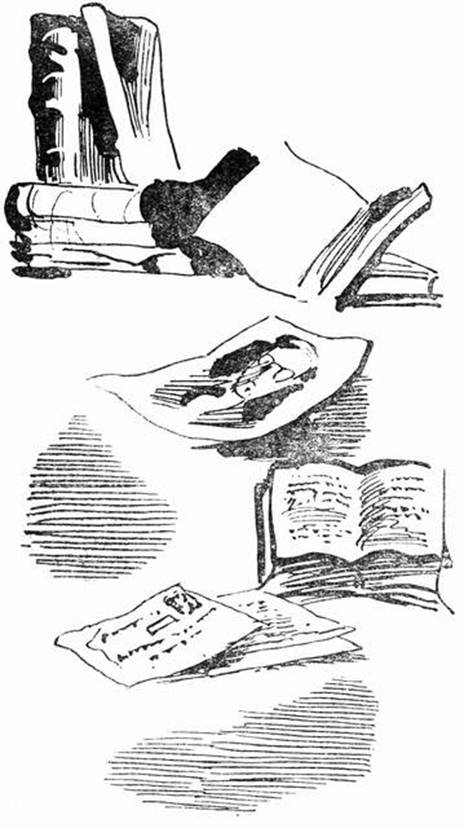
Портреты

ТАИНСТВЕННЫЙ ЦВЕТОК СПЕКТАКЛЯ
Я гуляю в фойе Камерного театра.
Вдруг вбегает молодой человек в белом свитере. Меня поразил его быстрый огненный взгляд, походка, мягкая и упругая, и какая-то особая изящная подвижность всего его небольшого, но соразмерно сложенного тела.
«Легкоатлет, — подумал я, — а еще вернее — пловец».
Я ошибся. Это был молодой актер молодого Театра имени Вахтангова. Это был Рубен Симонов. Имя его уже становилось известным в театральных кругах, особенно после блестящего исполнения роли Аметистова в комедии Булгакова «Зойкина квартира».
В тот момент я, конечно, и не подозревал, что со временем мне предстоит творчески сблизиться с ним.
Невелико усилие памяти, которое мне надо сделать, чтобы вспомнить работу вахтанговцев над «Интервенцией». Все видится ярко: ярки декорации Исаака Рабиновича, ярки Горюнов — Селестен, Синельникова — Ксидиас, Рапопорт — Филька. А всех ярче Рубен Симонов.
Я ведь и не помышлял писать пьесу. В те дни в журнале «Красная новь» появился мой роман «Наследник». Театр предложил мне преобразовать этот роман в пьесу. Но мне показалось попросту скучным вторично разрабатывать ту же тему. Я задумал другой роман — об иноземной интервенции на юге России в годы гражданской войны. Постепенно я стал замечать, что в руках у меня благодарный материал для драматического произведения. Вероятно, настойчивые предложения театра все-таки привязали мои мысли к сцене. В конце концов мы решили, что я напишу пьесу об интервенции в Одессе.
Работа оказалась чертовски трудной. Бывало так, что мне хотелось ее бросить. Возможно, я и бросил бы, если не Василий Куза. С необыкновенным упорством этот вахтанговский актер побуждал меня продолжать работу. У Кузы был своеобразный талант — вдохновлять писателей. Михаил Булгаков как-то сказал мне:
— Знаете, это не я написал «Зойкину квартиру». Это Куза обмакнул меня в чернильницу и мной написал «Зойкину квартиру».
Есть режиссеры, которые боятся автора. Боятся его вмешательства в замысел постановки, в трактовку образов, в самую манеру произносить написанные им же, автором, слова. Ибо, как бы ни клялись люди театра в своей преданности слову, оно подчас пребывает у них в обидном пренебрежении. Короче: есть постановщики, которые рассматривают автора, как своего естественного врага, и расставляют у входов в театр стражу, дабы автор не прокрался на репетиции своей пьесы.
Не таков был Рубен Симонов. В отличие от режиссеров-недотрог, он стремился к тесному общению с автором. Он понимал музыку слова, его ритмичность, его чувственную окраску. Страсть, заключенная в слове, и плоть его сливались для Симонова в одно живое существо. Он обращался к автору как к его первоисточнику.
Лев Толстой как-то сказал, что он наблюдал рождение таинственного цветка поэзии. Присутствуя на репетициях «Интервенции», я наблюдал рождение таинственного цветка спектакля. Он возникал в руках Симонова, сидевшего рядом со мной за режиссерским столиком, но то и дело вскакивавшего, взбегавшего на сцену и среди серых прозаических выгородок мгновенно создававшего мизансцену, яркую, острую и — что отраднее всего — выражавшую потаенную суть моей пьесы.
Жизнерадостность, наполнявшая душу Симонова, вселилась в режиссерское воплощение «Интервенции». И это как нельзя более отвечало тому строю чувств, которые я вкладывал в пьесу.
И какой рисунок! Рубен Николаевич очень чутко реагировал на удачные находки актеров (особенно щедр был на них Горюнов), тут же развивал их и доводил до такой четкости очертаний, что они начинали напоминать ожившую графику.
Иногда мы спорили. Меня не удовлетворяло исполнение одной из ролей. Не тот образ. А в сущности, никакого образа. В конце концов Симонов согласился со мной. Но не хотел заменять исполнителя.
— Я его разозлю, — сказал он, — и он у нас заиграет.
Этого не получилось. То ли этот педагогический прием не сработал, то ли Рубен Николаевич не разозлил его. Передумал. А, может быть, пожалел.
Симонов был человеком радостного таланта.
Но тут надо сделать оговорку. Не то чтобы он в искусстве чуждался трагедии. Его драматические образы были глубоки и значительны. А в то же время так насыщены жизненностью, так оптимистичны, что самое полнокровие их не только потрясало зрителя, но и доставляло ему наслаждение.
При этом чувство ритма владело Симоновым до такой степени, что проникало не только в его речь, но и в походку, в телодвижения, становилось мощным средством выражения. Никогда не забуду, как в «Гамлете» сбегáл Рубен Николаевич, игравший Клавдия, по широкой лестнице и красный плащ трепетал за ним, как крылья демона. И буря чувств, владевшая королем, каким-то непостижимым образом соединялась с ритмом этого бега, почти полета, по этой крутой полукруглой лестнице, возведенной Николаем Акимовым.
Конечно, Симонову была свойственна и некоторая приподнятость чувств, страсти облекались в нарядные одежды. Но в нужный момент он пускал в ход прием снижения. Когда патетика взлетала до зенита, еще мгновение — и она станет томительной, тогда приходил на выручку спасительный юмор. Это соединение гротеска и возвышенности я называл философией и балагурством и приводил в качестве классического примера сцену могильщиков в «Гамлете».
Когда вышел альманах «Год 16-й», я прочел там статью Горького «О пьесах» и в ней строки:
«Я написал почти двадцать пьес, и все они — более или менее слабо связанные сцены, в которых сюжетная линия совершенно не выдержана, а характеры не дописаны, неярки, неудачны».
Я показал эти строки Рубену Николаевичу.
— Хотел бы я знать, — сказал я, — это самоуничижение искренно или это сказано с воспитательной целью, так сказать, в поучение нам, молодым?
Симонов улыбнулся и ответил словно бы и не прямо, но в сущности это был прямой ответ, хоть и в форме вопроса:
— Вы помните, как выглядел Алексей Максимович на чтении «Достигаева»?
Еще бы!
Только что с огромным успехом прошел «Егор Булычев», а совсем недавно в верхнем фойе театра мы слушали чтение «Достигаева». Читал не Горький, а один из актеров. Горький сидел рядом с чтецом. Я смотрел на Алексея Максимовича не отрываясь. Он был взволнован. Он робко поглядывал на нас, слушателей. Рука его нервически сжимлась и разжималась, рука рабочего и интеллектуала, широкая, мощная, с длинными пальцами и крепкими суставами. И было странно, что этот старый, всемирно известный писатель, живой классик, стесняется и робеет, как начинающий автор. Странно и трогательно...
Несмотря на обилие в репертуаре пьес Горького, Театр имени Вахтангова не стал театром одного автора. Да я и не знаю такого советского театра, который был бы подобен Малому театру в эпоху Островского, или шекспировскому «Глобусу», или театрам Гольдони, Де Филиппо, Брехта. Да и с какой стати, предавшись одному автору, хотя бы и гению, театр должен пренебрегать «Ревизором» и «Свадьбой Кречинского»!
Конечно, Симонов ощущал Театр имени Вахтангова как продолжение себя. В его представлении он и театр слились в один организм. Но так же, по-видимому, должны были чувствовать себя и Щукин, и Захава, и Мансурова, и весь старый вахтанговский коллектив.
Впрочем, я не театровед, даже не драматург, я — прозаик. И пишу я сейчас не исследование о Рубене Симонове, а воспоминания о нем.
Тот, кого мы знали молодым, никогда для нас не стареет. Сквозь обрюзглость, морщины, телесную оцепенелость мы прозреваем его таким, каким он был в юности. Годы меняют нас, но они не властны над нашим воображением.
Жир обволок тело Рубена Симонова, некогда такое легкое. Он с трудом ворочал шеей. Одышка прерывала его речь. Походка стала затрудненной. Однажды он сказал мне с грустью, которая причинила мне боль:
— Когда-то я так хорошо бегал...
Однако на сцене с ним происходило чудо. В пьесе «Филумена Мартурано» он играл свой возраст. И хотя к этому времени физический облик Симонова изменился, но быстрота движений, изящество, графичность, пыл — все это вдруг возникло в образе Доменико Сориано. Мы увидели эгоизм, соединенный с добротой, и легкомыслие — с человечностью.
Другое свидетельство своего немеркнущего таланта Рубен Николаевич дал в сказке Маршака «Горя бояться—счастья не видать». Снова он волшебно слил, казалось бы, неслиянное. Его царь Дормидонт ничтожный, лукавый, даже подловатый, выглядел при всем том неотразимо симпатичным.
Человечный талант Симонова никому не мог отказать в душевности, даже подлецу.
В последние годы мы встречались не часто. Репертуар театра не всегда казался мне привлекательным. Большое искусство подчас уступало дорогу ложной проблемности.
Толстой сказал однажды, что этика и эстетика — это два плеча коромысла. Когда подымается одно, опускается другое. Конечно, высокого искусства без морали нет. Но в некоторых вахтанговских спектаклях плечо лобовых нравоучений стало задираться непомерно высоко. И тотчас — согласно этому «эффекту коромысла» — художественность пошла вниз. Оптимизм естественный выродился в оптимизм наигранный.
Вдруг Рубен Николаевич пришел на мой юбилей. Сердечность прорвалась сквозь шаблонную торжественность. Потом он пришел ко мне домой. Он сказал мне:
— Сделайте роль для меня.
Я начал писать пьесу. Я поделился с ним замыслом. Он одобрил его. У него была только одна просьба: он просил ввести в роль для него элементы музыкальности.
— Вы знаете, я ведь очень музыкален.
Он сказал это просто, с какой-то подкупающей наивностью. Он нисколько не хвалился этой своей чертой. Он просто сообщал о ней. Для сведения. Как если бы он сказал, например: «Знаете, я некурящий».
Я придумал роль для него. Притом такую, где был простор для его музыкальности.
Пьесу я не дописал, бросил. Не знаю, почему. Может быть потому, что не было рядом Кузы. То есть все по той же причине: проза всегда увлекала меня неизмеримо сильнее.
Но иногда я беру эти незаконченные сцены, перечитываю, и из этих набросков образ Рубена встает так живо! Возможно, только для меня...

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ
Есть писатели легкой судьбы. А есть — трудной. Все было у Андрея Платонова — талант выдающийся, обширная образованность, знание жизни. Одного не было дано ему: житейской ловкости. Но ведь отсутствие ее тоже украшает человека. Андрей Платонов был писатель трудной судьбы. А между тем по своей натуре он был человеком радостным. Даже в самые тяжелые для себя дни он сохранял светлый дух. Он жил с открытым сердцем.
Как-то в нехороший для него период, в последний год его жизни, когда он тяжко болел, зашел я к нему. Он сидел в кресле с книгой в руках. Поднял голову. Вижу: его некрасивое, простонародное, прелестное лицо светится веселостью. Заглянет в книгу и тихо засмеется. Это был довольно известный в ту пору роман, отнюдь не юмористический, — наоборот, сугубо «проблемный». Спрашиваю:
— Что вас так смешит?
Он говорит:
— Знаете, если бы это было написано еще немножко хуже, это было бы совсем хорошо.
Это был смех удивления. Платонова поразили почти пародийные несообразности этой книги, и впечатление его тотчас вылилось в этих немногих, убийственно метких словах.
В пору своей молодости Андрей Платонов любил иногда поиграть словом и образом, попробовать свои силы по-озорному: «А дай-ка я сюда поверну сюжет...», «А дай-ка я толкану своего героя поступить этак...» И поворачивал, и толкал. Это были забавы силача. Сам Платонов писал о них через много лет:
«Я совершил несколько грубых ошибок».
К сожалению, за этими ошибками кое-кто не увидел большого, мужественного, честного художника.
В 1950 году Платонову после долгого молчания удалось выпустить книгу сказок «Волшебное кольцо» — благодаря Шолохову, который поставил свое имя как редактора на этой книге. Это пересказ народных сказок, сделанный великолепным русским языком.
Вообще русское, национальное было выражено в Платонове очень сильно. Выражалось оно, разумеется, не в том, что он носил косоворотки с расшитым воротом или разражался декламацией о любви к родине. Но в языке, в образности, в военной судьбе, в характере мышления, даже в говорке. Оно, это русское, национальное, существовало в нем непроизвольно и естественно, как дыхание. Он всегда мне казался русским интеллигентом в самом чистом смысле этого понятия.
И вместе с тем кое-что в его писательском облике было родственно очарованию француза Экзюпери. И в этом нет ничего противоречивого: то, что по-настоящему национально, то по-настоящему и является общечеловеческим.
Своеобразным было отношение Платонова к природе. Инженер по образованию и по практической деятельности, он объединял цивилизацию и природу в одно разумное целое. Он писал в своей автобиографии:
«Рост травы и вихрь пара требуют равных механиков».
Случайно, походя, в разговоре обнаруживались его обширные познания в естественных науках, в философской литературе.
В природе для него не было ничего противного. Даже червь, которого находит мальчик Егор из рассказа «Железная старуха», червь, который обычно вызывает ощущение гадливости, так изображен писателем:
«Червь дремал... от него пахло рекою, свежей землей и травой. Он был небольшой, чистый и кроткий, наверно детеныш еще, а может быть, уже худой маленький старик».
В одной из своих критических статей, которые, кстати, отличает не только глубина мысли, но и изящество формы, Платонов писал «о литературе, которая действовала бы «напрямую», то есть кратко, экономно, но с глубокой серьезностью излагала бы существо того дела, которое имеет изложить писатель».
Это и было одно из характерных свойств Платонова как писателя и стилиста: он прямо идет к цели, не позволяет себе уклониться от нее ни на миллиметр. И он идет до дна, он беспощаден. Это толстовское свойство.
Энергия образности его временами поразительна. Вспомним старого паровозного машиниста из чудесного рассказа «Фро», которого перевели на пенсию, а он тосковал по работе и каждый день ходил в депо, и, пишет Платонов, «возвращался вечером худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения».
Говорят о гуманизме Платонова, о его любви к людям и т. д. Да, конечно. Но забывают о его сатирическом даре, о мече, который он не выпускал из рук.
Когда Платонов пошел на войну, снова, как и во время гражданской войны, выяснилось, что он обладает обоими видами храбрости — и интеллектуальной, и физической.
Кажется, в сорок втором году я встретил его на Тверском бульваре, у Дома Герцена, где он жил. Военная гимнастерка не щегольски, но ладно сидела на нем. Он приехал, помнится, из-под Ржева. Узнав, что я с Юго-Западного фронта, он встрепенулся:
— Ну как там, в Воронеже, Ямская слобода? У нас или у немцев?
Это была его родина. Он потребовал, чтобы я рассказал ему, какие дома в Воронеже разбиты. Лицо его темнело во время моего «доклада». Он ни минуты не сомневался в нашей победе. Кстати, его корреспонденции с фронта принадлежат к тем немногим военным очеркам, которые живы и сейчас.
Андрей Платонович очень любил детей, и я не знаю, что может сравниться с его циклом «Рассказы о детях» — по силе, поэтичности, нежности, великодушию, глубине, — разве что рассказы того же Экзюпери.
И этому человеку, который так любил детей, суждено было пережить потерю сына. Он умер от туберкулеза на руках у Андрея Платоновича, успев заразить отца.
Человек создан для счастья. Но оно когда-то было так редко, что в писателе не накапливался запас жизненных наблюдений о счастье.
И Платонов изображал человека в трудных условиях существования и показывал, - как все мужественное и светлое, что есть в человеке, напрягается и достигает блеска.
Последние годы Платонова были омрачены тяжкой болезнью.
Он вел себя мужественно.
Он даже открыл некоторые радости в ней.
Дело в том, что в эти горькие для него дни люди старались помочь ему. И Андрей Платонович радовался не только тому, что облегчили его существование, но и тому, что целая группа людей бескорыстно и деятельно заботилась о нем.
Он говорил:
— Если бы не моя болезнь, я бы так и не узнал о любви ко мне стольких хороших людей.
Это трогало его до слез.
В одном из военных очерков своих Платонов писал о том, «как нужно встретить и пережить смерть самому, как нужно умереть, чтобы сама смерть обессилела, встретив его». Не «смертию смерть поправ», а жизнью «смерть поправ» — вот философия Андрея Платонова.

НЕ ВСЕ МОЖНО РАССКАЗАТЬ
Это был человек-айсберг. На поверхности мы видели корректного моложавого джентльмена, одетого с изысканной элегантностью, даже модника. На узком смуглом лице Романа Кима играла любезная улыбка, в глазах, прорезанных по-восточному, немеркнущая наблюдательность.
Там, в подводной, незнаемой части, возможно, кровавые схватки, тонкие поручения, поступки, приобретшие молниеносную быстроту рефлексов, а когда нужно — бесконечно терпеливая неподвижность Будды. Однако все это — в мире других измерений, существующем рядом с нашим «трехмерным», за «тонкой стеной обыкновенного», как выразился однажды наш общий друг Борис Лапин. Но что бы там ни происходило, все это, не сомневаюсь, было сделано с той же силой и изяществом, которые отличают и литературный стиль Романа Кима. Все-таки верно: стиль — это человек.
Все это далеко не так просто, разумеется. Душевная цельность далась не сразу и не легко этому русскому корейцу с японским образованием. Помог и решил Октябрь. Он пришел вовремя, когда в Романе Киме советский мальчишка схватился с выучеником европеизированного японского колледжа. Схватился и победил.
Кажется, впервые я встретил Рому у Бориса Пильняка, в деревянном коттедже на Ленинградском шоссе. Пильняк... Его сейчас не читают, он затерялся в потоке советской литературы, имя его найдешь только в обзорах литературы, да и то мелким шрифтом. Между тем он был одним из зачинателей послереволюционной прозы. Была до Октября русская литература, великая и малая, потом — пустое место, потом — Борис Пильняк. Мы, пришедшие в литературу на полтора десятка лет позже, в конце двадцатых и в начале тридцатых годов, застали его в ранге живого классика, но уже теряющим оперение, линяющим. Кое-что в его рассказах «Былье», впрочем, нравилось нам. Что ни говори, он уловил там свист октябрьской метели. Что-то было в его растрепанном «Голом годе» от жуткого величия тех дней.
Я был приглашен к Пильняку вместе с группой молодых литераторов. Нынче они забыты, потому что ленивая критика не упоминает их. Они не читаемы, потому что нерасторопные издательства не издают их. И это, конечно, приводит к искусственному снижению богатства советской литературы. В искусстве существует такой же естественный кругооборот, как и в природе. Нельзя сводить леса — мелеют реки, нельзя сдирать песок с пляжей — рушатся морские берега. Нельзя изымать из литературы хороших писателей — она тоже мелеет.
В бревенчатый терем на Ленинградском шоссе в тот вечер пришли Александр Митрофанов, Григорий Гаузнер, Борис Лапин, Любовь Копылова, Борис Левин. Они и сейчас современны. Тление не коснулось ни митрофановского «Июнь — июль», ни лапинского «Подвига», ни гаузнеровских «9 лет в поисках необыкновенного», ни копыловского «Одеяла из лоскутьев», ни левинского «Юноши».
Они сохранились со всей своей безудержной, безграничной, всепоглощающей верой в Октябрь, — верой и преданностью ему, бескорыстной, почти религиозной.
Пильняк любил удивлять. Дверь нам открыла японская певица, гостившая у него. Разнеся чай, она уселась на полу в своем кимоно и деревянных сандалиях и запела, аккомпанируя себе на сями-сяне. Пильняк, доверительно приблизив к нам свою крупную рыжую голову, уверял, что он часто не знает, как закончить рассказ, и, ложась спать, кладет незаконченную рукопись под подушку. Проснувшись утром, он находит рассказ законченным.
— Как? Просто написанным? — удивился Саша Митрофанов, который иногда бывал удивительно простодушным.
Пильняк блеснул на него очками и, с трудом преодолевая соблазн воскликнуть: «Да, конечно!» — сказал мягко:
— В уме...
Вот там-то, повторяю, я увидел Кима. Он несколько сторонился нас. Подчеркивал, что он сам по себе. Зачем бы ни привел его в свой дом Пильняк — по литературным ли делам или как живой справочник по Японии, — Ким держался там как свой. С нами не смешивался. Пожалуй, некоторое исключение он делал для Бориса Лапина, с которым его связывали востоковедческие интересы. Мы же больше, чем хозяином дома, интересовались Кимом. Только что появилась его острая, оригинальная книжка «Три дома напротив, соседних два», очень, кстати, понравившаяся Горькому.
В тот вечер Ким прервал наконец свое олимпийское молчание, ввязался в наш спор о сердцевине сегодняшнего дня и заявил, что современность — это субъект, а не объект, что роман о Тиберии и Кае Гракхах может быть остросовременным, а о секретаре обкома — безнадежно отсталым. Мне это показалось правильным, я поддержал его.
Шли мы с ним домой вместе. Сначала я проводил Кима на Мясницкую, потом он меня в Успенский переулок. Нашлось о чем порасспросить, порассказать. На следующий день мы встретились словно для того, чтобы досказать недосказанное. Но этого недосказанного нам хватило на годы.
Книги переливались через борт его новой небольшой квартирки на Садовой. Среди востоковедов есть немало его учеников. Но теперь он больше не занимался наукой. Он отдался всецело литературе художественной. По ее внешним признакам Кима забрили в строй приключенцев. Он действительно стал писать остросюжетные вещи. Специальная эрудиция приближала его повести к жанру документальному. Распространенное мнение: Ким пишет детективы. Говорилось это соболезнующим тоном: виновен, но заслуживает снисхождения!
Но есть ли среди литературных жанров такие, которые нуждаются в снисхождении?
Современный многосерийный фильм «Фантомас» имел предшественника под тем же названием в немом кино. Он был сделан по роману Сувестра и Аллена и пользовался огромным успехом, немалой долей которого обязан традиционному издевательству над полицией.
Но не только. Поэт Гийом Аполлинер писал о «Фантомасе»:
«Этот необыкновенный роман, полный жизни и фантазии, написанный небрежной, но яркой кистью, приобрел благодаря рекламе, созданной ему кинофильмами, широкую популярность. С точки зрения выдумки «Фантомас» является одним из самых блестящих произведений этого жанра. Описания в нем всегда точны, и со временем этот роман будет ценным источником для ознакомления с современным арго».
Суждения самих писателей не всегда безошибочны в оценке своих произведений. И не обязательно — в сторону преувеличения их достоинств. Есть поразительные примеры недооценки собственных вещей. Бальзак вполне серьезно утверждал, что тема его замечательного романа нравов «Блеск и нищета куртизанок» — борьба между сыщиком и преступником.
В «Холодном доме» Диккенса, в «Преступлении и наказании» Достоевского силен элемент уголовного романа. Но кто отнесет эти произведения к криминальному жанру?
Повести Кима «Кобра под подушкой», «Агент особого назначения», «По прочтении сжечь» полны энергии и оптимизма. Это не просто головоломки. Загонять их в шоры детектива нелепо. Одна из труднейших задач в искусстве— художественно убедительно протянуть причинную нить от мировых событий к судьбе рядового человека. Именно это и является истинным пафосом повестей Кима. Картины мира, эпохи соединяются с жизненной выразительностью характеров. Не говорю уж о том, как много в прозе Кима фактического материала, малоизвестного и вовсе не известного, сколько в ней документальных сведений. Это могло бы ее перегрузить, образовать крен в скуку, в назидательность. Но чувство меры и безупречный вкус Романа Кима сумели сбалансировать материал так, что повести его сохраняют прозрачность, стройность, они и занимательны и глубоки. Нет, не детектив с запутанной фабулой, не крикливый памфлет, а сдержанный трагизм и точность очертаний более всего в характере этого особенного писателя.
Быть может, самая характерная для Кима вещь — это его небольшой превосходный рассказ «Японский пейзаж». Сюжет здесь глубинный, деталей много и нет незначительных. Тонкость красок такая, что пересказать рассказ невозможно, как невозможно пересказать нашу дружбу.

ОДИН В ДВУХ ЛИЦАХ
1. Ильф и Петров
В записках этих рассказано больше об Ильфе. Евгения Петрова я знал не то чтобы меньше, чем Ильфа, но иначе. С Петровым я был хорош. А с Ильфом близок просто биографически — общая молодость. Отсюда некоторая количественная неравномерность в воспоминаниях. Только отсюда, а отнюдь не от предпочтения одного из этих писателей другому.
Но от той же былой близости с Ильфом вспоминать о нем труднее. Бывает так, что то, что ты считаешь главным, в глазах другого не имеет значения. А иногда оказывается, что какая-нибудь мелочь, которая кажется тебе незначительной, она-то и есть главное, через которое становится виден человек. Улыбка, мимолетное слово, жест, поворот головы, миг задумчивости — такие, казалось бы, крохотные подробности существования — в сумме своей сплетаются в прочную жизненную ткань образа.
Но вот опасность, пожалуй, самая распространенная в этом жанре воспоминаний: незаметно для самого мемуариста его рассказ о почившем друге перерастает в воспоминания о самом себе. Как бы мы негодовали, если бы скульптор, создавая памятник писателю, придал ему свои черты! А в мемуарной литературе такая подмена портрета автопортретом не раз сходила писателям с рук.
Чтобы воссоздать образ Ильфа, нужны очень тонкие и точные штрихи и краски. Малейший пережим — и образ этого особенного человека будет огрублен и упрощен, как это, между прочим, бросается в глаза, когда читаешь некоторые воспоминания о Чехове.
Недавно я наткнулся на подтверждение этой мысли в воспоминаниях вдовы Бунина, В. Н. Муромцевой-Буниной. Она пишет в своей книге «Жизнь Бунина»:
«Перед смертью ему (Бунину — Л. С.) попалась эта книга «Сборник памяти Чехова». Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге:
«Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное. И. Б.».
Как это ни странно на первый взгляд, но Толстой со всей своей гениальной сложностью и бурной противоречивостью гораздо явственнее и правдивее встает в воспоминаниях современников, чем Чехов. И это понятно. Толстой очень мощно, очень кипуче самовыявлялся. А к Чехову пробиться трудно сквозь броню его сдержанности, его деликатных иносказаний, его полутонов, его закрытого душевного мира.
Но и Ильф был из людей этого рода. Петрова изобразил Валентин Катаев в романе «Хуторок» в образе Павлика. Петров послужил прототипом для фигуры следователя в превосходной маленькой повести Козачинского «Зеленый фургон». К Ильфу и не подступались. Попробуй-ка изобрази этого человека, замкнутого и вместе общительного, жизнерадостного, но и грустного в самой своей веселости... Быть может, эта грусть происходила у него от сознания своей недолговечности?
Люди, знавшие Ильфа, сходятся на том, что он был добр и мягок. Так-то это так. Добрый-то он добрый, мягкий — мягкий, но вдруг как кусанет — долго будешь зализывать рану и жалобно скулить в углу. Ничего не может быть хуже, чем засахаривание облика почивших учтивыми «некрологами», всеми этими посмертными культами личности, не менее вредными, чем прижизненные. Да, Ильф был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен. «За письменным столом мы забывали о жалости», — пишет Евгений Петров в своих воспоминаниях об Ильфе.
Раскрывался Ильф редко и трудно. Был он скорее молчалив, чем разговорчив. Не то чтобы он был молчальником. Нет, он рассказывал охотно и с блеском, но с большей охотой слушал, чем говорил. Слушая, Ильф вникал в собеседника: какой он, «куда» он живет? Загадка человека была для него самой заманчивой. Так повелось у Ильфа с молодости. Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, проницательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, как некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей.
Между тем сатирический дар его сложился рано. Ильф родился с мечом в руках. Когда читаешь его «Записные книжки», видишь, что ранние записи не менее блестящи, чем те, что сделаны в последний год его жизни.
В пору молодости, в двадцатых годах, Ильф увлекался более всего тремя писателями — Лесковым, Рабле и Маяковским. Надо понять, чем в то время был для нас Маяковский. Его поэзия прогремела, как открытие нового мира — и в жизни и в искусстве. О Маяковском написано много. Но достаточно ли оценена та исключительная роль, которую сыграл Маяковский, привлекая умы и сердца целого поколения к подвигу Октябрьской революции, когда он бросил свою гениальную личность и поэзию на чашу весов коммунизма.
Эту первую, юношескую влюбленность в Маяковского Ильф пронес через всю жизнь. Евгений Петров совершенно справедливо пишет в своих воспоминаниях об Ильфе: «Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность». Тут же замечу, что чувство это было взаимным. Маяковский высоко ценил Ильфа и Петрова. Пьесы «Клоп» и «Баня» появились после романа «Двенадцать стульев», которым Маяковский всегда восхищался, и было бы интересно проследить, как это отношение Маяковского к романам Ильфа и Петрова отразилось в его сатирических пьесах.
Маяковский, Лесков, Рабле были как бы стихийной литературной школой, которую проходил Ильф, ибо он, как и Петров, начинал в то время, когда еще не существовало литературных институтов. Тем не менее писатели как-то появлялись на свет божий.
Тогда в Одессе было два или три литературных кафе. Одно из них носило несколько эксцентрическое название «Пэон IV», почерпнутое из стихов Иннокентия Анненского: «...Назвать вас вы, назвать вас ты, пэон второй — пэон четвертый...»
На эстраду этого «Пэона IV» всходил Ильф, высокий юноша, изящный, тонкий. Мне он казался даже красивым (правда, не все соглашались со мной). В те годы Ильф был худым; он располнел только в последний период жизни, когда болезнь вынудила его усиленно питаться и мало двигаться; начав полнеть, он обшучивал появившееся у него брюшко как нечто отдельное от себя, вроде какого-то добродушного домашнего животного, которое лежало у него на коленях.
Он стоял на подмостках, закинув лицо с нездоровым румянцем — первый симптом дремавшей в нем легочной болезни, о которой, разумеется, тогда еще никто не догадывался, — поблескивая крылышками пенсне и улыбаясь улыбкой, всю своеобразную прелесть которой невозможно изобразить словами и которая составляла, быть может, главное обаяние его физического существа, — в ней были и смущенность, и ум, и вызов, и доброта.
Высоким голосом Ильф читал действительно необычные вещи, не поэзию, не прозу, но и то и другое, где мешались лиризм и ирония, ошеломительные раблезианские образы и словотворческие ходы, напоминавшие Лескова. От Маяковского он усвоил, главным образом, сатирический пафос, направленный против мерзостей старого мира и призывавший к подвигу строительства новой жизни. В сущности, это осталось темой Ильфа на всю жизнь. И хотя многое в юных стихах его было выражено наивно, уже тогда он умел видеть мир с необычной стороны. Но эта необычная сторона оказывалась наиболее прямым ходом в самую суть явления или человека.
Читал Ильф неожиданно хорошо. Я говорю «неожиданно» потому, что Ильф никогда не проявлял «выступательских» наклонностей. Это, пожалуй, и отразилось в известном афоризме Ильфа и Петрова: «Писатель должен писать». Ильф воздерживался от выступлений и в одесской писательской организации «Коллектив поэтов», где наша литературная юность протекала, можно сказать, в обстановке вулканически огненных обсуждений и споров. Да и позже, уже когда Ильф и Петров стали популярными писателями, эта часть — устные выступления — лежала на Петрове.
А вот в пору своей юности «допетровский» Ильф читал свои произведения хорошо. Да и не только свои. Были случаи (на моей памяти их два), когда Ильф сверкнул актерскими способностями. Группа молодых одесских литераторов затеяла постановку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Ильф там играл одну из ролей. Второй случай: несколько литераторов во главе с Эдуардом Багрицким поставили и сыграли поэму Багрицкого «Харчевня». Постановка эта состоялась в литературном кафе «Мебос» («Меблированный остров»). Ильф играл роль одного из путников. Он вел ее изящно и весело, но быстро утомлялся. Мы тогда не подозревали о болезненности Ильфа. Это был человек с таким отменным душевным здоровьем, что нам не приходила в голову мысль о его физической хрупкости. Правда, и тогда уже прорывались кое-какие признаки ее. Он, например, не выносил длинных прогулок.
Когда веселой оравой сбегали мы с высокого, обрывистого берега к морю, Ильф оставался один наверху. Мы долго видели снизу его одинокий, неподвижный силуэт. В юношеском эгоизме своем мы забывали о нем. Он ждал нас. Вернувшись, мы принимались подтрунивать над ним. Ну, тут он брал свое, — кто же мог состязаться с Ильфом в остроумии! Сам Багрицкий с его ошеломительными сарказмами сдавался.
И только много позже, уже в период славы Ильфа, друзья стали догадываться о физической слабости его и о том, что автомобильное путешествие Ильфа и Петрова по американскому континенту, которое произвело на свет такую превосходную книгу, как «Одноэтажная Америка», имело для Ильфа такие же роковые последствия, как для Чехова поездка на Сахалин.
Впоследствии, когда Ильф стал известным писателем, жизнь его наполнилась беспрерывной спешкой на всякие заседания, собрания, комиссии и т. п. Суета эта изнуряла его, и он сказал однажды:
— Я решил больше не спешить. Опоздаю — так опоздаю!
И действительно, он перестал торопиться. Но это не помогло. Он опоздал в главном: вовремя позаботиться о своем здоровье.
При всей своей хрупкости Ильф был человеком смелым. Это видно не только по его литературной деятельности. Я помню столкновения, в которых он заставлял отступать хулиганов. И кажется, мало кому известно, что Ильф был некоторое время в красных партизанских частях в годы гражданской войны. Он почти никому не говорил об этом. Из скромности? Да, вероятно. Он не видел в этом ничего особенного. И вообще он не любил выделяться, он терпеть не мог привлекать внимание к своей личности, — еще одна черта, между прочим, роднившая его с Чеховым. Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру войск МГБ и сделал на книге надпись: «Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности». Однако подчеркивать, что Ильф был скромен, — это все равно что подчеркивать, что Ильф умел дышать. Скромность была у Ильфа, как и у Петрова, безусловным рефлексом.
Упоминаю об этом потому, что до сих пор время от времени попадаются примитивные характеристики Ильфа и Петрова, в стиле той снисходительной аттестации, что выдал им один критик: «Талантливые и честные сатирики». И уже совершенно умилительна наивность, с какой автор неких воспоминаний о Евгении Петрове восхищается такими его качествами, как добросовестность, вежливость, искренность, внимание к человеку. Надо ли говорить, что душевное богатство Ильфа и Петрова не исчерпывалось элементарной порядочностью! В них было кое-что побольше.
К бессодержательной и высокопарной болтовне Ильф питал особенное отвращение. Напыщенные банальности немедленно вызывали в нем остронасмешливую реакцию. Как-то спускались мы с ним по лестнице Дома Герцена (где ныне Литературный институт). Два критика стояли на площадке и о чем-то горячо разговаривали. Мы остановились, чтобы закурить. И тут до нас донеслись обрывки разговора. Оказывается, они спорили о романах Ильфа и Петрова. Один из критиков, горячась, возражал:
— Нет, вы мне все-таки скажите определенно: Ильф и Петров явление или не явление?
Ильф посмотрел на меня, усмехнулся характерной для него насмешливо-доброжелательной улыбкой и шепнул:
— Явление меж тем спускалось по лестнице. Оно курило...
Ильф, — и не только он один, а вся семья, в которой он родился и вырос, — представляет собой поразительный пример той силы, которой обладает врожденное призвание.
Их было четыре брата. Ильф был третьим по старшинству. Отец их, мелкий служащий, лавировавший на грани материальной нужды, решил хорошо вооружить своих сыновей для житейской борьбы. Никакого искусства! Никакой науки! Только практическая профессия!
Старшего сына, Александра, — это было задолго до Октябрьской революции — он определяет в коммерческое училище. В перспективе старику мерещилась для сына карьера солидного бухгалтера, а может быть — кто знает! — даже и директора банка. Юноша кончает училище и становится художником. Отец, тяжело вздохнув, решает отыграться на втором сыне, Михаиле. Уж этот не проворонит банкирской карьеры! Миша исправно, даже с отличием, окончил коммерческое училище и стал тоже художником. Растерянный, разгневанный старик отдает третьего сына Илью в ремесленное училище. Очевидно, в коммерческом училище все-таки были какие-то гуманитарные соблазны в виде курса литературы или рисования. Здесь же, в ремесленном училище «Труд» на Канатной улице, — ничего от искусства. Здесь только то, что нужно токарю, слесарю, фрезеровщику, электромонтеру. Третий сын в шестнадцать лет кончает ремесленное училище и, стремительно пролетев сквозь профессии чертежника, телефонного монтера, токаря и статистика, становится известным писателем Ильей Ильфом.
Нельзя не признать, что это была семья исключительно одаренная для работы в искусстве. И ничто этой непреодолимой тяги не могло остановить.
Можно только задать вопрос: стал ли бы третий сын Ильфом, если бы он в один из наиболее счастливых дней своей жизни не встретился с Евгением Петровым?
Надо сказать, что Ильфа всегда одолевали одновременно десятки тем и замыслов. Это видно и по его «Записным книжкам». Это был ум широкий, но разбросанный. Или, может быть, с трудом укладывавшийся в рамки традиционного повествования и блуждавший в поисках новых жанровых путей.
И вот тут как нельзя более кстати встретился ему на жизненном пути Женя Петров, талант уравновешенный, дисциплинированный, умевший, сочетав острую, но разбегающуюся фантазию Ильфа со своим упорядоченным и отчетливым воображением, ввести вдвоем с Ильфом все это богатство в привычное русло плавного рассказа.
В последние годы своей совместной работы они словно пронизали друг друга. Лучший пример этого слияния — целостность «Одноэтажной Америки», которую они писали раздельно. Книга эта стоит, на мой взгляд, нисколько не ниже сатирических романов Ильфа и Петрова. А местами по силе изображения и выше. Порочные стороны общественного строя США вскрыты глубоко и притом без вульгарного и бездоказательного окарикатуривания американцев, а художественно сильными картинами теневых сторон американского образа жизни. Очень высоко оценил «Одноэтажную Америку» А. Н. Толстой, который назвал ее «чрезвычайно зрелой художественно».
Те же мотивы мы встречаем и в частных письмах Ильфа из США.
«Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс», — писал Ильф из Нью-Йорка. — Это пьеса из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян, музыку писал еврей Гершвин, декорации делал русский Судейкин, а играли негры. В общем торжество американского искусства».
Ильф и Петров хорошо знали американцев. «Вино, — записал Ильф в своей «Записной книжке», — вино требует времени и умения разговаривать. Поэтому американцы пьют виски».
Во время войны я наблюдал Евгения Петрова в обществе американца. Это был известный писатель Эрскин Колдуэлл. Было это в августе 1941 года. Колдуэлл оказался единственным крупным американским литератором на нашей территории в ту начальную пору войны. Американские газеты и агентства буквально засыпали его просьбами писать о военных действиях на Восточном фронте. Евгений Петров, друживший с Колдуэллом, приводил к нему приезжавших с фронта литераторов для того, чтобы они начиняли его «боевой» информацией.
Ленинградский фронт тогда освещался в печати довольно скупо, и Колдуэлл с жадностью прильнул ко мне. Это был довольно еще молодой человек болезненной наружности, с мягкими манерами. Он поразил меня двумя своими особенностями. Во-первых, размерами своего шлема. Тогда Москву бомбили, и Колдуэлл во время бомбежки надевал этот свой стальной шлем, который покрывал не только голову, но и плечи, и даже часть спины. Где он достал эту штуку, я не знаю. Наверно, ее сделали по специальному заказу. Я не мог отвести глаз от этого грандиозного шлема, он меня гипнотизировал. Наконец Петров, воспользовавшись тем, что Колдуэлл на минуту вышел из комнаты, сказал мне довольно сердито:
— Слушайте, Лева, что вы уставились на этот шлем? Колдуэлл человек вежливый. Кончится тем, что он вам подарит его. И тогда вы пропали. Это же все равно что выиграть в лотерею корову.
— Но почему он такой большой? — спросил я, все еще не в силах оторваться от шлема.
Женя свойственным ему предостерегающим жестом поднял палец, наклонил набок голову и сказал назидательно:
— Американцы любят не только свою голову. Они очень привязаны к своей спине и к своим плечам.
Вторая вещь, которая поразила меня в Колдуэлле,— это его не совсем уверенные познания в географии Европы. Когда я рассказывал ему о положении на Ленинградском фронте, выяснилось, что он не только не догадывается о существовании на свете Финского залива, но и не совсем четко представляет себе, где, собственно, расположены Финляндия и Балтийское море.
Когда мы ушли от Колдуэлла, я не скрыл от Петрова своего удивления.
— Слушайте, Лева, — сказал Петров, взяв меня под руку и заглядывая мне в лицо с характерным для него наклоном головы, — зачем ему знать географию? Американцы знают только то, что им нужно для их профессии. Колдуэлл — узкий специалист. Он умеет только одно: хорошо писать. Больше ничего. Скажите откровенно: вы считаете, что для писателя этого мало?
Не помню, что я ответил. Но хорошо помню, что меня поразило в этих словах Евгения Петрова. Меня поразило, что то же самое в этом случае, вероятно, сказал бы Илья Ильф. Меня поразило внезапно вспыхнувшее в Петрове сходство с Ильфом — через пять лет после его смерти.
Когда хоронили Ильфа, Петров обмолвился горькими словами: «Я присутствую на собственных похоронах...» И вдруг через пять лет я увидел, что Ильф весь не умер. Петров, так никогда, на мой взгляд, и не утешившийся после смерти Ильфа, как бы сохранил и носил в самом себе Ильфа. И этот бережно сохраненный Ильф иногда вдруг звучал из Петрова своими, «Ильфовыми» словами и даже интонациями, которые в то же время были словами и интонациями Петрова. Это слияние было поразительно. Его до сих пор можно наблюдать более всего в той же «Одноэтажной Америке», где двадцать глав написаны Ильфом, двадцать — Петровым и только семь — совместно. Но никто не мог отличить перо Ильфа от пера Петрова. Их литературное братство стало химическим соединением, одним телом.
Трудно сказать, всегда ли так было или это пришло с годами, но у них появились общие черты характера.
Не следует думать, что Ильф и Петров по своему положению сатириков беспрерывно острили и не переводя дыхания извергали из себя сногсшибательные афоризмы. Люди хохочут, читая саркастические страницы их романов, осмеивающие моральное уродство обывателей. Но самих писателей эти бытовые пороки не смешили, а возмущали, мучили. Тот, кто знал Зощенко, помнит, что эта черта была свойственна и ему.
Был случай, когда долго и неудачно возились с началом одного строительства. Бездарный проект и бюрократические методы работы возмущали Ильфа, который имел возможность часто наблюдать этот объект. На строительной площадке вечно толпилось без дела множество народу. Служащих было едва не больше, чем рабочих. Уже построили дом для администрации, контору, склад. А стройка не подвигалась. Как-то, увидев Ильфа, я осведомился о положении на объекте. Он сказал с досадой:
— Все то же: вырыли большой котлован и ведут в нем общественную работу.
Я рассмеялся, но Ильф оставался мрачен.
Другой случай. Редакция «Литературной газеты». Заместителем редактора был тогда Евгений Петров. Однажды в редакцию приезжает поэт, довольно известный. В руках у него патефон. Он входит в кабинет Петрова, заводит патефон и проигрывает только что выпущенные пластинки с напетыми на его тексты песнями. После ухода поэта Петров сказал:
— Все-таки Лев Толстой не ездил по редакциям с патефоном...
Мы все, кто там были, рассмеялись. Но Петров не смеялся. Ему было грустно.
Еще один пример. Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции. Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды, после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне:
— Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается...
Это не острота в общепринятом смысле этого слова. Это художественный образ, безжалостный в своей точности. Замечание Ильфа о котловане, так же как и отзыв Петрова о поэте с патефоном, — это не игра слов, не острота для остроты.
Надо сказать, что лексика романов Ильфа и Петрова продолжает ощутительно влиять на язык молодых поколений. Это видно и по прозе современных молодых писателей. Положительные герои в произведениях молодых авторов выражаются языком жулика Остапа Бендера. Но ведь остроумие Ильфа и Петрова было иронией совсем другого, высокого порядка. Эффект смешного у Ильфа и Петрова проистекал из того, что вещи, изображаемые ими, не совпадали с распространенными и неверными представлениями об этих вещах, и с тем большей пронзительностью сатирические приемы этих писателей вскрывали самую сущность людей и явлений. Образы их были неожиданны, но точны. И в точности своей беспощадны.
С годами Ильф и Петров становились в творчестве своем серьезнее, лиричнее, глубже. Именно об этой поре вспоминает Евгений Петров в своих незаконченных набросках об Илье Ильфе: «Юмор — очень ценный металл, и наши прииски уже были опустошены». От этих слов, тоже замечательных по своей образной точности, веет некоторой грустью: это похоже на прощание с молодостью. Иногда Ильф и Петров мечтали вслух о том времени, когда сатирики не будут нужны, ибо исчезнет самый материал для сатиры. Если бы такое время каким-то чудом и наступило при жизни Ильфа и Петрова, это вовсе не значило бы, что они перестанут писать. Когда-то сходный процесс переживал и Чехов, уходя от «осколочных» фельетонов с их сатирической гиперболизацией в большую реалистическую литературу. Первым опытом Ильфа и Петрова в новом для них направлении явился очаровательный рассказ «Тоня».
Новые настроения сказываются и в письмах Ильфа из Америки. Вот отрывок из одного письма, где он описывает свое впечатление от зрелища, которое испокон веков принято считать романтически красивым и неотразимо живописным:
«...Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуаренце. Я об этом не жалею, но скажу тебе правду — это было тяжелое, почти невыносимое зрелище. В программе было четыре быка, которых должны были убить две де-вушки-тореадорши. Быков убивали плохо, долго. Первая тореадорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка-тореро заплакала от досады и стыда... Особенно подлым зрелищем было издевательство над четвертым быком. Все сделалось еще унизительнее и страшнее...»
В основе разоблачительного пафоса и сатирического гнева Ильфа и Петрова лежало искреннее чувство любви к родине. Вот почему их книги вызывали такую яростную реакцию со стороны международного фашизма. С какой гордостью писали Ильф и Петров в 1935 году о варварской расправе гитлеровцев с их книгами: «Нам оказана великая честь, нашу книгу сожгли вместе с коммунистической и советской литературой»!
Жестокость, самодовольство, бездушие, лицемерие и прочая душевная грязь даже в микродозах не ускользали от глаз Ильфа и Петрова, от четырех проницательных глаз этого писателя. Они не поддавались никаким иллюзиям. Никакой внешний блеск, никакой декламаторский пафос не могли их обмануть.
К Ильфу и Петрову тянулись молодые писатели, пробовавшие себя в сатирическом жанре. Группировались они главным образом вокруг Петрова. Общение это было непродолжительным. Петров умер молодым. Но до сих пор бывшие ученики его, «сии птенцы гнезда Петрова», ныне люди на возрасте, помнят точную, кропотливую работу его над рукописями, предметные уроки мастерства и излюбленное его присловье: «В искусстве, как и в любви, нельзя быть осторожным».
Однажды в театральном мире Москвы произошел случай, который послужил поводом к появлению на страницах «Правды» одного из самых «неосторожных» и благородных фельетонов Ильфа и Петрова. Вкратце говоря, дело состояло вот в чем. В один из московских театров пришел на спектакль гражданин с женой. Контроль не впустил их, несмотря на то, что их билеты были в полном порядке. Оказалось, что театр, зная, что эти места уже куплены, тем не менее продал их вторично. Причина: спектакль пожелал посмотреть не кто иной, как «сам» американский посол. А в таком случае, решило руководство театра, плевать на своих.
До сих пор этот старый фельетон Ильфа и Петрова обжигает огнем гражданского гнева, с каким писатели заступились за достоинство советского гражданина и обрушились на лакейское рвение театральной администрации.
В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа — «Наши знакомые». Ильф лично не знал его. Но, услышав, что Герман приехал на несколько дней в Москву из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому молодому писателю, как ему понравился его роман и почему он понравился ему.
Я уже говорил о доброте — чувстве общем у Ильфа и Петрова. Надо уточнить: какая это была доброта? Не та инертная, вялая, стоячая, которая рождается из бесхарактерности. Нет, им была свойственна доброта деятельная, борющаяся, которая и сообщила их писаниям дух непримиримой борьбы против всяческой глупости, хамства, беспринципности.
Внимание Евгения Петрова к проблемам материального быта, за которое иные называли его «поэтом сервиса», проистекало не из какой-нибудь его особой привязанности к комфорту, а из никогда не покидавшего его желания облегчить существование людей и из того, что он представлял себе это не в приподнятых, отвлеченных общих фразах, а конкретно, вещественно, по-земному. В основе всей литературной деятельности Ильфа и Петрова лежала любовь к человеку. Заботливая, деятельная, воинствующая любовь к человеку, которая, как мне кажется, и является главной причиной популярности этих писателей в народе.
2. Ильф и Петров на площади Согласия
Всякий раз, когда мне случалось проходить через площадь Согласия, со стороны ли Елисейских полей или из сада Тюильри, я вспоминал Ильфа и Петрова.
Вот что они рассказали мне задолго до того, как я побывал в Париже. Говорил главным образом Женя Петров. А Иля лишь изредка вставлял замечания. Иногда, впрочем, они перебивали друг друга и даже спорили довольно запальчиво.
Я отлично помню этот разговор. Закрыв глаза, я и сейчас явственно слышу резкий голос Жени Петрова, смягченный южными интонациями, и холодноватый тенорок Ильфа. Мне кажется даже, что я мог бы воспроизвести их рассказ дословно, от первого лица. Но я боюсь упреков в неточности («спустя столько лет вы не могли» — и так далее), и я передам этот разговор в косвенной речи.
По словам Петрова, оба они, и он, и Ильф, бегали на площадь Согласия чуть ли не ежедневно.
(Ильф: — Мы заболели площадью Согласия).
Иногда они брали стулья в саду Тюильри, садились у балюстрады, вытягивали ноги и подолгу смотрели на площадь в безмолвном восхищении. А иногда становились посреди зданий Лувра па площади Карусель, смотрели сквозь Триумфальную арку и видели площадь Согласия и за ней всю стрелу Елисейских полей, а в конце их, на площади Звезды, вторую Триумфальную арку, а сквозь нее улетающую вдаль авеню Великой Армии.
Главная прелесть площади Согласия, по словам Петрова, в том, что она не обстроена домами, а открыта пространству со всех сторон, за исключением северной. Там стоят, обрамляя вход на улицу Руаяль, два симметричных дворца. А с остальных трех сторон — небо, вода, зелень.
(— Не в этом ее главный смысл, — вмешивался Ильф.)
Петров горячился. Стремясь заглушить Ильфа, он кричал, что заранее знает, что хочет сказать Ильф, — что по краям площади восемь статуй — символы городов. Удивительная память Петрова тут же подсказывала ему: Нант, Бордо, Марсель, Лион, Страсбург, Лилль, Руан, Брест.
(Ильф качал головой: — Нет, не в этом дело. — Фонтаны Луи-Филиппа!—кричал Петров. Но Ильф качал головой.)
Тогда Петров принимался описывать главное диво площади Согласия: Луксорский обелиск. Ему три тысячи пятьсот лет! Он розовый!..
(Ильф: — Строгий и странный.)
— Он из Фив! Храм Аммона! Рамзес Второй! Двадцать четыре метра высоты! Двести тонн веса...
Исчерпав все аргументы (— Вид на церковь Мадлен! Кони Марли у Елисейских полей!), Петров напоследок швырял в нас голову Марии-Антуанетты, которая скатилась на этой площади, и изнеможенно умолкал, уставившись на невозмутимого Ильфа взглядом одновременно яростным и вопрошающим.
И тогда тот спокойно объявлял, что самую удивительную работу на площади Согласия проделал не скульптор Кусту, не инженер Леба, не архитектор Габриэль, а другой великий работник, которого зовут Время. Это оно собрало и примирило все различные, противоречивые, спорящие друг с другом части площади Согласия — разных стилей, веков и даже стран — в одну удивительную, непревзойденную гармонию.
Я слушал как завороженный. Я сам, еще не увидев площади Согласия, уже начинал заболевать ею. Но рассказ здесь не кончался. Изюминка впереди.
Оказывается, главная беда, по словам Петрова, была в том, что ему с Илей не на кого было излить свои восторги.
Ильф подтверждал, что их распирало от восхищения, что оно булькало в них и они боялись, что их разорвет.
В самом деле, не парижанам же рассказывать, как хороша площадь Согласия. И не друг другу. А знакомых приезжих, как назло, не было.
И вот однажды, уже перед самым отъездом из Парижа, Ильф и Петров встретили в консульстве только что приехавшего из Москвы работника философского фронта и его жену.
Женя и Иля тотчас вызвались стать их добровольными гидами. Рассказывая об этом, Петров уверял меня, что возможность показать другим то, что нравится тебе самому, — одна из самых больших радостей в жизни.
Философ не смог пойти. Пришлось удовольствоваться его женой. Ильф уверял, что ее звали Пульсатила Ефимовна. Надо сказать, что Ильф принадлежал к числу писателей, которые коллекционируют необычные имена, подобно Гоголю с его Ляпкиным-Тяпкиным, Земляникой и Яичницей, или Чехову с его Фильдекосовым и Дрекольевым. У Ильфа в «Записной книжке» значится мальчик по имени Вердикт, некто Сухопарыч и мадам Везувий. Ильф утверждал, что помнит слова, с которыми работник философского фронта обратился к жене:
— Пульсатилочка, есть предпосылки погулять с товарищами по Парижу.
Видимо, он был польщен тем, что его жену будут сопровождать знаменитые писатели. По описанию Ильфа и Петрова, Пульсатила Ефимовна была крупная дама с величественными манерами. Характеристики друзей несколько расходились. Петров говорил, что выражение лица Пульсатилы Ефимовны было кисло-церемонное, как у королевы, у которой заболел живот. Ильф же находил, что она похожа на памятник, который на полчасика спустился к людям, а потом вскарабкается обратно на пьедестал и снова величаво застынет на века.
Но оба сходились в том, что она должна увидеть площадь Согласия всю сразу, а не приближаясь к ней постепенно и привыкая к ее очарованию.
Поэтому они подвели ее к площади по узенькой улочке Буасси д'Англа и остановились за углом, у здания автомобильного клуба.
Здесь они попросили ее закрыть глаза.
Затем они подхватили Пульсатилу под руки и бережно повели ее по площади к ее центру, к Луксорскому обелиску.
Рассказывая об этом, Петров признавался, что у него было некоторое опасение, как бы поразительная красота площади Согласия, внезапно нахлынув на Пульсатилу, не вызвала бы у нее нервного потрясения. Но он успокаивал себя тем, что красота не убивает. По-видимому, и у Ильфа мелькнуло то же опасение, потому что по дороге он вдруг спросил Пульсатилу, как у нее с сердцем. Получив утешительный ответ, оба писателя успокоились.
Но вот и Луксорский обелиск. Здесь они остановились. Петров торжественно скомандовал:
— Откройте глаза!
Она открыла. Ильф и Петров самодовольно переглянулись.
Пульсатила Ефимовна медленно поворачивалась вокруг своей оси, величественно, как полководец на параде, оглядывая дефилировавшие перед ней дворцы Габриэля, и в глубине между ними прелестный портик церкви Мадлен, и сад Тюильри, с просвечивающим сквозь деревья историческим «Залом для игры в мяч», и за зелено-голубой лентой Сены — античные колонны Бурбонского дворца, в которые церковь Мадлен глядится как в свое отражение, и упоительную перспективу Елисейских полей.
Петров вспомнил, что он и Ильф тоже, как и спутница их, вращались вокруг своих осей, сопереживая радостное волнение.
Наконец, завершив полный круг, Пульсатила Ефимовна остановилась и произнесла:
— Ну и что?
Петров признавался, что первым его побуждением было вырвать с корнем Луксорский обелиск и хватить его двумястами тоннами Пульсатилу по голове. Кроткий Ильф подтверждал, что и он был близок к тому, чтобы отправить Пульсатилу вслед за Марией Антуанеттой.
Оба друга вздохнули, снова встали по обе стороны Пульсатилы и препроводили ее обратно к работнику философского фронта, молчаливые и мрачные, как конвоиры.
Вот о чем вспоминалось мне, когда я проходил через площадь Согласия, лавируя меж автомобилен и теней прошлого.

ГЕНЕРАЛ ОТ ГРАФОМАНИИ
Меня учила Пенелопа.
Меня учила вся Европа.
Вдаль я учителей искал.
И только разве присмотрелся,
Огонь откуда загорелся,
Кто влек меня, на гор таскал.
Муза ль внушила мне бороться,
Когда вся жизнь наша — борьба,
Когда стихов говор — пальба?
Что если кто умел сражаться,
227
Достал он пальму первенства.
Достал он пальму равенства.
Достал он подданства поэта
И лавры, все гремушки света.
В этой строфе (по счету 126-й) уже видны все особенности графоманского гения этого автора: самовозвеличение, пренебрежение грамотностью, страсть к мифологическим (а также историческим, как мы увидим дальше) именам, оригинальная система ударений, бешеная одержимость стихописанием и полная несдержанность в обращении с родительным падежом.
Теперь небольшая цитата из отдела «Путешествия» этой книги, потому что автор ее много скитался и решил поведать людям свои впечатления от многообразия мира:
Смотрите, там что за дорожки,
Волки где много кругом,
Где видны их дикие ножки
И зубчики с острым клыком.
* * *
Напрасно я тирал глаза.
Тьма сошла на мой чертог.
И ветер так гнул паруса,
Что от страха я продрог.
* * *
Вот там птица пролетела,
На волна крылом плывет.
Вот она на рыбку смело
Клювом пикнула на вод.
Наконец, небольшая выдержка из отдела писем, потому что, надо сказать, книга эта построена строго традиционно, в согласии с классическими канонами. Автор включил в нее все, что принято включать в собрания сочинений великих писателей: стихи, проза, путевые записки, предисловие, послесловие и письма.
«Мой односторонний сын!
Ты не забыл, как мама в колыбели к тебе передавала легенды о странных буйствах гладиаторов, имевших место в Риме! Пусть люди недрузья говорят, что я парю в небеса, люблю звезд и ночью восходил и нисхожу.
Твой натурщик Дюк-де».
Другое письмо:
«Мой бессмертный сын!
Я люблю горькое, соленое и острое. Чтение, по всей вероятности, мне вредит до боли. Если говорить с доктором, он тебе посоветует не есть острого перед сном, но иди подражай их совету! Много лет я свою истерзанную душу лечил финиками. Мне лечиться, как рудокоп золотых приисков, горькими травами? Отказаться от соленой скумбрии и вареной рыбы значит питаться молоком и шоколадом.
Твой критик Дюк-де».
Несколько лет назад один литератор, ныне покойный Михаил Коссовский, показал мне эту книгу и сказал при этом: «Это наша с вами братская могила». Соль этой шутки заключалась не столько в том, что фамилия автора книги тоже Коссовский, а сама книга называется «Георгий Славин», сколько в потрясающей, безысходной и безумной нелепости этого сочинения.
Главную часть ее составляет роман в стихах, состоящий из 152 строф. В Одесской научной библиотеке мне любезно сделали фотокопию романа, представляющего собой исключительную библиографическую редкость. В библиотеке есть и другие книги этого автора. Его полная фамилия — Э. Коссовский-Невральгин. Как все графоманы, он был чрезвычайно плодовит. Одна из его книг, между прочим, называется «Огонь к XX веку». Роман «Георгий Славин» вышел в 1905 году. Может встать вопрос: каким образом столь странное сочинение могло быть издано и получить разрешительную отметку цензуры?
Во-первых, насколько мне удалось узнать, автор был владельцем типографии в Одессе, что, несомненно, облегчало ему издательские возможности. Во-вторых, на титульном листе значится: «50% чистой прибыли пойдет в пользу фонда сирот воинов Императорского женского патриотического общества» (только что закончилась русско-японская война). Я сильно сомневаюсь, чтобы сиротам воинов что-нибудь перепало от этой книги. Единственным покупателем графоманских книг обычно является сам автор. Небезызвестный граф и графоман прошлого века Дмитрий Иванович Хвостов, этот дедушка русской графомании, подарил Академии наук свою трагедию «Андромаха» в количестве 900 экземпляров, то есть почти весь тираж.
Но зачем удаляться в такую старину? В наши дни за границей существуют издатели, которые за большие деньги, взимаемые с графоманов, выпускают в свет их сочинения. Ведь графоман не гонится за гонораром. Настоящий, в чистом виде, графоман бескорыстен. Один из таких издателей в Италии имеет 4 тысячи клиентов-графоманов — настолько обширна и выгодна эта, как ее называют, индустрия тщеславия. Конечно, у нас такие нравы невозможны. Хотя должен сказать, что несколько лет назад ко мне пришел некий графоман. Он хотел со мной посоветоваться. Он был в некотором смущении. Дело в том, что одно из московских издательств соглашалось заключить с ним договор на роман. Но при этом ставило негласное условие: гонорар мы вам выплатим, но романа вашего нам не нужно, а вместо него вы нам устройте гараж...
Что касается до цензурного разрешения, то тут тоже нет ничего удивительного, если вспомнить, что во главе Одесского цензурного комитета стоял действительный статский советник Сергей Плаксин, сам крупный графоман. Пользуясь своим служебным положением, он обильно печатал в одесских изданиях свои стихи. Одно из его четверостиший, напомню, приводит Ильф. Оно было приурочено ко дню рождения императора Николая II.
Скажи, дорогая мамаша,
Какой нынче праздник у нас?
В блестящем мундире папаша,
Не ходит брат Петенька в класс.
Ильфа умиляла эта рифма: «мамаша — папаша».
Надо сказать, что через много лет я столкнулся с подобной системой рифмовки. В ленинградской блокаде из душевных недр одного довольно известного критика вдруг с шумом вырвался графоман, очевидно долго подавляемый, и мы с некоторым удивлением читали в одной военной газете его стихи, где он рифмовал «социализм» и «коммунизм». После капитуляции Германии этот автор загнал своего графомана обратно в глубокое душевное подполье и вернулся к своим обычным критическим писаниям, которые хотя и не представляли собой отрадного явления, но не выходили из пределов нормы.
Как же все-таки появилось на свет сочинение Коссовского-Невральгина, эта до дикости странная книга, до того невероятная, что просто не верится, что она напечатана. Когда ее читаешь, это производит впечатление удара в переносицу.
Автор объясняет появление этой книги в своем предисловии:
«Европейская литература последних веков так залило кровью мое сердце и воспалила мои глаза и чувства, или я был золотой кубок сам, но полный слезами? Или призвал меня к искусству творить дорогой дядя и заслуженный генерал И. Д. Антейкер, который мог служить мне в детстве и когда скитался по земле нитью к сплетенью стихийного романа? Да, только он. Но — увы! — его к концу XIX века внезапная смерть постигла на родине моей по неисповедимой воле Провидения.
Готовил я свою книгу ему... Теперь он не нуждается в этих чарующих фразах, в этих огнедышащих стансах, в этом пахучем и зеленом саду; разве только его и мое верное и доброе потомство. И почему завещаю современникам эту кипарисовую рощу, зеленое пламя которой клубится отсюда в небеса, которое зажег сам в то время, когда буря всякой страсти прошла и когда я ходил по аллеям этого мира твердой поступью, но назад».
К этому Коссовский-Невральгин прибавляет в своем «Послесловии», которое, кстати, он помещает почему-то сразу после «Предисловия»:
«Это произведение «Георгий Славин» начато мною в то время, когда я еще был так умственно слаб, что не верил, или мне придется когда-нибудь бороться с морем и на земле скитаться, как мученик.
Это было как раз после того дня, когда я кончил поэму Байрона «Чайльд Гарольд» и Пушкина «Евгений Онегин».
Конечно, черты подражания есть — 14-строчная онегинская строфа, описание бала (я приведу его ниже), несчастная любовь и т. д. Но это не литературное влияние. А это тот случай, когда обезьяна подражает человеку. Роман «Георгий Славин» (я должен признаться, что долго вздрагивал, когда встречал у Коссовского это имя) начинается так же, как «Евгений Онегин»: «Мой дядя...».
Но дальше перо в руки берет обезьяна:
Мой дядя, чтимый командиром
(Известный всем России друг),
Хотя готовился жить миром,
Только война вспыхнула вдруг.
Он сам великан, как геркулес.
Ростом он был чуть три аршина.
Но главы его седина
Над чернью не взяла перевес...
Графоман пишет с той же твердой уверенностью, что и мастер. Коссовский-Невральгин уверен в своем предназначении великого поэта. Он публикует в своей переписке такое письмо к сыну:
«Мой волнующий сын!
Я писал тебе в ту пору, когда чувствовал прилива слов. Когда здоровье мое еще не дразнилось со мной, не заставляло еще так поклоняться ему, я не обращал внимания на то, что вечер или полночь — я писал.
Твой несуеверный Дюк-де».
Одержимый страстью к стихописанию, Коссовский-Невральгин жертвует для нее всем: смыслом, логикой, формой, размером, рифмой, элементарной грамотностью. Совершенно фантастически он жонглирует знаками препинания, этими, по выражению Тынянова, «внетекстовыми факторами», хотя правильнее их было бы назвать «внесловесиыми факторами». Но и со «словесными факторами» Коссовский проделывает нечто умопомрачительное. Он даже не заботится о сохранении общепринятого значения слов. Он пишет, например:
Счастья дни — увы — настанут,
Перестану я вздыхать.
Или:
Но говорят, что мы в просторе,
Что только здесь дубы росли,
Что пнями землю припасли.
230
Или:
Ах, мысленно я люблю стоять
В светлые и темны ночи,
Смотреть ярки звезды на воде,
Ценить блеянье их в темноте.
Больше всего, пожалуй, достается от Коссовского несчастному, замученному им родительному падежу:
Он пишет:
Вероятно: только ясный свет
Стихийному мне шлет забав,
В огне диктует сих октав.
Я полагал, что жизнь в Крыму
Успокоит грудь, смягчит болей...
О, если мушка я для света,
Пусть земли клочек уделит.
Тогда оставлю музагета
И поселюсь под черных плит.
Когда я буду крепко спать
Умирая в почести славы,
Моих костей в землю сложат...
Пожалуй, не меньше достается и ударению. Не стоит приводить отдельные примеры, вы слышите их в любой цитате из Коссовского. Только один, уж очень он нахальный:
Там была моя колыбель.
Водой сладкой я там напился.
Где так любить я научился
На жизнь, может — на погибель!
Ему здесь нужна была рифма. А ради этого он готов сломать не только ударение, но и самое слово. Он пишет:
Но пусть избавит Мельпомела
Вмиг от трагедии мирской...
Почему он Мельпомену переделал в Мельпомелу? Потому что дальше он пишет:
(Но пусть избавит Мельпомела
Вмиг от трагедии мирской.)
Я здесь спущу последний «ой!»
И улечу обратно смело...
231
Даль в своем толковом словаре дает такое определение графоману: «человек, помешанный на многописании». Словарь «Гранат» определяет графоманию как «болезненную» страсть к сочинительству. В этом же роде определения всех словарей, в том числе и советских. Все подчеркивают болезненность, помешательство, патологическое начало графомании.
Я упоминаю об этом, казалось бы, бесспорном положении потому, что существует иногда даже среди литераторов такое мнение, что и у хороших, талантливых писателей встречаются, так сказать, графоманские страницы. Мне кажется, что это неверно. Короленко, давая советы молодым писателям, говорил, что если какое-нибудь место не дается, следует записать его бегло (Короленко называл такую конспективную запись «мост») и идти дальше, с тем чтобы впоследствии вернуться к такому «мосту» и его художественно разработать. Случается — по небрежности или по другой причине — «мосты» так и остаются «мостами» и могут показаться графоманскими вкраплениями в доброкачественную художественную ткань. Но, повторяю, это не так, хотя бы потому, что «настоящие» графоманские писания необыкновенно многословны (вспомните Даля: «помешанный на многописании»).
Следует также сделать строгое различие между графоманией и просто бездарностью. Эти два демона, терзающие литературу, ничего общего между собой не имеют. В то время как графомания относится к области патологии, бездарность явление вполне нормальное. Бездарное литературное произведение отличается своей серой равномерностью. Ильф замечает в «Записной книжке»:
«Все талантливые люди пишут разно, все бездарные люди пишут одинаково и даже одним почерком».
А вот среди чудовищной нелепицы графоманов с их пренебрежением к языку, к стилю, к самой логике иногда,— конечно, совершенно случайно, — возникают острые эффекты, на которые никогда не решился бы нормальный писатель. В подобном случае Борис Пастернак заметил:
«Бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы».
231
Да вот пример. Коссовский пишет с непринужденностью графомана:
Бела, как куколка немая,
Она из пепла шла сюда...
Какая смелость выражения! Но дальше — какой чудовищный хаос:
И горя с апреля до мая,
Мечтала краснеть, как дитя...
Некоторые обороты речи Коссовского могут даже служить предостережением для тех авторов, которые темноту выражений выдают за глубокомыслие. Например:
Когда свечей же меньше было,
Я б на радугу напирал.
Я б размахнул пером кадило,
Огнем дорогой всей сверкал!
Или:
Поэту днем видна ехидна.
Поэту тьмой поэта видно.
Когда мы пытаемся нащупать сюжет в этом двенадцатиглавном романе Коссовского-Невральгина, нам это не удается. Иногда автор как бы спохватывается, вспоминает о сюжете. И тогда появляются строфы, в которых он пишет о детстве своего героя (моего однофамильца), а может быть, и о своем, пишет, как всегда, энергично и неясно:
Кому придется здесь сказать,
Что я имел плохую мать.
Что с ее груди я не сосал,
Молоко, сладость что не пивал...
Что близь ея не был полней?
Все я вам объясню ясней,
Когда буду властен и в силах
Разить Магомета медный плах.
А то вдруг он намекает на какой-то любовный роман. Предмет его любви зовут Энриетта Перлова. Вот ее портрет, сделанный кистью Коссовского:
К утру красива, как Аврора,
Когда восходит солнце с моря,
В розах неба, горя, плывет...
232
Царицы имени достойна,
Только Атальери твердят:
Она любви дверь скрыла тайно;
Женские чувства в ней сидят.
Не всегда можно понять, с кем протекает этот роман — с автором или с героем. В конце концов мы вынуждены поставить между автором и героем знак равенства. Коссовский и Славин — одно лицо. Действительно братская могила.
Этой своей любовной историей, как и всей своей жизни, Коссовский придает в высшей степени великосветский характер. Все это, как всегда у него, не очень ясно. Во всяком случае, в одном из своих писем сыну он выражается довольно определенно:
«Мой достойный сын!
Если тебя спросят, кто был твой отец и мать, отвечай, дорогой сын: мой отец принадлежал к польским феодалам, а мать из старинной аристократической фамилии. Честность отца не имела границ.
Твой нежный Дюк-де».
Когда Коссовский обращается к прошлому, он тоже окружает себя выдающимися людьми. Он пишет:
Берне, Гегель, Гете, он — Гейне,
Лейбниц, Спиноза — в груди, во мне.
В общем, на всем протяжении романа «Георгий Славин» Коссовский дает понять разными намеками, что его жизнь протекает в каких-то пышных чертогах («Я зовуся Энриеттой, близко Ялты мой дворец»), среди рек шампанского, великосветских красавиц, роскошных балов. Он дает описание одного такого бала. Я обещал его привести:
Уже далеко за полночи!
Только танцующий кадрильонд,
Тратя веселья полномочи,
С оркестром в ногу шли. Бомонд,
Далеко вина распивая,
В экстазе. Музыка полковая
Играет пупури давно.
А тут за парочкой другая
Несется, в воздухе порхая,
233
Хотя свет режется в окно
И кончен Перловых их планец
На диво всем гулявших здесь,
Видавших жирондистов танец
Кадрильным боем в полонез.
Не только в стихах, но и в письмах своих Коссовский-Невральгин подчеркивает, что он окружен аристократами и людьми искусства, поэтами, художниками, актерами и главным образом актрисами. Он говорит кокетливо:
Будто не знал я ласковых актрис.
Будто не знал я английских мисс.
Сочетание якобы высоких духовных интересов и вульгарной манеры выражаться производит неотразимое впечатление. В качестве характерного примера приведу одно его письмо:
«Письмо художнику Перкелю.
...Дорогой друг! Каролина спрашивает неоднократно: есть ли у вас готового из картин... Я вздумал несколько дней тому (за продолжение 3 лет) в тиши леса обнять ее и поцеловать; она тогда тихо говорила слова Байрона, что «я вся твоя, все для тебя». Когда пришел домой, меня ничего не могло успокоить: натирание и вино не давали мне сна, — я думал, что заболею на почве любви. Мой дорогой Александр! Если бы вы знали, что она мне говорит, когда кроме нас никого в кабинете, — и как держится, когда заходит мамаша, стали думать, что ей не 17 лет, а больше. Ее аристократическая поступь и как себя держит в моем присутствии — не оставляет пожелать большего художнику. Мы сегодня идем на концерт — и вы себе можете представить, сколько раз я ее щипну, садясь рядом с ней...»
Тут внимание наше переключается на странность писем Коссовского-Невральгина. Не только на их содержание. Но и на подпись: «Дюк-де». И на те диковинные эпитеты, которыми он сопровождает обращение и подпись. В самом деле, в своих письмах к сыну он обращается к нему со словами:
Мой правоверный сын!
Мой неустанный сын!
233
Мой затаенный сын!
Мой дореформенный сын!
Мой достоверный сын!
Мой привычный сын!
Мой титулярный сын!
Подпись свою он сопровождает такими эпитетами:
Твой быстроходный Дюк-де.
Твой многообещающий Дюк-де.
Твой зажиточный Дюк-де.
Твой предположительный Дюк-де.
Твой озверевший Дюк-де.
Твой бытописатель Дюк-де.
Твой юный Дюк-де.
Твой скоротечный Дюк-де.
Казалось бы, такая необыкновенная книга не могла пройти незамеченной. Мне не удалось найти ни одного отклика. Несомненно, они были, поскольку Коссовский-Невральгин в одном месте романа огрызается и даже угрожает:
...мыслите: то не ново,
Что искру славой скорей судом
Я заброшу в свет своим трудом,
Где критики, скаля зубы,
Ищут все моей погубы!
Не знаю, что писали критики. Издевались, должно быть. Может быть, возмущались. Но психиатр, наверно, нашел бы в писаниях Коссовского-Невральгина так называемый психомоторный симптом и сказал бы, что здесь налицо речевой поток. Между прочим, надо сказать, что графомания как патологическое состояние отсутствует в большинстве курсов психиатрии, несмотря на то, что там приведена очень тонкая и разветвленная дифференциация психических заболеваний, вплоть до, скажем, «сутяжного сумасшествия». Есть там и болезненный страх, и бред ревности, и бред изобретений, и многое другое. А графомании нет даже в известном, очень полном курсе психиатрии Осипова.
И только Бехтерев в своей классификации душевных болезней в пункт «Обыкновенная психоневрастения» включает подпункт: «Горделивая форма», в скобках — графомания.
Это очень любопытная характеристика: «Горделивая форма». Собственно говоря, от этого комплекса в той или иной степени подчас не свободны и вполне нормальные литераторы. Не все писатели обладают такой высокой и благородной скромностью, какая была свойственна Чехову, а в наши дни Ильфу, Андрею Платонову.
Бехтерев в данном случае не развивает этого определения — «горделивая форма». Но самое сближение графомании с манией величия говорит о том, что в графомании есть бред самовозвеличения, есть, как и в каждом культе собственной личности, какой-то элемент бегства от чувства своей неполноценности.

МАСТЕРСКАЯ ЛЕОНИДА БОРОВОГО
Около полуночи я обычно выводил на прогулку собак. В Большом Афанасьевском переулке мы проходили мимо освещенного окна на первом этаже. Беглый взгляд — и всегда одно и то же зрелище: небольшая пещера, выдолбленная в горе книг, а под сводом ее, нахохлившись над столом, — Леонид Боровой. Он писал.
Что?
Может быть, роман «Тем временем», так и оставшийся в рукописи. А может быть, путевые заметки о своих театральных скитаниях по стране, тоже рукопись. Но, может быть, комедию «Чуткость третьей степени», — он так и не предложил ее — по стыдливой гордости своей — ни одному театру. А вернее всего, писал он которую-нибудь из книг своей блистательной трилогии о слове.
Но, возможно, он просто заносил на карточки слова, поразившие его своими бурными похождениями. Он делал это всю жизнь, и так именно собралась необозримая картотека (один из склонов этой горы, в которой он вырыл пещеру для жизни) — бесценный материал для семантического словаря русского языка.
Отрывки из него Леонид Боровой как-то огласил на одном собрании, обидно малолюдном, в Доме литераторов. При этом, между прочим, открылось то, что я, собственно, знал и раньше, но на этот раз — особенно ярко: свойственное Боровому острое ощущение слова не только как вместилище смысла, но и его телесной оболочки, его, как он сам выражался, «звуковой упаковки». Трилогия Борового не только зондаж в смысловые недра слова, но и в его звучание. Он тонко ощущает чувственную природу слова и ее сопряжение со смыслом. Говоря, например, о слове «стерва», он не забывает обратить наше внимание на «самое звучание слова — резкое, как бы разрывающее и раздирающее». В новелле «Оболванивать», рисуя речевой портрет этого слова с его, как он выражается, «звонким и наглым корнем», он пишет, что слово это пригодилось, «когда Гитлер начал превращать в болванов целое поколение немецкой молодежи».
Писатели живут среди слов. Когда заходишь в мастерскую художника, видишь нагромождение тюбиков с красками, кистей, лаков, карандашей, фламастеров, растворителей, рам и прочего инвентаря ремесла. Если бы смыслы слов имели материальную плоть, то, приходя к рабочему месту писателя, мы видели бы нагромождения эпитетов, кучи синонимов, метафор, заваль всевозможных модификаций слова.
В оглашенных Боровым отрывках из его семантического словаря — как и в родившейся отсюда трилогии — есть для писателя какая-то возбуждающая сила. Старый филолог XVI столетия Иосиф Скалигер сказал: «Lexicografis secundus post Herculum labor», то есть он приравнивал труд составления словаря к подвигам Геркулеса. Этот геркулесов труд Боровой совершал всю жизнь, да так и не завершил. Но, повторяю, отсюда именно и произошел его «Путь слова», одна из оригинальнейших русских книг, и два ее продолжения: «Размена чувств и мыслей» и «О приличиях в литературе».
Кто-то назвал книги Борового «неожиданными». И вправду им нет предшественников, хотя автор — человек учтивый — в предисловии обмолвился благодарностью Срезневскому, Буслаеву и другим исследователям дореволюционного языка. Но ведь главный нерв трилогии Леонида Борового в изображении послеоктябрьских приключений русских слов-понятий. А здесь, как он сам пишет, «уже приходилось полагаться главным образом на собственные наблюдения». Вот так и ворвались эти «неожиданные» книги в тихую заводь языковедения.
Но боже упаси назвать его языковедом! Нет, нет, он не считал себя ученым.
— Я писатель, — говорил он с достоинством.
И слово увлекало его именно потому, что оно — достояние писателя. Он настаивает на этом. «Эта книга,— строго предупреждает он в предисловии к «Пути слова»,— не ученое исследование», и «она не может служить и справочным пособием».
Я-то всегда считал Борового художником. Книги его эмоциональны, мышление образно. В самом языке его, свободном, местами почти разговорном, явственно слышится интонация то страсти, то иронии, то настойчивости, то восхищения. Конечно, трилогия Борового — труд писателя, это — художественные биографии слов. Среди них, как и среди людей, есть персонажи положительные и отрицательные, «строптивые» и «смирные», слова-друзья и слова-враги, «ладные» и «топорщащиеся», «хорошие», по определению автора, и «плохие», даже «честные» и «лицемерные». Иногда он скорбит об исчезновении старого хорошего слова, как скорбят об утрате хорошего человека, — например, ломоносовского «совоображения», этой основы остроумия. Кстати, пристрастие Борового к некоторым словам сказалось и на его отношении к собственному имени. Подлинное имя его Лев. Почему-то оно ему не нравилось. Он переименовал себя в Леонида. Так мы все его звали, так зову я его и здесь.
Да, трилогию писал художник. А «художество, — напоминал Лев Толстой, — требует еще гораздо больше точности, «precision», чем наука».
Представьте себе роман, герои которого не люди, а слова. Возможно ли это? В романе люди растут или деградируют, переживают крушения или взлеты, преображаются или раскрывают свою истинную сущность.
Но точно так же ведут себя слова в книге «Путь слова». Кстати, автор первоначально хотел назвать ее «Слово в пути». И, может быть, это было бы правильнее. Ибо слова здесь живут во времени. Боровой прослеживает их судьбы, иногда очень драматичные.
Материал этого романа, или, как иногда называет его Боровой, «театра слов», не ограничен замкнутой средой, тем, что Тынянов называл «домашней семантикой», — например, семейным кругом, как язык молодежи семьи Ростовых в «Войне и мире», — или пределами воображения одного человека, как, например, у некоторых героев романа Куприна «Поединок», где Ромашов говорит о немецком слове: «Unser»: «Унзер, понимаете, это что-то высокое-высокое, что-то худощавое и с жалом...»
Нет, язык народа, язык литературы — вот ристалище, где сшибаются, умирают и побеждают герои Борового. Связь между жизнью общества и судьбой языка — сюжет этого необычайного романа. Не отдельная личность но своей прихоти, а общество по своей житейской необходимости вкладывает в слово тот или другой смысл. Писатели закрепляют языковые находки и изобретения народа. Толстой выходил на дорогу беседовать с народом не только для того, чтобы услышать, что он говорит, но и как он говорит.
По нашему писательскому цеху «Путь слова», да и вся трилогия Борового имеет значение неоценимое для развития литературного мастерства. Писатель погружается в эти книги с таким же чувством, с каким охотник или боец входит в оружейную мастерскую. Ибо слово, как напоминал еще А. Потебня, «само по себе обладает всеми свойствами художественного произведения».
Но этот писатель, Леонид Боровой, был и неистовый читатель. Несколько лет он фактически возглавлял «Клуб книголюбов» при Центральном Доме литераторов, хотя по личным пристрастиям ему бы больше подошло возглавлять «Клуб словолюбов», если бы такой существовал. Познания его были энциклопедичны. Его книги о словах — это в то же время книги о политике, об истории, о поэзии, об экономике, о психологии. Слово «действо» он превращает в новеллу о театральном искусстве. Слово «железнодорожник» вдохновляет его на разговор о политической истории конца XIX века и наших дней. Слово «Трансвааль» — обвинительная речь против расизма. Слово «надолба» — лирический рассказ о буднях второй мировой войны. Сожалею, что он не успел вставить в главу «Добрые люди, добрый малый» еще один пример, мной ему сообщенный и им одобренный, — замечательные слова Юрия Олеши из его воспоминаний о Маяковском:
«Это был, как все выдающиеся люди, добрый человек».
Все примеры — а их чрезвычайно много, настоящий обвал цитат — это не просто по поводу, не просто вокруг да около. А по самой сути понятия, его смысловых граней, его жизненной судьбы. Как стройно, с какой живописной плавностью и поэтическим остроумием разворачивает Боровой историю применения слова «Бессмертие» — от иронических сентенций Державина, от дуализма Грановского до новых значений, влитых в слово современностью.
Некогда журналист, в начале двадцатых годов Леонид Боровой был секретарем «Моряка», славной черноморской газеты, выходящей в Одессе, — он не бросил журналистского пера и в позднейшие годы. Характерно, что в статье, помещенной несколько лет назад в газете «Водный транспорт», Боровой тоже, в сущности, пишет о языке. Здесь он был однолюбом. Статья называется «Поэт Багрицкий и кочегар Прохоров». Она рассказывает о том, как в двадцатых годах молодой Эдуард Багрицкий помогал начинающим поэтам (работа, которую поэт не оставлял всю жизнь).
«Птицелов», как мы называли Багрицкого, — пишет Боровой, — много и упорно работал с Прохоровым каждый раз, когда он привозил из плавания свои стихи».
Целомудренное перо Борового воздерживается от того, чтобы через четыре десятка лет приводить слова Багрицкого в прямой речи (здесь мемуаристы обычно врут больше всего). Он их пересказывает. И тут же цитирует строки из сохранившегося стихотворения кочегара Петра Прохорова. На них явственный отпечаток орлиной лапы молодого Багрицкого:
...Лишь на берег ногой, —
Вижу тип я другой
В красной феске.
И в нерусской стране
Обратились ко мне
По-одесски.
Чистит тот сапоги,
Тот кричит: «Пироги
И галеты!»
И у этих людей
На плечах до грудей
Эполеты...
Журнализм Борового был только одной из боковых тропинок, которые вились рядом с его столбовой дорогой. Таких «объездов» было несколько. Он переводил с французского Жюля Ренара, с английского — Диккенса, мемуары Ллойд-Джорджа. Во время войны он работал на радио по антифашистской контрпропаганде.
Он исценировал для Малого театра «Евгению Гранде». Театр имени Моссовета поставил дюамелевскую «Школу неплательщиков» в его переводе. Театральные статьи и рецензии Борового отличались тонкостью суждений. Приведу одно из них о пьесе «Интервенция»:
«...не одни только положительные черты утверждают в ней наши самые большие идеалы. Эти идеалы утверждает в ней от обратного по высшим законам искусства и мадам Ксидиас, эта шельма, возведенная, по гоголевскому завету, в перл создания».
Каждый новый штрих в портрете Борового приходится начинать с противительного союза «но». При всей своей усидчивости, при всей фанатической прикованности к письменному столу он отнюдь не был привержен к монашескому образу жизни. Ничего постного, надмирного, бестелесного нет в его образе. Азартный картежник, яростный спорщик, он никогда не чуждался житейских утех и радостей бытия. «Я гусар», — подшучивал он над собой.
В книгах его черты жизнелюбия отразились смелостью мысли, свободной от шаблонов, ее боевитостью, воинственным духом.
Но...
Это, пожалуй, самое серьезное «но». И самое для портретиста трудное. Однако его не избежать. Я всегда стремился изображать свои модели во весь рост. Считаю уместным позволить себе здесь небольшую цитату из своего этюда «Кольцов в Испании»:
«Века существования не вытравили лицемерия из старой лукавой пословицы: «De mortuis aut bene, aut nihil. Ничто, даже самая смерть не дает права на посмертное прихорашивание». Ленин писал:
«Фарисеи буржуазии любят изречение: «De mortuis aut bene, aut nihil («О мертвых либо молчать, либо говорить хорошее»). Пролетариату нужна ПРАВДА и о живых политических деятелях и о мертвых, ибо те, кто действительно заслуживают имя политического деятеля, не умирают для политики, когда наступает их физическая смерть».
Мне могут возразить, что Леонид Боровой не политический деятель. Но ведь писатель, хочет он этого или нет, уже по самому роду своей работы политический деятель. «Шепот, робкое дыханье, трели соловья» — тоже политическая программа, ибо самоотстранение от политики — тоже политика. Да к тому же не только к политическим деятелям применимы прекрасные слова Ленина. То, что неуместно в некрологе, то необходимо в портрете. Я не устаю повторять это. В своем этюде «Черты из жизни Михаила Светлова» я писал:
«Я сторонник объемных, трехмерных характеристик. Они дают возможность восстановить образ ушедшего во всем его душевном богатстве».
В третьей части своей трилогии — «Диалог, или размена чувств и мыслей» — Боровой вспоминает любимое свое двустишие из «Евгения Онегина»:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
238
Это к тому, что диалог, разговорный язык есть, по утверждению Борового, оружие общения. Разумеется, он не останавливается на этом трюизме, а прибавляет далее: но общения противоречивого. Разматывая бесконечную цепь увесистых доводов в виде примеров, Боровой настаивает на том, что литература — это диалог, где слова находятся в беспрерывном поединке друг с другом. Ловкость, с какой он это доказывает, вызывает восхищение, настойчивость, удивляет.
В самом деле, для чего ему это нужно? И не потому ли он это делает, что сам он, вся натура его, одновременно экспансивная и рассудительная, находилась в вечном поединке с собой? Экспансивность эта в исключительных случаях доходила до неосмотрительности, а рассудительность принимала форму преувеличенной осторожности. И тогда наш милый Леонид являл собой странное смешение смелости и уклончивости. В один из таких периодов самоторможения пришлось долго уговаривать его, чтобы он согласился отдать в печать свои интереснейшие воспоминания о Бабеле. Иногда смешение это проникает на страницы его многоголосых книг, и тогда после великолепного поэтического взлета, после картины зверинца слов, посреди которого Боровой бесстрашно гуляет, как укротитель, ибо он действительно чувствовал себя среди слов, как среди живых существ, не всегда усмиренных, он вдруг, убоявшись эксцентричности, уходит в уклончивость, в ретираду.
Он очень хлопотал по поводу творческого вечера своего друга, талантом которого всегда восхищался, привлекал людей к выступлениям, причем подвергал их строгому отбору.
— Ну, а вы-то сами выступите?
Он начинал мяться, снова эти уклончивые ответы, и в конце концов выяснялось, что нет.
— Я напишу о вас, — пообещал он.
И действительно, написал. Но не произнес этого публично и не напечатал, а преподнес лично другу. Таким образом, этот опус, весьма для того лестный, имел только одного читателя. Что делать! Так нас природа сотворила, к противуречию склонна...
Сам-то Леонид понимал это противоречие, этот вечный, как он выразился, «диалог, если это не «заговаривание зубов», не «трамвайный разговор», не «вопросы и ответы» в учебнике или катехизисе, не обязательные, по уставу, отзывы на приказ и команду, — настоящий диалог свободных людей — это непременно спор: встреча речей, сшибка характеров и мировоззрений».
Настоящий диалог свободных людей... Хорошо сказано! В сущности, к этому и сводился удивительный труд жизни Леонида Борового. Для того он и вламывался в чащу слов и прорубал там дороги, горбясь над столом в течение почти полувека в своей книжной пещере по Большому Афанасьевскому переулку.
Ничто при этом не ускользало от него. Натренированное внимание, направленное на существо и жизнь слова, приводило его порой к открытиям удивительным. Когда во время второй мировой войны Кукрыниксы выставили свою картину, изображавшую недавно освобожденный Новгород, Боровой ликовал не только по поводу победы наших войск, но и потому, что картину свою художники назвали «Великий Новгород в 1944 году». Он темпераментно доказывал, что именно старинное имя города «и оказалось достойным ратных подвигов воинов, жертв народа на алтарь Родины, булатной крепости народного духа». Самим подбором этих слов Боровой подчеркивал, оправдывал и возвеличивал воскрешение архаизмов.
И на этого-то человека, остро влюбленного в родное слово, на это, можно сказать, тончайшее чувствилище русского языка некий прыткий театровед пытался во время оно навесить бирку с надписью: «Космополит».
Другой случай. Существовали в первые годы Революции так называемые «Окна Роста». Там выставляли агитационные плакаты, их делали лучшие мастера — художники и поэты, в том числе Маяковский. Никто не вдумывался в самое значение слов «Окна Роста». Роста так Роста, — известно, что это: Российское телеграфное агентство. Но Боровой услышал здесь и другое звучание, вторичное, символическое, связанное с понятием роста,— роста революционного сознания народа. Ему увиделась в этом словосочетании «философская форма, вошедшая в наш обиходный язык».
Воображение его поражали не обязательно какие-то редкие слова, старинные или, напротив, новорожденные. Вот будничные, служебные: «может» и «не может». Но, сопоставив стихи Маяковского: «Всем! Всем! Всем! Всем, кто больше не может», с хемингуэйевским: «Один человек больше не может» (из «Иметь и не иметь») и ленинским «Лишь тогда, когда «низы» не хотят старого и когда «верхи» не могут по-старому, лишь тогда революция может победить», — Боровой убедительно показывает, как простенькое, незаметное слово в новом применении вдруг разворачивает таившуюся в нем мощь.
Конечно, у Борового были среди слов свои любимцы, он приближал их к себе, делал фаворитами. Иногда это было какое-нибудь малопочтенное, «низкое» или просто устарелое слово вроде «даешь!» или «баской». Иногда же благозвучное и приподнятое, вроде «предназначение века», по поводу которого он запальчиво вскричал, что в наши дни «продолжается Главный диалог: кто лучше понимает наше время, предназначение века? Кто в самом деле реалист? Большой спор не на жизнь, а на смерть».
Да, именно вскричал, я не оговорился. Удачная находка счастливого слова, вернее — его счастливого применения, народного ли, писательского ли, встречалась Боровым со свойственным ему раскатистым смехом (смех удовольствия!). Он ведь был немножко крикун. В споре он не сдерживал голоса. Но как плавна, почти музыкальна была его речь, когда он развивал мысль — притом без повторений, все сказано единожды, но с точностью безукоризненной, в яблочко.
Крупный художник, оригинальный мыслитель, автор уникальных книг, Леонид Боровой недооценен, он даже не попал в «Литературную энциклопедию». И это напомнило мне грустные слова одного из героев Андрея Платонова, какими заключает свой этюд о нем Леонид Боровой:
«Без меня народ не полный...»

ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ МИХАИЛА СВЕТЛОВА
Одно время Михаил Светлов и я не расставались. Это были грозные дни начала войны.
Двадцать второго июня сорок первого года я снова стал военным корреспондентом. Говорю «снова» потому, что до того я уже участвовал как корреспондент в одном из военных конфликтов.
Я снова увидел своего старого Редактора, уже известного мне по работе в боевой обстановке прежних лет. Он мало изменился. То же тощее, ловкое тело. Та же резкая, телеграфическая речь. Та же внезапность решений. Работать с ним было интересно и тяжело. Превосходный газетчик, журналист «божьей милостью», он иногда был подвержен необъяснимым капризам. На фронте его отличало предельное бесстрашие. Того же он требовал от всех нас.
Разумеется, я не хочу приравнивать труд военного корреспондента к подвигу солдата. Правда, случалось, что и корреспонденты ходили в атаку. Да, но только — случалось. И в атаку, и в разведку, и в десант, и в подлодке хаживали, и на бомбежки летывали. Но это все не вменялось журналисту в обязанность. Забота у него одна: добыча материала для газеты. И все. А каким образом — дело его. В поисках материала военные корреспонденты, случалось, и погибали. В газетах «Красная звезда» и «Известия» было выбито не менее половины корреспондентского корпуса. Так что можно сказать, что гибель в бою входила в число профессиональных трудностей журналиста на фронте.
Увидев меня, Редактор вскочил и прижал меня к своей груди. Между ветеранами военной печати существовало своего рода братство. Оно сохранилось до сих пор. Круг стал теснее, но чувства от этого только окрепли.
Редактор осведомился о моих пожеланиях. Мне хотелось поехать на Юго-Западный фронт, там работали военными корреспондентами мои близкие друзья. Сказав об этом Редактору, я тотчас понял, что сделал промах. За два года гражданки я успел позабыть о некоторых чертах его характера. Я попросился на Юг и тотчас был направлен на Север.
Так я попал в Ленинград, на Северо-Западный фронт.
До отъезда мне было предоставлено несколько дней для устройства личных дел. Таким образом я увидел Москву первых дней войны.
На площадях у вокзалов толпились мобилизованные. Поэты и циркачи, взгромоздившись на дощатые, наспех сбитые подмостки, развлекали призывников злободневными клоунадами и стихами. На бульварах появились аэростаты воздушного заграждения — огромные серебряные киты, дремавшие на привязях под деревьями в цвету. Стояло сладкое, обильное лето. Затемнение, короткие часы полного мрака были в новинку и никого не пугали.
Война в те дни не страшила. Мы верили в мощь Красной Армии, в мощь страны, в свою мощь.
В Ленинграде было тревожнее. Враг недалеко. Город стал многолюднее, чем в мирное время. Кругообразная линия фронта — будущее кольцо блокады — гнала сюда людей из многих мест, из самой Эстонии.
Вскоре ко мне присоединился Светлов. В ту пору ему было под сорок. Но никто из знавших его не станет отрицать, что он оставался молодым и в шестьдесят лет. Мы с ним поехали на запад, в расположение 8-й армии. В Политуправлении мы встретили жизнерадостного Апресьяна, одного из любимых учеников академика И. П. Павлова, и писателя Руд. Бершадского, худенького, в эстонской шинели. Он проделал поход от самого Таллина и казался несколько уставшим.
Армия отступала с боями. Картина войны стала для нас выясняться. Светлов помрачнел. Никогда, ни раньше, ни позже, я не видел этого всегда радостного и нежного человека таким подавленным и одновременно возмущенным. Им владело какое-то гневное удивление. Слишком разительно было противоречие между нашим привычным представлением о боевой мощи Советского Союза и отступлениями в те дни войны.
Иногда Светлов восклицал:
— Если б и м все объяснить!
Под н и м и он разумел немцев. Наивно, не правда ли? Но эта наивность имела свою подкладку: доброту. Особенную, всеобъемлющую доброту Светлова, о которой я еще буду иметь случай говорить.
Вот почему, хотя он много и хорошо писал в военной печати и часто выступал по радио из осажденного Ленинграда, эта работа не полностью удовлетворяла его.
— Понимаешь, — говорил он, — мы агитируем не того, кого надо. Мы своих агитируем. А своих что агитировать? Они и так убеждены, что Гитлеру надо сломать холку. Немцев — вот кого надо агитировать, чтобы они очухались и сами сломали Гитлеру холку.
Когда позже, в 1943 году, я снова встретил Светлова и мы вспоминали горькую героику начала войны, я спросил его, по-прежнему ли он убежден, что надо агитировать гитлеровцев.
Он сказал:
— Знаешь, старик, я уже раскусил их. Эти лингвисты понимают только один язык: язык оружия.
Тогда же он прочел мне своего изумительного «Итальянца», только что им написанного:
Я не дам свою родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю — и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Другой поэт на этих прекрасных строках закончил бы стихотворение. Но Светлов не был бы Светловым, если бы не прибавил:
Никогда ты здесь не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...
Убив оккупанта, он его пожалел.
Фронт уже врезался в город. Две армии, четыре танковых дивизии, три воздушных корпуса рвались в Ленинград. К боевым участкам подвозил трамвай. За пятнадцать копеек он доставлял вас к рубежу обороны. У ворот Кировского завода кондуктор объявлял: «Конечный пункт, дальше фронт». Немецкие позиции были всего в шести километрах от завода, «оскорбительно близко», как незабываемо сказал Александр Штейн. Немцы стояли на восточной окраине Урицка и обстреливали город уже не только из тяжелых, но и из легких орудий. На Московском шоссе ротный патронный пункт расположился в квартире одного знакомого журналиста, по каковому поводу Светлов заметил ему:
— Старик, приглашаешь нас к себе на патроны?
На перекрестках моряки складывали в окнах кирпичные бойницы. Штурм следовал за штурмом. Уменьшился паек. К концу ноября рабочие получали 250 граммов хлеба, служащие, иждивенцы и дети — 125 граммов. Иногда давали дрожжевой суп без выреза талона, и это был праздник. В те дни в Ленинграде осталось продуктов на две недели. Подвоза не было. Ели крапиву, липовые листья, прошлогоднюю, червивую картошку, которую трагический юмор народа окрестил «тошнотики».
Немцы взяли Тихвин. Они рассчитывали овладеть Волховской ГЭС, соединиться с финнами в Петрозаводске и замкнуть таким образом вокруг Ленинграда второе кольцо блокады.
С Смольнинского аэродрома увозили детей, раненых, рабочих эвакуированных заводов. Самолеты потеряли последнюю тень романтики. В них была давка, как в трамвае в часы пик.
Мы со Светловым ходили обедать в маленький буфет при редакции фронтовой газеты «На страже Родины». Он помещался в самом начале Невского проспекта, в темноватой комнатке на первом этаже. Обеды приносили в ведрах из соседней столовой и здесь подогревали на примусах. Рядом с буфетом зиял большой провал в стене: снаряд попал в магазин пишущих машинок.
Жили мы неподалеку, среди нищего великолепия гостиницы «Астория», той самой, где гитлеровцы уже назначили офицерский банкет по случаю предстоящего взятия Ленинграда. Даже и число было обозначено на специальных пригласительных билетах — один из осенних дней сорок первого года. Ожидание этого банкета несколько затянулось. Так годика на три. В конце концов немцы, как известно, драпанули обратно к своему Берлину, где их ждало горькое похмелье после несостоявшегося пира в «Астории».
Писали мы обычно ночью, заставив окно фанерой и засветив фонарь «летучая мышь». Гостиница была почти пуста, ни света, ни воды. Окна первого этажа были зашиты мешками с песком. В сквере против гостиницы вместо георгинов и флоксов мирного времени росли укроп, картофель, лук.
Мы могли бы поселиться в роскошных номерах, где останавливались коронованные особы, известных под именем «апартаменты принца Геджасского». Но предпочли занять самые дешевые, маленькие и полутемные номера, так как окна там упирались в кирпичную стену. Это составляло главную привлекательность таких комнат, потому что стена защищала от попадания артиллерийских снарядов. Артобстрел считался опаснее бомбежки, он разражался внезапно, без предварительного оповещения: «Тревога!»
На стенах домов появились надписи:
«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
А в одной маленькой столовой в начале Невского висело даже такое объявление — оно очень смешило Светлова:
«Вход в столовую без противогаза воспрещен».
Мы уже научились по звуку определять калибр пролетающих снарядов. И даже самый штатский из нас, Миша Светлоь, вслушавшись, говорил с видом знатока:
— Старик, по-моему, это сто пять миллиметров из-за Пулковских.
Однажды мы со Светловым пришли на завод, где делали автоматы. Ветер вбивал через бреши в стенах мокрый снег. Электрического тока не было. Но станки работали. Вручную! Двое рабочих крутили станок. Третий сверлил и шлифовал стволы автоматов.
Пока мы наблюдали эту поразительную картину, в цех пришли три автоматчика. Они пришли с ближайшего участка фронта. Для этого не нужно было много времени. Они похвалили автоматы, но была у них и претензия к заводу: приклад слабоват.
— Хватишь фашиста по голове — дерево ломается,— пояснил один из них.
— А вы не по лбу, — серьезно посоветовал Светлов.
Полупустынный Ленинград, весь в пожарах, в разрывах снарядов, в голодных смертях, отчаянно дравшийся и неистово работавший, потрясал и восхищал Светлова. Как-то он показал мне книгу старых арабских легенд.
— Здесь про Ленинград, — сказал он. Я удивился.
Он прочел подчеркнутую им фразу:
— «Сахара была просеяна через сито, и в сите остались львы...»
Днем тракторы растаскивали на топливо деревянные дома. Однажды ночью горели за Невой «Американские горы». Зарево — в полнеба. На фоне его, ослепительно освещенные этим трагическим светом, — Ростральная колонна и белая башня Петропавловского собора.
Почти каждый день мы отправляли свои корреспонденции в Москву по радио. В один из сентябрьскгх дней (если не ошибаюсь, 18 сентября) был прерван и этот последний вид связи с Большой землей (не считая, конечно, воздушной почты): над Ленинградом разразилась магнитная буря. В небе бушевало северное сияние. Мы со Светловым шли в эту ночь по Суворовскому проспекту, возвращаясь из Смольного, из штаба фронта. Миша смотрел в небо, на сумасшедшую пляску гигантских огненных сполохов. Потом сказал:
— В этом есть что-то подавляющее, что-то более сильное, чем война, чем человечество.
Глаза его сощурились, лицо пересекли морщины иронии, и он прибавил:
— Я, кажется, стал похож на того старичка, который, выйдя из Планетария, сказал: «А еще говорят, что бога нет...»
Ирония Светлова! Есть люди, которые появились на свет, чтобы обличать. Другие — чтобы властвовать. Третьи — чтобы спасать человечество. Светлов родился, чтобы радоваться и чтобы радостью своей делиться с другими. Радоваться и радовать. Отсюда всеобъемлющий (как и у его доброты) характер его обаяния. Светлов был площадкой, на которой сходились все. Обаяние Светлова, как я понимаю, происходило от его страстного интереса к жизни и от абсолютной душевной свободы. Он любил жизнь и был свободен от привязанности к ее материальной стороне. Мир представлялся ему одушевленным, и он сам говорил, что для него «нет предмета без души».
От этой внутренней свободы он был бесстрашным, в чем я убедился на фронте. В сущности, он боялся в жизни только одного: таблицы умножения. Он сказал, обращаясь к молодым поэтам: «То, что 9x9 = 81, — не ты сочинил. Любить родину — не твоя идея. А вот как ее любить, ты должен сообщить людям. Ты должен не повторять патриотизм, а продолжать его. Иначе ты будешь похож на человека, который изобрел деревянный велосипед, не зная, что уже есть металлический».
Излучение радости исходило от него всегда, как и его знаменитая ирония. Иной раз она проявлялась в такие моменты, когда не каждый способен был воспринять ее. Мы как-то с ним попали под довольно жестокий обстрел, а такие ситуации не очень располагают к шутливости. Лежавший рядом со мной Светлов вдруг сказал:
— Старик, ты представляешь себе, один снаряд в задницу — и талант, успех у женщин, гениальные мысли, большие тиражи, все это — трах! — к чертовой матери!
Ирония, которая обычно является благодетельной дистанцией между художником и действительностью, иногда у Светлова превращалась в избыток дистанции.
Я сторонник объемных, трехмерных характеристик. Они дают возможность восстановить образ ушедшего во всем его душевном богатстве. Именно потому, что доброта Светлова распространялась более вширь, чем вглубь, он завоевывал все сердца.
Я никогда не видел его в инертном, нейтральном состоянии, в позиции воздерживающегося. Он всегда был или за, или против. Состояние душевной невесомости было не свойственно ему до такой степени, что как только ему становилось скучно, он стремглав бежал от источника скуки, будь то книга, гость, заседание или подруга.
Я не знаю, сохранились ли его записи о блокадном Ленинграде. Это нельзя было назвать дневником. Это были отрывочные наблюдения, солдатские разговоры, отдельные стихотворные строчки.
— Слушай, старик, — сказал он как-то, — какую пьесу можно написать о Ленинграде! Если я выживу, я буду писать пьесы.
Он так и сделал. Он написал после войны еще несколько пьес. Он любил писать для театра. Пьесы его трудны для постановок. Они слишком лиричны. Этот человек, казавшийся таким мягким, не шел на компромиссы ни в чем — в театре тоже. Он не шел на сделку с «театральностью» театра. Пьесы его превосходны. Но для того чтобы они удались на сцене, нужно, чтобы не только автор, но и постановщик, и художник, и композитор, и все исполнители были Светловы. А где их столько наберешь? И одного-то мы получили только однажды.
Кольцо вокруг Ленинграда становилось все туже. Город готовился к уличным боям. Некоторые корреспонденты, помимо обязательного пистолета, обзавелись автоматами и гранатами. Один Светлов ходил без оружия. Он не был в кадрах армии и не состоял на армейском снабжении. Я привел его на артсклад, к знакомому воентехнику.
— Пистолетов ТТ у меня сейчас нет, — сказал воентехник, — но вот вам старый добрый наган.
Миша ответил:
— Это как раз мне подходит, потому что сам я молодой и злой.
Он с удовольствием вертел в руках наган. По-видимому, он обрадовался ему. Возможно, в нем вспыхнула мальчишеская страсть к оружию. За все наше с ним пребывание на фронте он обнажил его только один раз, когда собирался убить меня.
Вот как это произошло.
Немцы уже заняли завод «Пишмаш» в черте города. В больнице имени Фореля был штаб армии. Когда мы взбирались на крыши многоэтажных домов, к наблюдательным пунктам контрбатарейщиков, мы явственно видели немецкие расположения.
Пятнадцатого и шестнадцатого сентября были невиданные по продолжительности артобстрелы города: каждый длился свыше восемнадцати часов!
Позже, через два года, когда блокада была разорвана и немцы бежали из-под Ленинграда, были найдены некоторые их документы, брошенные или утерянные в спешке отступления. В том числе — планы Ленинграда, изданные гитлеровцами. Они испещрены цифрами. Вот, например, № 736, и тут же инструкция: стрелять по нему осколочно-фугасными снарядами. Что же скрывалось за этим номером? Школа в Бабурином переулке... А вот по № 192 приказано стрелять фугасно-зажигательными. № 192 —это Дворец пионеров... А по № 757 — многоэтажный жилой дом на Большой Зелениной — фугасными и бризантными...
Корреспондентский долг заставлял нас находиться на улицах. В один из этих горячих дней, возвращаясь от коменданта города, я свернул с Садовой на Невский и по ту сторону проспекта увидел Светлова. Он перебежал ко мне, схватил меня за руку и потащил через мостовую на противоположную сторону, к Гостиному двору.
— В чем дело? — спросил я, вырываясь.
— Старик, загар тебе не к лицу,— сказал он.
Дело объяснилось просто. Светлов, оказывается, уже знал то, чего я еще не знал: когда немецкие батареи стреляли с Дудергофских высот, солнечная сторона улицы была опаснее теневой.
Над городом висел, как второе небо, необъятный и бесконечный орудийный грохот. Изощрившийся слух наш различал в этой адской кутерьме ободряющий гром наших пулковских и колпинских батарей. Через головы ленинградцев били наши балтийские эсминцы, кронштадтские форты, башни линкоров и крейсеров.
Никогда еще положение Ленинграда не было таким угрожающим. В штабе фронта нам показали перехват гитлеровского радио:
«Немецкие войска проникли в Ленинград».
Миша добавил:
«Передачу ведет барон Мюнхгаузен».
Как описать наши чувства в те дни? Я был твердо уверен, что немцы не пройдут. Может быть, моя уверенность проистекала из того, что я был в кадрах армии и имел командирское звание. Это много значило. Я ощущал себя частицей великого коллектива Красной Армии. Позади нас — Родина. Мы — ее оружие, сгусток ее силы. Враг проник глубоко в нашу страну. Мы выметем фашистов в их логово и там перешибем им хребет. Это было больше, чем вера в победу, это было сильнее, чем предвидение победы, это было з н а н и е: мы победим!
Когда Светлов возвращался с переднего края, он бывал преисполнен бодрости.
— Знаешь, что я видел на Пулковской высоте? — сказал он. — Орудие с «Авроры». Да, да, то самое, которое грохнуло по Зимнему дворцу в семнадцатом году. Так вот, оно сейчас стоит на огневой позиции и грохает по немцам. Здорово, а? Нет, ты только вдумайся! Сама Октябрьская революция бьет по фашистам!
А когда в тот же день мы проходили по Дворцовой площади, Миша сказал:
— Знаешь, сколько отсюда до немцев?
— Знаю: четырнадцать километров. Ну и что?
Он ничего не ответил.
А вечером к нам пришли два известных кинорежиссера и предложили нам организовать вместе с ними партизанский отряд ввиду неизбежности падения Ленинграда.
— Они не пройдут, — быстро сказал я, прежде чем Миша успел согласиться.
Я рассказываю обо всем этом для того, чтобы было понятно, почему Светлов обнажил свой револьвер, чтобы убить стоящего перед ним.
В эти дни — от двенадцатого до двадцать пятого сентября — шли непрерывные штурмы Ленинграда с ближних подступов, местами просто с окраин города. На Ленинград бросились шестнадцать пехотных, три механизированных и несколько танковых дивизий.
В сущности, это был один сплошной штурм, не прерывавшийся в течение тринадцати дней.
В один из них Светлов поднялся непривычно рано. Ему не спалось. Он снял трубку внутреннего телефона и позвонил к товарищу корреспонденту. Тот, раздосадованный тем, что его разбудили, послал Мишу к черту.
— Кто это говорит? — обеспокоенно спросил Светлов, не узнав голоса.
Корреспондент прохрипел угрожающе:
— Это вы сейчас узнаете. И бросил трубку.
В этом хриплом спросонья голосе Светлову почудился немецкий акцент. Его легко возбудимое воображение, щедрое и податливое, бешено заработало. Прорвались? Рассыпались по городу! Идут уличные бои! Захватили «Асторию»!
Он быстро подпоясался и расстегнул кобуру.
В это время раздался нетерпеливый и, как показалось Мише, повелительный стук в дверь.
И когда в овальном матовом стекле вверху двери смутно обозначились неясные очертания чьей-то головы, Светлов уже не сомневался: немцы!
И он решил дорого продать свою жизнь.
Он не станет ждать, пока они вломятся в комнату. Еще один стук в дверь, и он будет стрелять в эту фашистскую башку, отвратительно темнеющую за стеклом.
Нет, надо как следует представить себе эту картину.
Стало быть, по ту сторону двери, в представлении Светлова, орава фашистских убийц, отборные эсэсовцы, может быть, сам фельдмаршал Риттер фон Лееб, явившийся в «Асторию» на обещанный офицерский банкет победы. По эту сторону — худенький Миша Светлов с наганом в вытянутой (и слегка дрожащей) руке и с решительно сжатыми губами.
Конечно, это смешно, принимая во внимание, что в коридоре стоял не фельдмаршал Риттер фон Лееб и не полицейская дивизия СС, а всего только я. (Я шел завтракать в наш буфетик на Невском и постучался к Мише, чтобы взять его с собой.) Подождав немного и не услышав ответа, я поднял руку, чтобы постучать вторично. Но передумал — пускай поспит еще — и опустил руку, не подозревая, что этим движением я спас свою жизнь.
Да, это смешно. Но это и трогательно, учитывая несоизмеримость противостоящих друг другу сил, когда Светлов решил выступить один против двадцати двух пехотных, моторизованных и танковых дивизий.
В этом его решении было что-то рыцарское, была та «высокая честь», о которой он писал в бессмертной «Гренаде» и которая всегда лежала в основе его натуры и в критические моменты вспыхивала со взрывчатой силой.
Так он стоял, широко расставив ноги, слегка наклонив торс и простерев руку, в позе солдата, изготовившегося стрелять, стоял минуту, три, пять, — воплощение мужества и героизма. Постепенно рука стала замлевать, невыносимо зазудело где-то между лопатками (он даже позволил себе на мгновенье почесать спину наганом), в ногах забегали мурашки, и страшно захотелось есть, даже в животе забурчало.
Тем временем снизу, со двора, донеслись, как каждое утро, мирные звуки пилки и колки дров. Где-то звучно выбивали ковер. Кто-то в коридоре совершенно обыденным голосом клянчил у уборщицы горячей воды для бритья.
Миша, как безумный, ринулся на Невский, в буфет. Он был потрясен, но старался, как всегда, прикрыть это шуткой. После объяснения, полного крепких речений и хохота, между нами произошел такой обмен репликами:
Он:
— Да, старик, все-таки Дантеса из меня не получилось.
Я:
— Не расстраивайся, Миша, ведь, между нами говоря, и я далеко не Пушкин.
Он тут же выдал мне двадцать копеек за эту репризу.
Прилетев в Москву и встретив мою жену, он сказал ей:
— Знаешь, старуха, я чуть не сделал тебя вдовой.
Всю жизнь он любил рассказывать об этом ленинградском происшествии. В последний раз мы со Светловым вспоминали об этом незадолго до его конца, уточняли обстановку, фантазировали на тему: «Что было бы, если бы...» При этом выяснилась одна новая подробность.
Я спросил:
— Что было бы, когда ты узнал бы, что убил меня? Миша изумленно посмотрел на меня:
— Я не узнал бы.
— Почему?
— Потому, что следующую пулю я собирался пустить в себя. Неужели ты думаешь, что я дался бы им в руки живым!
Сказано это было в свойственной Светлову манере — мягкой и непреклонной.

О ЛАПИНЕ И ХАЦРЕВИНЕ
Когда я впервые увидел Бориса Лапина, ему было лет двадцать пять.
У него была репутация «старого» литератора. Он печатался с шестнадцати.
Но эти первые его юношеские стихи я прочел через много лет, и они задним числом удивили меня. Они совсем не походили на ту умную, полнокровную прозу, которую он стал писать, перевалив за двадцать. Лапин начал в эксцентрическом роде. То была какая-то странная помесь Карамзина и Хлебникова, допотопных романтических баллад и словотворческих изысков наимоднейшего покроя. «Я писал стихи книжные, туманные и оторванные от жизни», — вспоминает Лапин в автобиографической заметке. Явственный дух романтики бился и не мог выбиться из этих архаически-заумных упражнений.
Первые шаги всегда подражательны. Чем больше юный автор упорствует в неповторяемости, тем неотвратимей он эпигонствует. Надо вспомнить то время, когда иждивением авторов выходило в свет безмерное количество тощих эстетских сборничков под марками «Цеха поэтов», «Московского Парнаса», какого-то «Издательства Чихи-Пихи», тиражом в двести пятьдесят — триста экземпляров и с явной претензией ниспровергнуть всю предшествующую мировую литературу. Об их существовании не подозревала страна, напрягавшая силы в трудах и боях. Ни даже Москва. Может быть — только несколько переулков, окружавших «Кафе поэтов» на Тверской, где ежевечерне происходило комнатное кипение поэтических страстей. Вскоре эта армия, рекрутировавшаяся по преимуществу из пошляков и графоманов, бесследно растворилась. Одни шагнули из поэзии прямо в коммерцию только что объявленного нэпа. Другие стали благопристойными авторами опереточных либретто.
В литературе от всего этого осталось несколько истинных талантов, для которых мальчишеская игра в гениальничанье была первой пробой сил. Среди них был Борис Лапин.
* * *
Нас познакомили. Признаюсь, не таким представлял я себе этого неутомимого путешественника, автора «Тихоокеанского дневника» и «Повести о стране Памир». Передо мной стоял невысокий, худенький юноша с изящной и хрупкой внешностью типичного горожанина, сутулый, словно от неумеренного сгибания над письменным столом, неразговорчивый, порывистый. Речь его была сдержанна и как-то рассчитанно банальна. Толстые стекла очков отстраняюще холодно мерцали под высоким, чистым лбом. Красивый, нежный рот улыбался редко, С напряженной вежливостью. А подо всем этим была какая-то невыраженная, но явственно ощущаемая сила.
Он похвалил что-то написанное мной все в той же небрежной, отрывистой манере. Позже я стал догадываться, что истоки этого ненатурального высокомерия — в застенчивости Лапина. Изредка он оживлялся, и тогда все существо его вспыхивало детской свежестью.
Впоследствии, когда я с ним подружился, я увидел, что основой его душевной организации была именно эта прелестная, непосредственная, детски нетронутая свежесть. Но и тогда временами он вдруг ускользал в свою скорлупу несколько надменной замкнутости, увлекаемый туда отвращением к интимным излияниям, в которых всегда ему чудилось подозрительное красноречие.
Иногда, рассказывая что-нибудь (а рассказывал он с блеском истинного художника), он вдруг осекался и, к удивлению слушателя, впадал в бесцветное бормотание. Он стыдился своего блеска, он намеренно притушивал его, боясь быть уличенным в неестественности, в позе, которой он чурался больше всего на свете.
* * *
Лапину скоро надоела мышиная возня московской салонной поэзии двадцатых годов. Однажды он отшвырнул от себя всех этих Новалисов и Кусиковых, «общительных мамелюков» и «радучих горевальцев».
Что ему весь этот прокатный бред эспрессионизма! Он вырос из него, как вырастают из детского платья. К тому же оно было не свое, заемное, не гревшее на русских морозах. А Лапин был человек очень московский, родившийся и выросший в Москве, в гуще сретенских переулков, очень любивший Москву, пропитанный ее своеобычностью, ее говорком, духом ее вольности. В Октябрьскую революцию ему исполнилось двенадцать лет, он рос в годы гражданской войны, созревал в пятилетке.
Пятнадцати лет Лапин попал на деникинский фронт вместе со своим отцом, военным врачом красноармейского полевого госпиталя. Впечатления эти глубоко запали ему в душу. Они пробиваются даже сквозь манерные интонации его мальчишеских стихов:
На курке от нетерпенья так дрожит моя рука.
Истекаю, истекаю местию большевика...
Он был объят романтическим патриотизмом. Но что было более романтического в мире, чем Советская республика? Он захотел увидеть свою удивительную страну.
Жизнь Лапина превратилась в беспрерывные странствования. «Тонкая стена обыкновенного была пробита»,— пишет он в свойственном ему тогда приподнятом тоне («Тихоокеанский дневник»).
Он думал, что уезжает на Восток за экзотическими впечатлениями. На самом деле он пошел в люди, по великому примеру славных писателей-реалистов. Он был слишком проницателен и честен, чтобы долго увлекаться внешней живописностью Востока.
«На моих глазах, — пишет он в автобиографической заметке, — совершилось удивительное преображение Средней Азии в Советскую республику, на моих глазах нарушились все старые отношения, возникли совершенно новые... Я увидел Народную Бухарскую республику, совет назиров в эмирской цитадели, коммунистов, управлявших городом средневековых цехов...»
Лапин выехал, чтобы увидеть Восток глазами эстета. Он увидел его глазами исследователя и борца, глазами советского гражданина. Приблизившись к колониальным странам Тихого океана, он записал в «Тихоокеанском дневнике»:
«Трагедия существования всех этих живущих под крупом цивилизации народов и племен — в их жестокой и неумолимой зависимости от европейцев, созданной императорами биржи и конторскими конквистадорами...»
Как это не похоже на кокетливые экстравагантности всяких ничевоков и беспредметников, рядом с которыми еще так недавно соседствовал Лапин! Талант его преобразовался на ходу, в работе. Прорвавшись к большому миру, Лапин прорвался к самому себе. Его искусство наполняется жизненностью и боевой политической тенденцией. Оно приобретает значительность.
* * *
В течение нескольких лет Лапин печатал в газетах свои корреспонденции, подписываясь «Пограничник». Он не был журналистом обычного типа, который наблюдает жизнь с пером в руках. Он всюду вторгался в жизнь как соучастник. Энергии в этом несильном теле хватило бы на добрый десяток здоровяков.
Он прошел горные кряжи Памира как регистратор переписи Центрального статистического управления. При этом он в совершенстве изучил персидский язык. Он работал в Крыму как сотрудник археологической экспедиции. Он исколесил Чукотку как служащий пушной фактории. Вернувшись оттуда, он передал в Академию наук составленный им словарь одного из небольших северных племен. В качестве штурманского практиканта на пароходе «Чичерин» он посетил порты Турции, Греции, Сирии, Палестины, Египта. Он ездил по Средней Азии как нивелировщик геоботанической экспедиции. Он превратил свою жизнь в практический университет. Познания его были разнообразны. Он никогда не щеголял ими. Все в себе ему казалось заурядным. Так, случайно открылось однажды, что он, между прочим, обучался и в авиашколе и получил звание летчика-наблюдателя. Через много лет эти практические знания всплыли в повести «Подвиг», где с профессиональной точностью описаны детали боевой работы военного летчика.
После каждого путешествия круг его друзей расширялся. Среди них были и академик с европейским именем, годившийся ему в деды, и молодой монгольский поэт, повстречавшийся где-то в Гоби, и капитан лайнера, совершающего международные плавания, и другие. Лапин любил людей и книги.
Он любил книги, но не был книжником. И его обширная библиотека вряд ли пленила бы коллекционера, выдерживающего свое собрание в строгом стиле (например, только первоиздания или только восемнадцатый век, только классики и т. п.). Какой-то библиофил, забредший к Лапину, высокомерно заметил: «Это библиотека варвара».
Это была библиотека энциклопедиста. Она отражала широкие жизненные интересы Лапина. Оглядывая его книжные полки, можно было подумать, что они принадлежат нескольким специалистам по разным областям знания.
В газетных очерках Лапина сомкнулись искусство и репортаж. Из поэзии он принес в журналистику взыскательное отношение к слову. Газета влила в него дух политической страстности, научила его точности, конкретности, оперативности.
Так родился жанр его книг. Он был настолько своеобразен, что его можно обозначить только словом — книга. В одном произведении — и новеллы, и стихи, и документы, и публицистика, и научный трактат, и лирика, и политический памфлет, и сочиненное и подлинное. Все это сгущено на немногих страницах. Таковы и «Набег на Гарм», и «1869 год», и «Разрушение Кентаи», и «Тихоокеанский дневник», и «Посторонний наблюдатель», и даже одна из наиболее зрелых его вещей, обозначенная им самим как повесть: «Подвиг». Это был сознательный стилевой прием. «Эта книга — рассказ о Таджикистане в стихах, повестях, письмах, дневниках, газетных выдержках, рисунках и песнях» (Предисловие к «Сталинабадскому архиву», 1935).
В то же время каждое из этих произведений не мозаично, а, напротив, стройно, неразделимо, цельно. А герои Лапина обладают такой силой жизненности, что автору приходилось в специальных предисловиях предупреждать читателя, что они вымышлены.
«В эти тревожные дни два вымышленных героя едут в путешествие на пароходе «Браганца» мимо берегов Сирии...» и т. д. (Предисловие к книге «Путешествие», 1937).
Эту книгу Лапин написал вместе с Захаром Хацревиным. С некоторого времени они были неразлучны в странствованиях и в труде.
* * *
Всюду, где появлялся маленький Лапин, улыбаясь с нежной рассеянностью и заносчиво поводя упрямым подбородком, рядом с ним шагал, раскачиваясь на длинных ногах, рослый Хацревин в изящной пиджачной паре, со своей счастливой, немного беспечной улыбкой и чуть раскосыми, беспощадно наблюдательными глазами. Тенорок Лапина и баритон Хацревина сливались не в дуэт, а в унисон. Один начинал, другой подхватывал, первый опять вырывался вперед, второй на ходу вставлял детали. Они много видели вместе, много передумали вместе. Даже когда они пререкались, казалось, что они подходят разными путями к одному и тому же и здесь сталкиваются. Походило на спор, но было согласием.
Захар Хацревин встретился с Борисом Лапиным, когда тот был уже сложившимся писателем. Сам Хацревин только начинал, хотя он был старше Лапина.
У Хацревина была превосходная фантазия. Он был выдумщиком в сказочном роде. Но это еще предстояло расположить на бумаге, которая одна в состоянии отцедить литературу от словесной пены. Есть авторы, которые предпочитают тяжелому труду над бумагой эффектный шум устной импровизации. Почему? Ссылка на лень тут ничего не объясняет. Талант и лень несовместны. Если о ком-то говорят «талантливый лентяй», — значит, на самом деле талант его неполноценен. Или — он дилетант. В состав дарования входит трудолюбие, признак количества.
Каждый писатель несет в самом себе некоего «внутреннего критика», голос которого и является для него решающим.
А тут у Лапина появился и «критик внешний», но приобщенный к процессу его творчества так интимно, как если бы он был частью самого Лапина. Это было тем более значительно, что Хацревин обладал своего рода абсолютным литературным слухом, чья сила действовала особенно метко, когда она бывала направлена не на самого себя.
Так появился новый писатель: Лапин плюс Хацревин. Наряду с ним продолжал действовать и прежний Лапин. Можно удивляться его высокой продуктивности.
Вместе с Хацревиным он написал: «Америка граничит с нами» (1932), «Сталинабадский архив» (1932), «Дальневосточные рассказы» (1935), «Путешествие» (1937), «Рассказы и портреты» (1939).
И в те же годы один он написал: «Разрушение Кентаи» (1932), «Новый Хафиз» (1933), «Подвиг» (1934), «1869 год» (1935), «Однажды в августе» (1936), «Врач из пустыни» (1937), «Витька» (1938), «В нескольких шагах от реки» (1939), «Приезжий» и «Человек из стены» (1940).
Что касается Хацревина, то он растворился в своем соавторе почти без остатка. До объединения с Лапиным он выпустил интересную маленькую книгу рассказов «Тегеран». После — ничего, если не считать двух-трех рассказов.
При некоторых совпадающих чертах это объединение двух писателей не было таким полным и органичным, как, например, у Ильфа и Петрова, которые сливались, так сказать, химически. Если их книги уподобить воздуху, то Евгений Петров в них играл роль азота. Одним кислородом нельзя долго дышать. Он сжигает. Жгучую едкость Ильфовой иронии Петров разбавлял своим живительным юмором. Они были неразделимы. Когда они обособлялись, воздух распадался, писателя не было.
Лапин и Хацревин иногда явственно отслаиваются друг от друга. Но временами, когда их соединенные усилия достигали гармонии, им удавалось создать такие маленькие шедевры, как «Дональд Ши» или «Знаки», принадлежащие к лучшим образцам советской новеллистической литературы. Одна из совместных книг их — «Дальневосточные рассказы» — превосходна.
Хацревин иногда говорил о Лапине, что по всему строю дарования он больше ученый, чем поэт.
Нужно сказать, что сам Хацревин был широко образованным человеком, особенно в востоковедческих дисциплинах (он окончил Ленинградский институт востоковедения, тогда как Лапин был самоучкой).
Но в этих словах его отразились творческие споры coавторов. Хацревин тяготел к чувствительности, к эмоциональной раскраске сюжета, к плавному рассказу о страстях, к музыкальному построению фразы, даже к строфичности в прозе. Лапин — к изображению эпохи, социальной психологии, к снайперски точному выражению мысли, идя на тяжеловесность ради ясности. В его искусстве царят порядок и своего рода суровость, выраженные с присущей ему сдержанной силой. Он ненавидит полногласие. Он находит свой пафос в сухости, свое красноречие — в краткости. В манере его было что-то от «Записок Цезаря» или от прозы Пушкина. Недаром всегда восхищался он Пушкинским «Кирджали». К слову сказать, эта восьмистраничная повесть, на наш взгляд, не что иное, как репортаж, гениально вознесенный на высоты большого искусства. Именно этот жанр — с его фактичностью, свободной манерой повествования, коротко, но глубоко врезанными характеристиками и ярко обозначенной политической тенденцией — был излюбленным жанром Лапина.
Но в словах Хацревина была и верно подмеченная черта его друга. И вправду Лапин иногда напоминал ученого, который приневолил себя к искусству и принес туда точность и обстоятельность лабораторного исследователя. Его книги местами переходили как бы в изыскания.
Лапин, чрезвычайно сознательно относясь к своей работе, знал это и подчеркивал. В «Подвиге» мы читаем:
«Как ученый исследователь по осколку пористой кости, найденному среди силурийских пластов, восстанавливает неведомый скелет давно погибшего животного, так и я должен был восстанавливать душевный скелет капитана Аратоки, пользуясь отрывками лживых интервью, рассказами невежественных очевидцев, преклонявшихся перед газетной мудростью...»
Не отсюда ли у Лапина эта страсть документировать свои фантазии, превращая документы в элемент повествования?
Однако не холодное научное исследование было его целью.
«Не как антрополог, не как психолог и не как портретист хотел бы я смотреть на людей. Я хотел бы изучить место, какое люди занимают в своем времени. Я хотел бы, чтобы, взглянув на моего героя, каждый говорил: «Живи я в одно время с ним, я был бы его другом», «Я был бы его врагом...»
Это из книги «1869 год» — о пушечном негоцианте и авантюристе Генрихе Кеферлейне, немецком фабриканте смерти. Сквозь его биографию просвечивает детство империализма, взрыв колониальной экспансии, начало роста вооружений. Из выше приведенной цитаты становится ясной творческая программа Лапина, как она определялась для него в 1935 году, когда ему исполнилось тридцать лет: с точностью ученого, действуя приемами художника, добиваться политических результатов, заражая читателя любовью или отвращением к героям своего повествования, всегда окрашенными социально. И он этого добивается.
Не сомневаюсь, что, ставши ученым, Борис Лапин, при своих блестящих дарованиях, сделал бы значительные открытия. Но воображение, вся пылкость образного мышления увлекли Лапина в искусство. Научный метод он использовал как поэтический прием. Потому что, вопреки характеристике Хацревина, больше всего Лапин был все-таки поэтом.
* * *
Они были очень дружны. Эта дружба выдерживала испытания работой, опасностями, самой смертью.
Они были товарищами в труде, в путешествиях, в войнах. Это была дружба мужественных людей. Они обходились без сентиментальных заверений во взаимной приязни. Напротив, они нередко препирались.
Хацревин не упускал случая подтрунить над феноменальной рассеянностью Лапина.
Эта рассеянность происходила от сосредоточенности. Иногда она бывала так глубока, что походила на одержимость. Это означало, что Лапин охвачен идеей новой книги или замыслом нового путешествия, куда непрерывно гнал его беспокойный и отважный дух исследователя. Решения его часто казались внезапными. На самом деле они длительно и незримо созревали в недрах его деятельного мозга, что бы другое, видимое, ни делал он в эту минуту: читал ли, гулял ли, разговаривал ли на постороннюю тему. И тогда под незначительностью обыденного разговоpa порой чувствовалась пылающая работа его воображения. Легкий тик, пробегавший в такие минуты по его лицу, казался произвольным мускульным усилием, способствовавшим напряженной работе мысли.
Лапин любил Хацревина немного покровительственной любовью старшего брата (хотя он был моложе Хацревина) или матери, которая хоть сама и покрикивает на своего несмышленыша, но никому другому не позволяет обижать его. В этом, несомненно, был и оттенок жалости. Широкоплечий, жизнерадостный Хацревин был очень больным человеком. Это не помешало ему в 1939 году, когда вспыхнули военные действия на реке Халхин-Гол, домогаться командировки на фронт.
Там, в районе боев, этот хилый человек с привычками изнеженного горожанина, страдавший жестоким пороком сердца и изнурительными припадками ноктурны (род падучей болезни), не знал ни страха, ни уныния, ни усталости.
Койки Лапина и Хацревина в редакции армейской газеты всегда пустовали. Друзья вечно пропадали на переднем крае. Уже тогда ими владела мечта «раствориться в безымянной красноармейской массе». Впоследствии они развили эту идею в своей пьесе «Военный корреспондент», не достигнувшей сцены, но оказавшей известное влияние на нашу драматургическую литературу.
* * *
В боевой обстановке фронта Лапин и Хацревин показали себя бесстрашными людьми.
Мне кажется, что это бесстрашие покоилось не только на их личных свойствах, на врожденной силе духа или на крепости нервной организации.
Мне кажется, что это бесстрашие происходило и от острого осознания благородства цели, за достижение которой борется Советский Союз и обороняющая его Красная Армия, от сознания, что вся чистота и правота мира на нашей стороне.
Отсюда рождалось ощущение бессмертия — бессмертия дела, защищаемого нами, бессмертия коммунизма. Это, в сущности, и было тем, что называется советский патриотизм.
Лапин и Хацревин никогда не затрепывали этого высокого чувства в болтовне житейских разговоров, но оно выразилось во всем их жизненном поведении, в самой фактуре их произведений, оптимистичной, ясной, жизнерадостной. Иной литератор из «бодрячков» бубнит всю жизнь в такой уныло-монотонной ноте, словно он пишет о зубной боли, а не о строительстве нового мира. Жизнерадостный тон, который так характерен для произведений Лапина и Хацревина (так же как и одного Лапина), является как бы отпечатком самой натуры их, бодрой, неутомимой, бесстрашной натуры бойцов.
Таково было их умонастроение, так и вели они себя на полях этой короткой, но жестокой войны в недрах Азии. Им было нелегко. Никто никогда не слышал от них жалоб. Хацревин мужественно преодолевал свою физическую хрупкость, свои сердечные обмирания, свои эпилептические припадки, которые почти каждую ночь били его. У Лапина от невзгод фронтовой жизни открылся старый рубец на спине, оттуда все время сочилась кровь. Он больше всего боялся, чтобы редактор не заметил этого и не откомандировал его с фронта.
Помимо всего, война остро интересовала их как неповторимый материал для наблюдений. Вот тут и начинаются различия.
Хацревин наблюдал войну с жадной любознательностью, не затрудняя наблюдения никакими литературными расчетами. Эта неутомимая любознательность гнала его под огонь минометов, в гущу атаки, делала его опасным спутником.
У Лапина же этот процесс осложнялся чрезвычайным напряжением внимания, направленным на запоминание. Не доверяя памяти, он записывал все, что видел, в свою тетрадку, которая, так же как и пистолет, всегда была при нем. Он заносил в нее как бы моментальные снимки с натуры — короткими словами, почти стенографическими иероглифами. Тут же с лихорадочной быстротой он запечатлевал обобщения, образы, ассоциации, вихрем проносившиеся в его мозгу. Он запоминал войну как материал для искусства. И никакая острота обстановки не в состоянии была парализовать эту профессиональную потребность писателя.
Как-то на одном из участков на Халхин-Голе наблюдатель доложил, что японцы надевают противогазы. Можно было ожидать химической атаки. Ни у кого из нас троих не было противогазов, — по недопустимой небрежности мы оставили их в машине и отпустили ее. Все вокруг натянули на себя противогазы, запасных не оказалось.
Я закурил папиросу, чтобы определить направление ветра по дыму. Но медлил смотреть на него. Странное оцепенение овладело мной.
Хацревин беспечно улыбался и, засунув руки в карманы, с любопытством озирался по сторонам.
Лапин же выхватил из кармана свою тетрадку и принялся писать. Он фиксировал свои «предсмертные» ощущения. Он писал очень быстро, чтобы успеть записать как можно больше.
Наконец Хацревин сказал, покосившись на дым моей папиросы:
— Ветер к японцу.
Мы вздохнули и рассмеялись.
Потом Лапин читал нам свои лжепосмертные записки:
— «Газовая тревога. Барханы. Глубокий песок. До японцев 350 метров. Сидим под высокой насыпью. Над головами жужжат пули. Массивность майских жуков. Здесь, в песках, портится все автоматическое — пистолеты, часы, ручки. Минометы молчат. Вечер. Но еще светло. Где же газы? Все в масках. Тупоносые. Ворочают серыми резиновыми пятачками. Наших три голых беззащитных лица. Чувство неизбежности. Газ еще не дошел. А может быть, он без запаха? Пульс учащенный. Смуглое небо. Орлы. Низко пролетают. Бегут Мясистые крылья свистят, сдвигаясь...» И так далее, все в том же стиле скрупулезно точного описания обстановки.
Они оба не чувствовали страха смерти. У одного он вытеснялся страстью видеть, у другого — страстью изображать.
* * *
Разразилась Отечественная война. Лапин мог бы эвакуироваться вместе с теми, кто уехал в тыл заниматься литературой. Он уже достиг того возраста, когда писатель начинает меньше скитаться, а больше сидеть за письменным столом и разрабатывать накопленное. Но ему показалось невозможным писать, покойно расположившись за широкой спиной Красной Армии. Не жажда впечатлений гнала его на войну, а высокоразвитое чувство патриотического долга. Он примкнул к тому отряду писателей, которые шли, погибали и побеждали вместе с солдатами.
В сторону неоконченные рукописи! Из-под кровати извлечены запыленные сапоги, на пояс подвешен пистолет, сунута в карман тетрадка. Военные корреспонденты Лапин и Хацревин уехали на Юго-Западное направление. И вскоре на страницах «Красной звезды» стали появляться их «Письма с фронта» едва ли не ежедневно.
С волнением перебираешь сейчас эти газетные вырезки. Они пожелтели от времени. Но короткие фразы еще горячи. В них жар боя и пламя горящих хлебов на полях Украины. Как все написанное Лапиным и Хацревиным, эти корреспонденции о тяжком военном лете 1941 года дышат верой в победу, волей к победе.
По своему обыкновению Лапин и Хацревин значительно раздвинули привычные функции корреспондентской работы. В одной из немногих существующих в нашей литературе статей о работе журналистов на фронте (сборник «Бои у Халхин-Гола») Лапин и Хацревин пишут, вспоминая опыт 1939 года:
«Часто материал для номера собирали во время боя... Пробираясь по узеньким ходам сообщения, военные корреспонденты записывали в свои блокноты боевую хронику дня. Они наблюдали из окопа за атакой. Им случалось брать интервью, сидя в щелях во время налетов авиации. Дальние и ближние разрывы не мешали сосредоточенной деловой беседе... Вели и политическую работу на передовых позициях... Проводили короткие беседы... о сегодняшнем международном положении, о приеме в партию на позициях, даже о советской художественной литературе...»
Лапин и Хацревин гордились своим родом оружия. В армии во время Отечественной войны работали несколько сот журналистов и писателей. Они шагали рядом с солдатами, они мокли в окопах, вылетали на штурмовиках, ходили на подлодках в неприятельские воды, высаживались с десантами, работали среди партизан в тылу врага. Как у всякого рода оружия, у них были свои обычаи, свой фольклор, своя честь. Они пели свои песни, которые им написали Лапин с Хацревиным и Симонов. Они жили с народом на войне, звали его в бой и сами ходили в бой. Поистине перо было приравнено к штыку, и к свинцу пуль — свинец типографского набора. Среди храбрейших из них были Лапин и Хацревин.
С самого начала войны нас разбросало по разным фронтам. Я был на Ленинградском. Все же еще раз я увидел их.
* * *
В августе 1941 года редакция вызвала отовсюду своих военных корреспондентов на несколько дней в Москву, чтобы дать им новые инструкции. Из-под Киева примчались на пятнистой простреленной «эмке» Лапин и Хацревин.
Ночью мы с Борей стояли на крыше девятиэтажного дома в Лаврушинском переулке, и после фронтовых испытаний это дежурство во время бомбежки казалось нам заслуженным отдыхом.
Краткое пребывание в Москве Борис использовал, между прочим, и для того, чтобы записать свои стихи прежних лет. До тех пор они хранились только в его памяти. Но вдруг он решил собрать их на бумаге. Откуда это «вдруг»?
Испугался ли он, что попадет в положение героя бальзаковского рассказа «Неведомый шедевр», которого маниакально одержимая работа над формой привела к обессмысливанию самого произведения?
Или Лапин решил закрепить свои стихи на бумаге потому, что память так хрупка, да и мало ли что может случиться с их автором! Не забудем, то были тревожные дни сорок первого года.
Так появился этот рукописный сборник, тонкий альбом в кожаном переплете с медной застежкой, единственное хранилище поэзии Бориса Лапина.
В немногие дни нашего последнего свидания Борис Матвеевич сказал мне, что хочет писать поэму. А мы-то, друзья его, полагали, что он отошел от стихов. На самом деле, он не переставал писать их. Оказалось, что среди них есть подлинные шедевры. Но Лапин не опубликовывал их, стремясь еще к большему совершенству. Да, он не вмещался в одной прозе. В сущности, поэзия всегда прослаивала его прозу. Но сам он считал, что его стихи не более чем обещания.
Между тем это не только обещания, но и свершения.
В ночь перед возвращением на фронт Хацревин метался в сорокаградусном жару. К его обычным недугам добавилась дизентерия. Он запретил нам сообщать редактору о его болезни. На следующее утро никто не сказал бы, что он болен. Он был, как всегда, весел, ясен, бодр, он в совершенстве сыграл здорового. И они уехали на своей пятнистой машине обратно под Киев.
А на следующий день уехали обратно в Ленинград Михаил Светлов и я. Поезда уже не ходили. Мы поехали на машине. Но и Ленинградское шоссе оказалось перерезанным. Обходными путями, через леса, мы добрались до Мги и проскользнули сквозь нее. Через несколько часов она была занята немцами. Последняя дверь в Ленинград захлопнулась за нашей спиной. Мы въехали в блокаду.
Но оставались воздушные пути. Самолеты из Москвы садились на маленьких площадках на окраинах Ленинграда. В октябре прилетел один знакомый летчик. Он рассказал, что Лапин и Хацревин погибли в боях под Киевом.
Офицер, который видел их последним, рассказывал. На охапке сена при дороге лежал Хацревин. Он был окровавлен. Лапин склонился над ним, в солдатской шинели, сутулый, с винтовкой за спиной. Они пререкались. Хацревин требовал, чтобы Лапин уходил без него. Лапин отвечал, скрывая нежность и грусть под маской раздраженности: «Ну ладно, хватит говорить глупости, я вас не оставлю...»
* * *
Почему их жизнь мне кажется такой замечательной? Ничего как будто и особенного: труд, скитания, война.
Но доброта, талант, естественное и деятельное благородство, честность, мужество, скромность, рассеянные по многим людям, соединялись в каждом из них слитком высочайшей пробы.
«Мальчики убиты!» — эта весть горестно поразила всех друзей. Я забыл сказать, что их называли «мальчики» (хотя старшему из них исполнилось тридцать семь), — вероятно, за то сияние душевной чистоты, которое так молодило их.

О СЕБЕ
1. Рассказ с примечанием
После того как я порвал четыре начала своей автобиографии, я понял, что это довольно трудный жанр.
К счастью, ко мне на помощь поспешил Пушкин. Я вспомнил, что великий поэт показал знаменитому артисту Щепкину, как тот должен начать свое жизнеописание. Около полутораста лет назад Пушкин собственноручно написал первые строки «Записок» Щепкина:
«Я родился в Курской губернии Обоянского уезда в селе Красное, что на речке Пенке...»
— Это просто, как все великое, — вскричал я восхищенно и тотчас отстукал на машинке:
«Я родился в городе Одессе, что на Черном море...»
Но на этом строки Пушкина оборвались, и дальше я был предоставлен самому себе.
Тут мне пришло в голову, что в автобиографии не мешает указать свой возраст. Что ж, мне семьдесят шесть лет...
Должен признаться, что, написав эту цифру, я откинулся на спинку стула и задумался. Как же, черт побери, случилось, что мне так много лет? Не ошибся ли я? Увы! В этот маленький отрезок времени— 1896—1972 — укладывается ровно столько лет. Ни больше, ни меньше.
Что ж, семьдесят шесть так семьдесят шесть. Бывает и хуже. Например, семьдесят семь. Но почему же я не ощущаю в себе солидности этого библейского возраста? Не обзавелся палкой? И не притупился мой глаз ни телесно, ни духовно? И девушки в метро не уступают мне место?
Классические каноны автобиографии требуют далее, чтобы я перечислил, что я делал в своей жизни. Это не трудно.
Читая чужие автобиографии (в порядке подготовки к своей), я с завистью обнаружил, что многие писатели прошли через десятки профессий. Это выглядит так романтично! Как жаль, что я не могу сказать о себе, что я был матросом, золотоискателем, строителем плотин, арктическим летчиком, цирковым акробатом и автомобильным гонщиком. Нет, нет! Ничего этого со мной не было. Я даже не был студентом Литературного института. Я вел жизнь тихую, размеренную: участвовал в четырех войнах, из коих две мировые, а в свободное от них время писал...
Мне всегда казалось, что писатель — это, в сущности, разновидность философа. Это философ, который мыслит образами. Мое поколение примкнуло к тому отряду философов, о которых Карл Маркс сказал:
«Философы до сих объясняли мир. Задача состоит в том, чтобы изменить его».
Но я замечаю, что я перескочил с моего личного жизнеописания на биографию моего поколения. Я воспринимаю это как внутренний председательский звонок:
— Ваше время исчерпано!
Как человек дисциплинированный, я немедленно покидаю автобиографическую трибуну.
Примечание. Да! Я забыл сказать, что я написал несколько романов, сценариев, кучу рассказов и один раз даже пьесу.
2. Моя рухнувшая карьера
Во времена моей молодости,— вы понимаете, что это было довольно давно, — меня соблазнили поступить в Театр оперетты. Нет, я не пел, что вы! Если бы я запел, меня не приняли бы в театр. Я был безмолвным статистом. Работал я на чистом энтузиазме, ничего мне не платили, но я имел бесплатный пропуск на все спектакли (а был я в ту пору большим театралом), а кроме того, иногда получал пропуска для своих родственников. Вот именно это обстоятельство меня и погубило как актера.
Шла оперетта «Жрица огня» из какой-то экзотической, если я не ошибаюсь — древней индийской, жизни. Мне было поручено изображать воина, стоящего у трона владыки. Это уже была почти роль. Неподвижная, но роль. Безмолвная, но роль.
Я очень гордился этой новой ступенью в своей артистической карьере и пригласил на спектакль свою любимую тетку, которая давно рвалась увидеть меня на сцене. Она меня обожала. Это была любовь слепая, нерассуждающая. Всю жизнь ко дню моего рождения, где бы я ни был, она присылала мне пирог собственного изделия. Из любви ко мне она начиняла его таким количеством вкусных вещей, делала его таким добротным, что его нельзя было разжевать.
И вообще тетя считала меня верхом совершенства. Мои желания были для нее законом. Я не сомневаюсь, что если бы я, положим, сказал ей: «Тетя, пойди и убей такого-то», — она, не говоря ни слова, поднялась бы с места и пошла выполнять поручение. Только у двери она, может быть, оглянулась бы на меня и спросила: — «Левочка, надо его повесить или можно просто зарезать?»
Тетя пришла в театр задолго до начала спектакля. Я усадил ее в ложу, а сам поспешил за кулисы одеваться и гримироваться.
Меня нарядили в какой-то доисторический балахон, дали в руки алебарду и загримировали. Вот этот грим и сыграл роковую роль! Парикмахер был пьян и спутал Древних индусов с не менее древними ассирийцами. А ассирийские воины, по твердому убеждению парикмахера, не носили усов, а только бороду, длинную, черную, клинообразную бороду, которая не закрывала рта.
Поднялся занавес. Тетушка долго взволнованно искала меня глазами. Я стоял у подножья трона, а владыка в это время исполнял свой коронный номер:
— «Я раджа, индусов верных повелитель...»
Посреди этой арии есть небольшая пауза, когда раджа поворачивается к верным индусам и величественно простирает к ним руки.
И эту паузу вдруг заполнил ликующий голос моей тетки. Когда она наконец увидела меня во всем моем великолепии, с алебардой, с ассирийской бородкой, бок о бок с самим повелителем индусов, — сердце ее переполнило счастье, и она крикнула в восторге и умилении голосом, который донесся, как мне потом передавали, до самых отдаленных уголков галерки:
— Боже мой! Как Левочка похож на свою маму!
Очевидно, эта проклятая борода оттенила в моем лице какие-то черты фамильного сходства. Я от неожиданности уронил алебарду. Повелитель индусов испуганно шарахнулся. В публике засмеялись.
По окончании спектакля заведующий труппой вызвал меня к себе. Он посмотрел на меня с сожалением и сказал:
— Ассирийские воины, которые похожи на свою маму, нам не нужны! Вон!
Так кончилась моя артистическая карьера.
Поначалу я жалел об этом. Особенно когда я начал писать. Мне казалось в ту пору, что произносить чужие слова легче, чем сочинять собственные.
Но с годами я понял, что легкой работы нет и что есть только два вида искусства: хорошее и плохое.
1973
СОДЕРЖАНИЕ
Рассказы
Роман с башней
Концерт
Деятели
Жена
Художник
Надпись на стене
Кармелина
Кригскорреспондент
Грумы
Мой чувствительный друг
Бычки в маринаде
Малый трактат о скуке
Рассказ о Викторе Шкловском
Девочка и мальчик
Записки
Здравствуй, Польша
В те дни на фронте
Армения! Армения
Ижоры трижды
Портреты
Таинственный цветок спектакля (Рубен Симонов)
Андрей Платонов
Не все можно рассказать (Роман Ким)
Один в двух лицах (Ильф и Петров)
Генерал от графомании (Коссовский-Невральгин)
Мастерская Леонида Борового
Черты из жизни Михаила Светлова
О Лапине и Хацревине
О себе