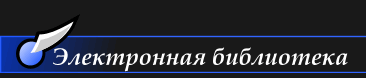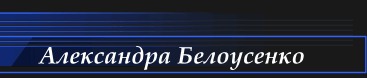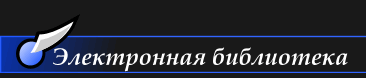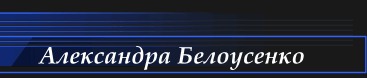|
|

Револьд Владимирович БАНЧУКОВ
(1926-1999)
НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО...
(Памяти Револьда Банчукова)
Револьд Банчуков был известным и талантливым литературоведом, критиком и популяризатором русской словесности. Он автор книг и множества статей о поэтическом творчестве, создатель и ведущий первого в СССР телевизионного журнала "Поэзия", многолетний руководитель литературной студии, неутомимый организатор и ведущий литературных вечеров, встреч, диспутов. Читателям "Вестника" его имя хорошо знакомо по замечательным статьям о русской и советской поэзии, регулярно публиковавшимся в журнале. Последние его статьи вышли в декабре 1999 года и в первом январском номере "Вестника" за этот год. Имя и фамилия автора были обведены роковой чёрной нитью...
Неуютным зимним вечером, под заоконное завывание стылого ветра сижу и перебираю стопку писем, фотографий, брошюр и журнальных статей. Они получены мною за последние полтора-два года из Германии, из городка Хамельн, о котором я никогда раньше не слышал. Теперь знаю, что именно там родилась легенда о Крысолове. Последнее письмо датировано началом октября прошлого года. В нём была странная фраза: "Очень хочу дожить до твоей следующей книги...". Почему он так написал? Что предчувствовал? Ну что такое год-другой ожидания для активно и много работающего, практически здорового человека? Я воспринял тогда эти слова как обиходный штамп, но теперь подозреваю, что в них был заложен непроизвольный, возможно, нашёптанный сверху провидческий смысл.
На это письмо, так и оставшееся последним, я ответил не сразу. Всё было как-то недосуг. Обычная история: маленькие, как кажется, неотложные заботы, мелкие дела, без которых, мнится, всё в твоей жизни остановится... Каждый раз думал: на следующей неделе обязательно напишу. Проходила неделя, потом другая, я спохватывался – завтра или послезавтра, в крайнем случае в очередное воскресенье, непременно напишу. И вообще, куда торопиться? Неделя сюда, неделя туда... Успеется.
Не успелось.
Для меня Револьд Банчуков был не просто первый литературный учитель и наставник. Он был человеком из самого, пожалуй, красочного и чувственного периода моей жизни. Он был одним из самых ярких и сильных впечатлений моей молодости.
Всё переплелось в моей памяти о той удивительной поре, о том неповторимом времени начала шестидесятых – не оторвать, не отделить одно от другого: и моя молодость, и первая отчаянная любовь, и дурманящее дыхание хрущёвской оттепели, и наша бурная литературная компания начинающих талантов и юных графоманов, руководителем, душой и исповедником которой был Револьд Банчуков.
Мы собирались по средам. Нам было мало трёх-четырёх еженедельных часов, мы не успевали насытиться спорами, стихами, сногсшибательными идеями и идеальными планами нового мироустройства, и когда заканчивались все отведённые на наши посиделки сроки, и нас из помещения выгоняла уборщица, мы возбуждённой гурьбой вываливались наружу. Над миром вихрились мягкие снежные хлопья (почему-то больше запомнились зимние вечера), мы шли по засугробленным улицам, потом грудясь в морозном скверике у заваленных снегом скамеек, с упоением читали Блока, Ахматову, Пастернака, Мандельштама, Самойлова, Уткина, Евтушенко, Вознесенского... И, разумеется, новенькое своё. Не менее гениальное. Расходиться не хотелось, и расставались мы лишь заполночь. Банчуков почти всегда в эти вечера был с нами, и тоже был счастлив...
Тогда ему было едва-едва за тридцать, но для нас, его студийцев, он был непререкаемым литературным авторитетом. Мэтром... Мы обожали его и восхищались им.
Был он обаятелен и очень красив: высок, строен и голубоглаз. Я ничего не знал о его личной жизни, но наверняка, женщины сходили по нему с ума.

Это было время поэтической эпидемии, повального увлечения стихами, стихотворцами, бардами и их песнями. Но будоражили страну не только московские кумиры. В больших и малых городах провинции, где существовала интеллигенция и студенчество, а Харьков был именно таким, имелись свои собственные кумиры, свои гремящие строчками, рифмами, гитарными переборами и хрипловатыми голосами залы, скверы и площади. Мы были юны, беспечны и восторженны, мы были хмельны смутными оттепельными запахами – запахами воли и надежды... Револьд боготворил поэзию, относился к ней восторженно и свято, но не так, как большинство тогдашних неофитов-шестидесятников, а фундаментально, глубоко, и даже несколько академично. Не подкупали его броскость и мелкотравчатая фронда. Он и нам старался привить такое же отношение, и не только к поэзии, а к литературе вообще. Я не знаю, как сложилась творческая судьба у других "банчуковцев", но для меня та его "выучка" определила в жизни и профессии очень многое.
В его статьях, публичных выступлениях, лекциях, в каждой их фразе и строчке сквозила преданность её Величеству Поэзии. И всегда это был не просто анализ, разбор или информация, а объяснение в вечной рыцарской любви единственной избраннице сердца – Поэзии. Читая его последние работы, написанные почти через сорок лет, трудно поверить, что выполнены они семидесятидвухлетним человеком: та же, что и прежде, непреходящая нежность и преклонение, та же светящаяся в каждом абзаце любовь, та же не утраченная юношеская свежесть чувств.
В течение долгих и сумбурных тридцати пяти лет, с той самой поры, как я покинул свой родной город, сорвавшись в другой конец страны, мы с Револьдом Банчуковым ничего о друг друге не знали – не встречались, не переписывались. Так сложилось. И вдруг однажды, года три назад, в одном случайно попавшемся мне в руки русскоязычном журнале под названием "Радуга" (кажется, он издаётся в Ганновере), я прочитал его небольшую статью, посвящённую мне. Оказывается, я был его любимым студийцем. Узнать об этом было неожиданно и приятно. Хотя, вроде бы, какая теперь разница! Столько лет отзвенело, столько разного произошло-случилось... Разглядеть ли за этим всем столь давнее? Статья заканчивалась словами: "Где ты, Юра!" Так мы отыскались.
Страшно подумать, сколько людей на своём веку я проводил в небытие! Родных и близких, соседей и сослуживцев, коллег и просто хороших знакомых. Кого-то сам, лично, бросив горсть земли в могилу, кого-то – мысленно, узнав об их смерти позже или будучи вдалеке. И каждый из них, уходя, бесповоротно забирал с собой маленькую или значительную долю меня прежнего, моего прожитого и прочувствованного, оставляя взамен только отзвук, только привкус, только призрачную память...
Письмо я всё же написал. Подробное и большое. В нём были мои впечатления о его последних, частью опубликованных, а частью присланных мне в рукописях, работах, я делился с ним своими планами, просил совета, а в заключение поздравил со скорым наступлением нового века и пожелал долгих лет жизни и продолжения творческой деятельности с прежним накалом. Оставалось только бросить плотный конверт в почтовый ящик, но буквально за час до того, как я собирался это сделать, пришло известие, что Револьда Банчукова больше нет.
Я писал человеку, которого не было среди нас уже две недели... Я желал ему долгой жизни и успехов, не грустный ли казус? Но до сих пор не могу избавиться от поразительного чувства, что всё, о чём я ему тогда писал, всё, о чём советовался и в чём исповедывался, – его достигло. Живёт во мне смутное чувство, будто я точно знаю, как он на это отреагировал, как понял и оценил. Есть вещи неподвластные земному знанию...
Ушла молодость, покрылась дымкой ностальгии и разочарования моя первая отчаянная любовь, стала историей оттепель, её скандирующие стадионы, её восторженные мальчики и девочки, её несбывшиеся надежды. Разбрелись по свету, этому и тому, друзья и сокурсники, растворилась в дымке десятилетий наша громкоголосая литературная компания. От всего этого у меня оставался только Револьд Банчуков. Как живое связующее звено с моим прошлым, как хранитель моих прежних ощущений и ожиданий, маленьких драм и кратких звёздных часов. А теперь... Теперь остались письма, журнальные страницы, рукописи – только отзвук, только привкус, только память...
А неотправленное письмо так и лежит в ящике моего стола. Последнее откровение с уже ушедшим, уже похороненным и оплаканным, но для меня, по неведению, ещё дышащим, думающим, чувствующим человеком. Лежит в запечатанном конверте с немецким адресом и наклеенными марками, лежит как печальный символ моей молодости, как животворный знак того удивительного и неповторимого времени, может быть, лучшего в нашей жизни – и моей, и его..
Юрий Бердан (Нью-Йорк); на втором снимке: Е. Евтушенко и Р. Банчуков. 60-е годы
Сборник статей "Избранное" (doc-rar 229 kb)
– копия из американского русскоязычного журнала "Вестник", подготовил Давид Титиевский (Хайфа, Израиль)
Сразу оговоримся, книги с таким названием не существует. Все материалы, собранные под одной "обложкой", взяты из различных номеров американского русскоязычного журнала "Вестник", который, к сожалению, прекратил своё существование в 2004 году. Мы обращаемся к нашим читателям, особенно харьковчанам, к нашим авторам – Татьяне Селиванчик, Ирине Глебовой – с просьбой пополнить эту страницу, подсказать даты жизни этого интересного автора.
Давид Титиевский
Содержание:
Четыре судьбы (Пастернак)
Прозрение Александра Блока
Легенды в поэзии
Три перевала, или известный и неизвестный Самойлов
Мифы о смерти Сергея Есенина
В предчувствии гибели (Мандельштам)
Парижская любовь Владимира Маяковского
Поэзия Бориса Слуцкого
Заметки о Пушкине
Утаённая любовь великого поэта (Пушкин и Мария Раевская)
Грани жизни и творчества Николая Заболоцкого
Тайная поэма Анны Ахматовой
Одесса – Кунцево – Вечность (Эдуард Багрицкий)
Тропой Пастернака
Фрагменты из истории русской эпиграммы
Стихи и шутки Михаила Светлова
Фрагменты из сборника:
"Не Лермонтов, а Пушкин, находясь в Кишинёве, на дуэль с Зубовым принёс черешни и, словно один из персонажей его будущей повести "Выстрел", пока в него целились, выбирал спелые ягоды и выплёвывал косточки."
* * *
"...упомяну о Елизавете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, в прошлом 16-летней гимназистке, пришедшей к Блоку, чтобы рассказать о своей любви и сомнениях (это ей посвящено блоковское стихотворение "Когда вы стоите на моём пути..."), впоследствии эмигрантке, ставшей матерью Марией, участницей французского Сопротивления.
Прославленная мать Мария погибла 31 марта 1945 года в фашистском концлагере Равенсбрюк. Существует передаваемая из уст в уста легенда о том, что мать Мария, увидев, как осуждённой на смерть русской узнице трудно расставаться с жизнью, обменялась с девушкой курткой с номером заключённого и смело шагнула навстречу своей гибели."
* * *
"Отмечу также, что перед отъездом из Москвы в Ленинград, где прошли последние четыре дня его короткой жизни, Есенин побывал у всех своих родных, навестил Костю и Таню (дети от брака с З. Н. Райх) и попрощался с ними. Поэту Василию Наседкину, мужу Кати Есениной, сказал, как о чём-то решённом: "Да... я ищу гибели". И устало и глухо добавил: "Надоело всё"."
* * *
"Осип Мандельштам, которому безумно нравилась есенинская строка "Не расстреливал несчастных по темницам", ненавидел это время, когда в Москве "казнями... имениты дни" (из уничтоженных стихов). Попутно отмечу, что Есенин, который в хмельном ожесточении поносил Мандельштама на чём свет стоит, однажды с болью сказал: "Разве все мы пишем стихи? Вот Мандельштам пишет"."
* * *
"Маяковский встретился в Ницце с художником Юрием Анненским и стал уговаривать его вернуться. Тот ответил: "В России сейчас такая обстановка, что я не смогу работать". Маяковский помолчал и сказал: "Я тоже не могу работать. То, что я пишу, давно не стихи"."
* * *
"Лишь в конце 1962 года Ахматова занесла текст "Реквиема" на бумагу и передала для публикации в "Новый мир" – не напечатали. В 1963 году "Реквием" был впервые опубликован в Мюнхене. В СССР ахматовское произведение полностью напечатали в 1987 году ("Октябрь", №3; "Нева", №6), когда широкий общественный резонанс получили такие произведения, как поэма А. Твардовского "По праву памяти", как романы "Белые одежды" В. Дудинцева и "Жизнь и судьба" В. Гроссмана, "Реквием" встал в один ряд с этими блистательными произведениями русской литературы."
* * *
"Во второй половине 20-х годов Светлова вызвали в ГПУ и предложили быть осведомителем, разумеется, под красивым предлогом "спасения революции от врагов". Светлов отказался, сославшись на то, что он тайный алкоголик и не умеет хранить тайны. Из ГПУ он прямиком направился в ресторан "Арагви", где сделал всё, чтобы напиться. "С той поры, – говорил Светлов, – мне ничего не оставалось делать, как поддерживать эту репутацию"."
* * *
"Михаил Светлов не раз вспоминал, как на фронте попал под шквал артиллерийского огня: "Каждый солдат вырывал себе ямочку и спасался. Я бегал между этими ямочками и чувствовал себя, как в коммунальной квартире, – жить можно, но спасаться негде". Поэт воспроизвёл также такой диалог:
– Это правда, что вы написали "Каховку"?
– Правда, товарищ сержант.
– Как же вас сюда пускают?!"
И. Шкодник – статья о Револде Банчукове "Талант, как ракета..." (html 16 kb) – прислал Давид Титиевский
Страничка создана 13 июля 2006.
Последнее обновление 7 октября 2006.
|