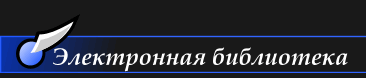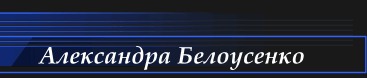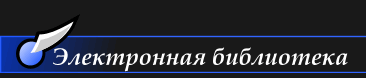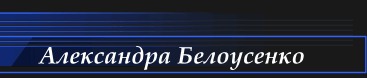|
|

Михаил Андреевич Осоргин
(имя собств. Ильин)
(1878-1942)
ОСОРГИН, МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ (наст. фамилия Ильин) (1878-1942), русский прозаик, журналист. Родился 7 (19) октября 1878 в Перми в семье потомственных столбовых дворян, прямых потомков Рюрика. Начал печататься в гимназические годы, с 1895 (в т.ч. рассказ "Отец", 1896). В 1897 поступил на юридический факультет Московского университета, откуда в 1899 за участие в студенческих волнениях был сослан в Пермь под негласный надзор полиции. В 1900 восстановился в университете (окончил курс в 1902), вел в годы учебы рубрику «Московские письма» («Дневник москвича») в газете «Пермские губернские ведомости». Доверительной интонацией, мягкой и мудрой иронией в сочетании с меткой наблюдательностью отмечены и последующие рассказы Осоргина в жанре «физиологического очерка» ("По наклонной плоскости. Из студенческой жизни", 1898; "Арестантский вагон", 1899), романтической «фантазии» ("Два мгновения. Новогодняя фантазия", 1898) и юмористические зарисовки ("Письмо сынка к мамаше", 1901). Занимался адвокатурой, совместно с К.А.Ковальским, А.С.Буткевичем и др. основал в Москве издательство «Жизнь и правда», выпускавшее лубочную литературу. Здесь в 1904 вышли брошюры Осоргина "Япония", "Русские военачальники на Дальнем Востоке" (биографии Е.И.Алексеева, А.Н.Куропаткина, С.О.Макарова и др.), "Вознаграждение рабочих за несчастные случаи. Закон 2 июня 1903 года".
В 1903 писатель женился на дочери известного народовольца А.К.Маликова (мемуарный очерк Осоргина "Встречи. А.К.Маликов и В.Г.Короленко", 1933). В 1904 вступил в партию эсеров (был близок к ее «левому» крылу), в подпольной газете которых в 1905 опубликовал статью "За что?", оправдывающую терроризм «борьбой за благо народа». В 1905 во время московского вооруженного восстания был арестован, из-за совпадения фамилий с одним из руководителей боевых дружин едва не казнен. Приговорен к ссылке, в мае 1906 временно освобожден под залог. Пребывание в Таганской тюрьме отразилось в "Картинках тюремной жизни. Из дневника 1906 г.", 1907; участие в эсеровском движении – в очерках "Николай Иванович", 1923, где, в частности, упоминалось и об участии В.И.Ленина в диспуте на квартире Осоргина; "Венок памяти малых", 1924; "Девятьсот пятый год. К юбилею", 1930; а также в рассказе "Террорист", 1929, и имеющей документальную основу дилогии "Свидетель истории", 1932, и "Книга о концах", 1935.
Уже в 1906 Осоргин пишет о том, что «трудно отличить революционера от хулигана», и в 1907 нелегально уезжает в Италию, откуда посылает в русскую прессу корреспонденции (часть вошла в кн. "Очерки современной Италии", 1913), рассказы, стихи и детские сказки, часть которых вошла в кн. "Сказки и несказки" (1918). С 1908 постоянно сотрудничает в газете «Русские ведомости» и журнале «Вестник Европы», где опубликовал рассказы "Эмигрант" (1910), "Моя дочь" (1911), "Призраки" (1913) и др. Около 1914 вступил в масонское братство Великой ложи Италии. В те же годы, изучив итальянский язык, пристально следил за новостями итальянской культуры (статьи о творчестве Г.Д'Аннунцио, А.Фогаццаро, Дж.Паскали и др., о «разрушителях культуры» – итальянских футуристах в литературе и живописи), стал крупнейшим специалистом по Италии и одним из самых видных русских журналистов, выработал специфический жанр беллетризованного эссе, с конца 1910-х годов нередко пронизанного характерной для манеры писателя лирической иронией. В июле 1916 полулегально вернулся в Россию. В августе в «Русских ведомостях» была опубликована его ст. "Дым отечества", вызвавшая гнев «патриотов» такими сентенциями: «...очень хочется взять российского человека за плечи... тряхнуть и прибавить: «А и
горазд же ты спать даже и под пушку!». Продолжая работать разъездным корреспондентом, выступил с циклами очерков "По Родине" (1916) и "По тихому фронту" (1917).
Февральскую революцию принял сначала восторженно, затем – настороженно; весной 1917 в ст. "Старая прокламация"
предупреждал об опасности большевизма и «нового самодержца» – Владимира, опубликовал цикл беллетризованных очерков о «человеке из народа» – «Аннушке», выпустил брошюры "Борцы за свободу" (1917, о народовольцах), "Про нынешнюю войну и про вечный мир" (2-е изд., 1917), в которой ратовал за войну до победного конца, "Охранное отделение и его секреты" (1917). После октябрьского переворота выступал против большевиков в оппозиционных газетах, призывал к всеобщей политической забастовке, в 1918 в ст. "День скорби" предсказал разгон большевиками Учредительного собрания. Укрепление большевистской власти побудило Осоргина призвать интеллигенцию заняться созидательным трудом, сам он стал одним из организаторов и первым председателем Союза журналистов, вице-председателем Московского отделения Всероссийского союза писателей (совместно с М.О.Гершензоном подготовил устав союза), а также создателем знаменитой "Книжной лавки писателей", ставшей одним из важных центров общения литераторов и читателей и своеобразным автографическим («рукописным») издательством. Принимал активное участие в работе московского кружка «Студия Итальяна».
В 1919 был арестован, освобожден по ходатайству Союза писателей и Ю.К.Балтрушайтиса. В 1921 работал в Комиссии помощи голодающим при ВЦИК (Помгол), был редактором издаваемого ею бюллетеня «Помощь»; в августе 1921 был арестован вместе с некоторыми членами комиссии; от смертной казни их спасло вмешательство Ф.Нансена. Зиму 1921-1922 провел в Казани, редактируя «Литературную газету», вернулся в Москву. Продолжал
публиковать сказки для детей и рассказы, перевел (по просьбе Е.Б.Вахтангова) пьесу К.Гоцци "Принцесса Турандот" (изд. 1923), пьесы К.Гольдони. В 1918 сделал наброски большого романа о революции (опубликована глава "Обезьяний городок"). Осенью 1922 с группой оппозиционно настроенных представителей отечественной интеллигенции был выслан из СССР (очерк "Как нас уехали. Юбилейное", 1932). Тоскуя по Родине, до 1937 сохранял советский паспорт. Жил в Берлине, выступал с лекциями в Италии, с 1923 – во Франции, где после женитьбы на дальней родственнице
М.А.Бакунина вступил в наиболее спокойную и плодотворную полосу своей жизни.
Мировую известность принес Осоргину начатый еще в России роман "Сивцев Вражек" (отд. изд. 1928), где в свободно скомпонованном ряде глав-новелл представлена спокойная, размеренная и духовно насыщенная жизнь в старинном центре Москвы профессора-орнитолога и его внучки, – типичное бытие прекраснодушной русской интеллигенции, которое сначала потрясает Первая мировая война, а затем взламывает революция. На
произошедшее в России Осоргин стремится взглянуть с точки зрения «абстрактного», вневременного и даже внесоциального гуманизма, проводя постоянные параллели человеческого мира с животным. Констатация несколько ученического тяготения к толстовской традиции, упреки в «сырости», недостаточной организованности повествования, не говоря уже о явной его тенденциозности, не помешали огромному читательскому успеху "Сивцева Вражка". Ясность и чистота письма, напряженность лирико-философской мысли, светлая ностальгическая тональность, продиктованная непреходящей и острой любовью к своему отечеству, живость и точность бытописания, воскрешающего аромат московского прошлого, обаяние главных героев – носителей безусловных нравствственных ценностей сообщают роману Осоргина прелесть и глубину высокохудожественного литературного свидетельства об одном из сложнейших периодов в истории России. Творческой удачей писателя стали также "Повесть о сестре" (отд. изд. 1931; впервые опубл. 1930 в журнале «Современные записки», как и многие другие эмигрантские произведения Осоргина), навеянная теплыми воспоминаниями о семье писателя и создающая «чеховский» образ
чистой и цельной героини; посвященная памяти родителей книга мемуаров "Вещи человека" (1929), сб. "Чудо на озере" (1931). Мудрая простота, задушевность, ненавязчивый юмор, свойственные манере Осоргина, проявились и в его «старинных рассказах» (часть вошла в сб. "Повесть о некоей девице", 1938). Обладая отменным литературным вкусом, Осоргин успешно выступал как литературный критик.
Примечателен цикл романов на автобиографическом материале "Свидетель истории" (1932), "Книга о концах" (1935) и "Вольный каменщик" (1937). В первых двух дано художественное осмысление революционных умонастроений и событий в России начала века, не лишенное черт авантюрно-приключенческого повествования и приводящее к мысли о тупиковости жертвенно-идеалистического пути максималистов, а в третьем – жизни русских эмигрантов, связавших себя с масонством, одним из активных деятелей которого Осоргин был с начала 1930-х годов. Критика отмечала художественное новаторство "Вольного каменщика", использование стилистики кинематографа (отчасти родственное поэтике европейского экспрессионизма) и газетных жанров (информационные вкрапления, фактуальная насыщенность, сенсационно-лозунговые «шапки» и т.п.).
Отчетливо проявившийся в романе "Сивцев Вражек" пантеизм Осоргина нашел выражение и в цикле лирических очерков "Происшествия зеленого мира" (1938; первоначально публиковались в «Последних новостях» за подписью «Обыватель»), где пристальное внимание ко всему живому на земле сочетается с протестом против наступательной технотронной цивилизации. В русле такого же «оберегающего» восприятия создан и цикл, посвященный миру вещей, – собранной писателем богатейшей коллекции русских изданий "Записки старого книгоеда" (1928-1937), где в архаизированно-точной, правильной и красочной авторской речи выразился безошибочный слух прозаика на русское слово.
Незадолго до войны Осоргин начал работу над мемуарами ("Детство" и "Юность", обе 1938; "Времена" – опубл. 1955). В 1940 писатель перебрался из Парижа на юг Франции; в 1940-1942 публиковал в «Новом русском слове» (Нью-Йорк) корреспонденции "Письма из Франции". Пессимизм, осознание бессмысленности не только физического, но и духовного противостояния злу отражены в книгах "В тихом местечке Франции" (изд. в 1946) и "Письма о незначительном" (изд. в 1952).
Умер Осоргин в Шабри (Франция) 27 ноября 1942.
(Из энциклопедии "Кругосвет")
Произведения:
Сборник прозы "Вольный каменщик: Повесть. Рассказы" (1992, 336 стр.) (pdf 10 mb) – июнь 2023
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Талантливый представитель литературы русского зарубежья Михаил Осоргин (1878-1942), как и многие русские люди его поколения, прошёл через страдания, искусы, выдержал испытание войной, революцией, политикой и в дебрях и соблазнах учений, течений и направлений XX столетия нашёл свой собственный путь.
Своим путём идёт и герой вышедшей в Париже в 1937 г. повести Осоргина «Вольный каменщик» Егор Егорович Тетёхин. Тетёхин – истинно русская душа, воплощение лучших народных качеств, тихий герой, борец против зла, опора немощным и угнетённым.
Серьёзный пласт повести – художественно-философское осмысление масонства.
В книгу входят и рассказы, написанные Осоргиным в эмиграции.
(Аннотация издательства)
Содержание:
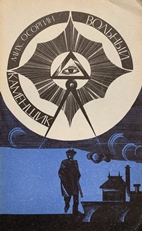
О. Ю. Авдеева, А. И. Серков. Воспитание души ... 3
Вольный каменщик. Повесть ... 16
РАССКАЗЫ
По поводу белой коробочки ... 217
Слепорождённый ... 223
Круги ... 234
Люсьен ... 239
Роман профессора ... 244
Пешка ... 250
Сердце человека ... 256
Кабинет доктора Щепкина ... 263
Судьба ... 270
Игра случая ... 275
Мечтатель ... 281
Юбилей ... 286
Убийство из ненависти ... 292
Аноним ... 298
Видение ... 303
Газетчик Франсуа ... 309
Пустой, но тяжёлый случай ... 315
Что такое любовь? ... 319
А. И. Серков. Комментарий ... 326
Рассказы: (doc-rar 139 kb) – июль 2003
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Содержание:
По поводу белой коробочки (Как бы предисловие)
Слепорождённый
Круги
Люсьен
Роман профессора
Пешка
Сердце человека
Кабинет доктора Щепкина
Судьба
Игра случая
Мечтатель
Юбилей
Убийство из ненависти
Аноним
Видение
Газетчик Франсуа
Пустой, но тяжёлый случай
Что такое любовь?
"Что такое любовь?
Любовь – это когда любимый чихает в соседней комнате, и вся квартира, весь дом, вся страна и весь мир наполняются музыкой, из-за облаков выходит солнце, птицы голосят неугомонно, журчат ручейки, всё кругом заляпано необыкновенными цветами, рот от улыбки растягивается до висков и хочется повизгивать от накатившего волною счастья.
Любовь – это шутливо прокатившийся мимо блестящий шарик, за которым нужно гнаться, забыв и о возрасте, и о солидности, и о брюшке, и о мозоли, детски хихикая, спотыкаясь, прыгая через клумбу, через куст, через речку и Эйфелеву башню, умоляя шарик немножко обождать, чтобы наконец, догнав его, броситься на него всем телом, а он выскользнул, щёлкнул по носу и уже катится дальше, вертясь и сверкая, дразня и заманивая к чёрту на кулички, в страну неугасимых желаний.
Любовь – это свежеоструганная палочка, стопа чистой бумаги, свистулька из вишнёвой ветки, сотовый мёд, венецианская стекляшка, выдутая на острове Бурано, свет через прорезанное в ставне сердечко, вскрывшийся в апреле лёд на рыбной реке, корректура первой книги, шкурка чёрно-бурой лисицы, отчаянный «морской житель» на былом московском вербном рынке, в потолок хлопнувшая пробка, звон бубенчика или детский барабан.
И ещё любовь – это волны дыхания, сжатые плечи, мурашки по коже, прилив-отлив, низким облаком отражённый колокольный звон.
И наконец любовь – это ты и я или даже только ты, всех прочих – долой,– и опускается железный занавес шёлковым покровом".
(Фрагмент из рассказа "Что такое любовь?")
Роман "Сивцев Вражек" (1928) (doc-rar 357 kb) – февраль 2002
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
* * *
Сборник прозы "Сивцев Вражек: Роман. Повесть. Рассказы" (1990, 703 стр.) (pdf 10,6 mb) – ноябрь 2022
– копия из библиотеки "Maxima Library"
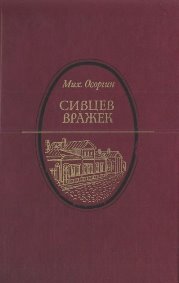
Первый роман Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942) «Сивцев Вражек» был издан, когда его автору исполнилось пятьдесят лет. Позади остались годы революционной деятельности, сотрудничества в «Русских ведомостях», работы в Книжной лавке писателей, борьбы с голодом в Комитете помощи голодающим, позади была Россия, единственная, страстно любимая, впереди – годы изгнания, освещённые чувством сыновнего долга перед страной, в которой родился.
М. А. Осоргин написал много прекрасных книг. Сейчас они возвращаются на Родину. В этот том включены роман «Сивцев Вражек»,
«Повесть о сестре», рассказы из книг «Чудо на озере» и «Повесть о некоей девице».
(Аннотация издательства)
Содержание:
О. Ю. Авдеева. «Ласточки непременно прилетят...» ... 5
Сивцев Вражек. Роман ... 37
Повесть о сестре ... 311
Рассказы ... 414
Старинные рассказы ... 535
Комментарии ... 688
* * *
Сборник прозы "Времена: Романы и автобиографическое повествование" (1992, 608 стр.) (pdf 21,2 mb) – февраль 2025
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
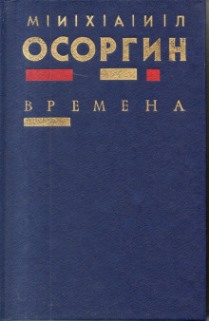
Среди больших русских писателей, чьи книги возвращаются к нам из небытия архивов и спецхранов, имя Михаила Осоргина – одно из самых громких.
Кто-то из живших в удалении от Родины придумал довольно ёмкую формулу: эмигрант – это капля крови нации, взятая на анализ. В этом смысле Михаил Андреевич Осоргин (1878–1942) – капля руссейшая (употребим его же прилагательное), плоть от плоти своего Отечества, своего народа.
О биографии писателя читатель сможет узнать по его мемуарной книге «Времена», входящей в настоящее издание. В ней не будет многих подробностей его странствий и скитаний, но будет другое: обстоятельства жизни того поколения, что, по словам Осоргина, одним духом прожило сто тысяч чертовских русских лет.
Осоргина-писателя отличает непринуждённая естественность интонаций, особенно заметная на фоне отсутствия малейшей эмоциональной однородности («печаль моя светла» вслед за Пушкиным он мог бы повторить). Проникновенна исповедальность его прозы при том, что «излишек своих переживаний» литератор, по убеждению Михаила Андреевича, должен «растворять в чернильнице». Однако главное, пожалуй, достоинство осоргинской прозы – блестящий слог тонкого стилиста.
Изгнанный в 1922 г. из России вместе с группой видных представителей интеллигенции, М. Осоргин жил и умер за рубежом, долгие годы оставаясь неизвестным нашему читателю.
Новый однотомник – наиболее представительный из всех выходивших в последние годы в Союзе сборников произведений писателя. Наряду с ранее издававшимися романами «Сивцев Вражек», «Свидетель истории» и автобиографическим повествованием «Времена» в него вошел роман «Книга о концах», печатающийся в нашей стране впервые.
(Аннотация издательства)
Содержание:
Сивцев Вражек .. 3
Свидетель истории ... 222
Книга о концах ... 370
Времена ... 488
Фрагменты из книги:
"Его ноги округлены в колёса, в жилах пар и масло, в сердце огонь. Он работает эти годы для крови, только для крови, но сам он чист и светел: позаботились, оттёрли до блеска все его медные части и номер. Он привёз сегодня живой остаток того, кто был в прежнем мире молодым офицером Стольниковым, не угадавшим пятой карты.
Уже не с прежним рвением, как-то больше по-казённому встречают светские сёстры раненых на московском вокзале. Уже не театр: бытовое дело. Подходят, заговаривают больше с офицерами. Но к Стольникову не подошли: со страшным обрубком возится его денщик Григорий, помогая уложить его на носилки.
Старший врач сказал младшему врачу:
– Чудо, что этот... жив. И ведь выживет!
Доктор хотел сказать: «этот человек», но не договорил: обрубок не был человеком. Обрубок был обрубком человека.
Григорий, когда приехали, хотел нацепить на грудь Стольникова Георгиевский крест. Но тот покачал головой, и Григорий сунул крестик в коробку, а коробку за пазуху.
Родных не было, знакомые не встретили – не знали. Никого Стольников не известил. И был он слаб, хоть и был чудом. Полгода пролежал в госпитале маленького городка, боялись везти. Теперь он выживет.
Его перевезли в госпиталь. И там врачи удивились «чуду». Ни один не решился утешать безногого и безрукого офицера. Молодые врачи подходили убедиться, что кости колена затянулись синим рубцом, а остаток правой плечевой может шевелиться. Не зная зачем, всё же массировали. Стольников смотрел на их лица, на их усы, проворные руки. Когда уходили – смотрел им вслед: вот идут на ногах, как ходил он: раз-два, раз-два...
Ему, как чуду, дали отдельную каморку. Всегда при нём был Григорий, уволенный вчистую; призывной его возраст истёк."
* * *
"К Стольникову пришли под утро и стуком в дверь подняли Григория.
– Вы, гражданин, кто?
Григорий, хоть и понял, хмуро ответил вопросом:
– А вы сами кто такие? Чего вам нужно?
Четверо стояли с ружьями, а спрашивал пятый, в кожаной куртке, с красным бутафорским бантом. Махнул у Григория под носом наганом:
– Мы вот кто. Офицер Стольников, который тут?
– На что вам его? Спят они. Не к чему их беспокоить.
– Ты что же, денщик его, что ли?
– Денщик.
– И тебя заберём. Денщиков, брат, нет больше, коли не понимаешь. Ну поворачивайся.
И ввалились в спальню Стольникова.
Григорий смотрел мрачной тучей. Не испугался нисколько – видал всякие виды.
Обрубок лежал под одеялом, повернув голову к вошедшим. Он проснулся от стука, понял и теперь смотрел на вошедших молча, нахмурив брови. В глазах была злая насмешка.
– Вы, что ли, офицер Стольников? А ну, вставай, не стесняйся, здесь баб нет.
Григорий мрачно и раздельно сказал:
– Спроси сначала, могут ли они встать. Не знаете сами, куда идёте. Разве это полагается инвалидов беспокоить?
Чёрная куртка прикрикнула:
– Ты, товарищ денщик, не очень разговаривай; заберём и тебя без предписания. Подымай своего барина. Мандат у нас имеется. Без разговоров, граждане, документы свои предъявите.
Стольников тихо произнёс:
– Дай им документы, Григорий.
– Вы что же, инвалид? – спросил чёрный.
Стольников не ответил, смотрел чёрному в глаза насмешливо.
– Спрашиваю, – надо отвечать! И в постеле нечего проклажаться. Предписано доставить вас, а уж там разберут, чем больны. Это дело не наше.
Солдаты смотрели с любопытством. И лицо и голос лежащего офицера были особенными. И видели, что начальник наряда смущён, хоть и старается держать тон.
Отдавая документы, Григорий сказал тихо:
– Без рук, без ног они. Нечего вам с ними делать.
Начальник наряда промычал:
– Дело не моё. Есть приказ доставить. И никаких не может быть рассуждений. Ходить-то может он?
– Ежели говорю, без рук, без ног.
– Мне всё одно, хоть без головы. Приказ ясный, значит, не о чем говорить. Смотри, как бы и тебя не забрали.
– Меня нельзя, я за ним хожу.
– Нянька? Тоже – солдат называется.
– Уж какой есть, тебя не спрашивал.
– А ты, товарищ, не дерзи, управа найдётся. Ладно, подымай своего барина.
– А ты, хам, на войне-то воевал? Или только с офицерами воюешь?
Чёрный вспылил:
– Забирай его, ребята, как есть, нечего смотреть.
Ни один солдат не двинулся.
Тогда чёрный, держа в руке наган, подошёл к постели Стольникова и закричал:
– Встать!
Встретил насмешливый взгляд. Стольников не шевельнулся.
Чёрный в бешенстве схватил край одеяла и сдёрнул с лежащего. В прорезь рубашки глянул лоснящийся рубец плеча; другой рукав был подвернут под спину, а вся рубашка – под бёдра. Не дрогнув мускулом лица, Обрубок только впился в лицо чёрного.
Тогда сказал Григорий:
– Что ж это, братцы, делается! Разве так можно!
Один солдат стукнул прикладом и проворчал:
– Эй, брось его, пущай лежит. Какая в нём безопасность.
Другой поддержал:
– На кой он кому нужен. Видишь – инвалид полный.
Григорий подошёл к постели, плечом отстранил черного и накрыл офицера одеялом. Обрубок лежал, закрыв глаза. Левая щека дергалась. Зубы стиснул.
Чёрный, не зная, что делать, закричал на Григория:
– А ну ты, товарищ, забирай своё барахло и собирайся. Айда, шевелись. Это у вас что тут за машина? Забирай, ребята, машину, велено для канцелярии. Протокол составим и айда. Вы, гражданин инвалид, до расследования останетесь дома, под арестом. Моё дело сторона, мандат имеется. А ты собирайся, денщик. Тебе там покажут, как офицера укрывать.
Григорий сказал решительно:
– Я не пойду. Тащи силой, коли на тебе креста нет. Воины!
Чёрный поднял наган, навёл на Григория:
– Это видал? Скажи слово!
Но руку его резко отвела другая рука. Молодой солдат, покраснев до белесых волос, угрюмо буркнул:
– Оставь! Говорю, не замай. Машинку, коли надо, забирай, а его оставь. Не туда попали. Один на войне изрублен, а другой за ним ходит. Чай, не звери мы. Айда, собираться будем.
Чёрный совсем присмирел, сунул револьвер.
– Это дело не ваше, товарищи; я тут отвечаю один, а ваше дело исполнять.
– Ладно, очень тоже не начальствуй. Говорю – забирай машину, и будет.
И остальные заступились:
– Верно, здесь, товарищ, дело совсем особое. Тоже понимать нужно.
Чёрный совсем присмирел, сунул револьвер в кобуру, повернул к двери:
– Ну, там, который-нибудь, прихвати машину."
* * *
"– Эй, принимай!
Завалишин, стараясь твёрдо стоять на ногах, подошёл к двери и поднял кольт.
Топот ног прекратился, и один, мягко и ровно ступая, подходил к двери в подвал. Когда в дверях показалась рубашка, Завалишин осипшим голосом скомандовал:
– Вертай направо!
Вошедший повернул голову на окрик, и рука Завалишина опустилась.
Шаги в коридорчике замерли, и хлопнула выходная дверь. Смертник и палач смотрели друг на друга. Завалишин затрясся всем телом и едва не выронил кольт.
Смертник, всмотревшись, улыбнулся страшной улыбкой.
– А, старый знакомый! Ну, как живём, Завалишин?
Белыми пьяными губами тот пробормотал:
– Алексей Дмитрич...
– Он самый, сосед ваш.
Оба на минуту замерли в молчании.
Астафьев обвёл глазами подвал, брезгливо взглянул себе под ноги – на скользкий пол – и сурово сказал:
– Ну что ж, всё равно, кончай, что ли.
Закрыл глаза и ждал, сжав зубы. Слышал рядом глухое бормотанье.
Тогда Астафьев сжал кулаки, резко повернулся к пьяному палачу и крикнул:
– Слышишь, негодяй! Кончай скорей! Иначе вырву револьвер и пристрелю тебя, как собаку. Кончай, трус проклятый!
Завалишин поднял руку и опустил снова. Пьяные глаза его были полны ужаса.
Обычным своим голосом, полным насмешки и презрения, Астафьев громко и раздельно произнёс:
– Эх, Завалишин! Говорил я вам, что ни к чему вы не годны. А ещё хвастал. Человека пристрелить не может. Ну что же теперь, идти мне спать?
Пройдя мимо палача, он сел на лавку и опустил голову. В тот момент, когда Завалишин снова поднял кольт, Астафьев быстро взглянул ему прямо в лицо и рассмеялся:
– Ну, то-то! Наконец-то. Ну – раз, два... Ну же, мерзавец, ну же... пли!"
Книга "Воспоминания, или что я слышал, что я видел и что я делал в течение моей жизни, 1861–1920" (2024, 1387 стр.) (pdf 6 mb) – январь 2025
– копия из библиотека "Library6"
Труд этот не предназначался для печати, во всяком случае в ближайшее время, при моей жизни. Цель его была правдиво изложить пережитое, сохранить для детей и внуков память о той старине, о той обстановке, в которой воспиталось наше поколение и которая потом повлияла на наших детей. Не задавался я задачами историческими, бытовыми, политическими – отнюдь нет, потому освещение этих вопросов читателю не следует искать в том, что он прочтёт. Это только пересказ того, что слышал, видел и делал, без стремления дать сему какую бы то ни было окраску кроме правдивости. Местами воспоминания мои столь личны, суждения о моих действиях и переживаниях столь интимны, что предназначаются они лишь для семьи, а для печати должны быть выпущены, если этому труду суждено видеть свет в полном объёме...
(Из предисловия автора)
Оглавление:
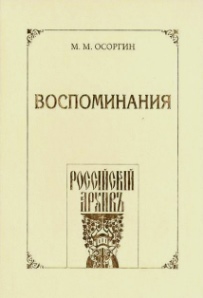
Предисловие ... 1
Глава I. Мои родители и предки ... 3
Глава II. Моё детство (1861–1875) ... 51
Глава III. Гимназия (1875–1878) ... 120
Глава IV. Пажеский корпус (1878–1880) ... 195
Глава V. Кавалергардский полк (1880–1886) ... 314
Глава VI. Отставка из полка и семейная жизнь в деревне (1886–1887) ... 432
Глава VII. Государственная служба. Калуга (1887–1897) ... 544
Глава VIII. Государственная cлужба. Харьков (1898–1902) ... 761
Глава IX. Государственная служба. Гродно (1902–1905) ... 937
Глава X. Государственная служба. Тула (1905) ... 1123
Глава XI. Семейная жизнь в деревне (1907–1918) ... 1231
Роман "Свидетель истории" (1932) (doc-rar 245 kb) – февраль 2002
Роман "Книга о концах" (1935) (doc-rar 192 kb) – май 2004
Воспоминания "Времена" (1955) (doc-rar 205 kb) – февраль 2003
Рассказ "Игрок" (doc-rar 9 kb) – февраль 2003
Материалы к биографии М. Осоргина (doc-rar 7 kb) – февраль 2003
О творчестве М. Осоргина (doc-rar 7 kb) – февраль 2003
Страничка создана 19 февраля 2003.
Последнее обновление 3 февраля 2025.
|