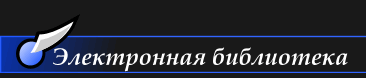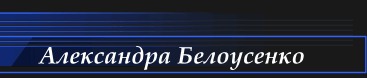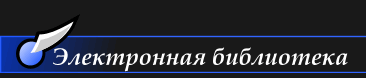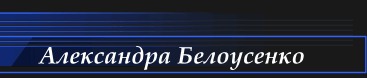|
|

Борис Юлианович ПОПЛАВСКИЙ
(1903-1935)
ПОПЛАВСКИЙ Борис Юлианович [24.5(6.6).1903, Москва – 9.10.1935, Париж] – поэт, прозаик, эссеист, критик.
Род. в семье музыкантов. Его отец, Юлиан Игнатьевич, происходивший из польских крестьян, был одним из любимых учеников П. И. Чайковского, но вместо музыкальной карьеры избрал деловую: служил в Обществе заводчиков и фабрикантов. Мать (из старинного рода прибалтийских дворян) – скрипачка. Мальчик тоже учился музыке, увлекался рисованием, писал стихи.
В 1920 отец с сыном уезжают в Крым и в нояб. 1920 вместе с армией П. Н. Врангеля покидают Россию. О чувствах, испытанных от прощания с родиной, П. напишет позднее стих. «Уход из Ялты». В 1921 они перебираются из Константинополя в Париж. Здесь П. сближается с художниками Монпарнаса, учится в Худож. академии, а в 1922 на 2 года уезжает в Берлин, где занимается живописью и приобщается к кругу рус. писателей. С 1924 и до своей гибели живет в Париже.
П. получал небольшую стипендию. Семья существовала чрезвычайно скромно, перебиваясь минимальными заработками: отец преподавал музыку в Рус. муз. обществе, мать стала портнихой, брат (бывший офицер) – таксистом. Жизнь не баловала П. Встреча с Натальей Ивановной Столяровой в 1931 принесла ему не столько счастье, сколько страдания. Через 3 года Столярова уехала в СССР, откуда не подавала вестей, поскольку была репрессирована; отец ее был расстрелян. В окт. 1935 монпарнасский авантюрист и наркоман С. Ярко предложил неск. своим знакомцам ощутить неведомое ранее состояние. Согласился один П. Утром оба были мертвы. Как позднее выяснилось, Ярко перед этим сообщил своей любовнице, что хочет уйти из жизни и «увести с собой» еще кого-нибудь.
Драматично складывалась писательская судьба П. Несмотря на то, что весь рус. Париж знал его стих. «Черная мадонна» и «Флаги», несмотря на то, что он был отнесен к лит. элите, его стихи встречали холодно-равнодушный прием у издателей. 26 его стих. появилось в 1928-30 в парижском ж. «Воля России», еще 15 в «Совр. записках» (1929-35). Лишь в 1931 нашлась меценатка, профинансировавшая его единственную прижизненную поэтич. кн. «Флаги», высоко оцененную критиками М. Цетлиным и Г. Ивановым. Многократно и безуспешно пытался П. издать свой ром. «Аполлон Безобразов».
Отвечая в 1931 на вопросы о своем творчестве в альм. «Числа» (№ 5), поэт писал, что творчество для него – возможность «предаться во власть стихии мистических аналогий», создавать некие «загадочные картины, которые известным соединением образов и звуков чисто магически вызывали бы в читателе ощущения того, что предстояло мне». Характеризуя осн. задачу своего творчества, он писал: «Расправиться с отвратительным удвоением жизни реальной и описанной. Сосредоточиться в боли... Выразить хотя бы муку того, что невозможно выразить». Поэтому далеко не все образы стихов П. понятны, большинство из них не поддается рациональному толкованию. Читателю, писал он в «Заметках о поэзии» (Новый журнал. 1947. № 15), должно вначале показаться, что «написано "черт знает что", что-то вне литературы». «Тема стихотворения, – утверждал П. в "Заметках о поэзии". – его мистический центр, находится вне первоначального постигания, она как бы за окном, она воет в трубе, шумит в деревьях, окружает дом. Этим достигается, создается не произв., а поэтический документ,– ощущение живой, не поддающейся в руки ткани лирического опыта».
В одном из самых известных его стих. «Черная Мадонна» у людей, «соловеющих» в трамвае, будут и «головы святые», и «умирающие кларнет и скрипка» «родят волшебный звук», и «запах рвоты» в соединении с «фейерверка дымом пороховым». Еще менее поддается расшифровке образ «В венке из воска», хотя общая направленность его к чему-то неживому, трагическому очевидна. В этих сюрреалистических образах, где каждое отд. описание вполне понятно, но их соединение кажется необъяснимым авт. произволом, читатель, тем не менее, прозревает некое подсознательно трагическое восприятие мира, усиленное итоговыми образами «священного адного» и «белого, беспощадного снега, идущего миллионы лет». И в текстах, и в заголовках проявляется образ ада, дьявола. «Ангелы ада», «Весна в аду», «Звездный ад», «Diabolique». Поистине в поэзии П. «блеснув огнями в ночи, дышит ад» (стих. «Lumiere Astrale»). Фантасмагорические образы-метафоры усиливают это впечатление. Мир воспринимается то как колода карт, разыгрываемая нечистой силой («Ангелы ада»), то как нотная бумага, где люди – «знаки регистра», а «пальцы нот шевелятся достать нас» (стих. «Борьба со сном»). Метафоризированный образ людей, стоящих, «как в сажени дрова, / Готовые сгореть в огне печали» осложняется сюрреалистическим описанием неких рук, тянущихся, как мечи, к дровам, и трагическим финалом: «Мы прокляли тогда свою бескрылость» (стих. «Стояли мы, как в сажени дрова...»). В стихах поэта «дома закипают, как чайники», «встают умершие годы с одра», а по городу ходят «акулы трамваев» (стих. «Весна в аду»); «острый облак луне отрывает персты», «хохочут моторы, грохочут монокли» (стих. «Дон Кихот»); на «...балконе плачет заря / В ярко-красном платье маскарадном, / И над нею наклонился зря / Тонкий вечер в сюртуке парадном», вечер, который затем сбросит «позеленевший труп зари» вниз, а осень «с больным сердцем» закричит, «как кричат в аду» (стих. «Dolorosa»). В заключении этой жутковатой картины «Смерть запела совершенно даром / над лежащей на земле Мадонной».
По воспоминаниям друзей поэта, на переплетах его тетрадей, на корешках книг многократно повторялись написанные им слова: «Жизнь ужасна». Именно это состояние передавали необычайно емкие метафоры и сравнения П.: «ночь – ледяная рысь», «распухает печально душа, как дубовая пробка в бочонке», жизнь – «малый цирк», «лицо судьбы, покрытое веснушками печали», «душа повесилась в тюрьме», «зеленый ужас», «пустые вечера». Во мн. стих. поэта появляются образы мертвецов, печального дирижабля, «Орфея в аду» (граммофона). Флаги, привычно ассоциирующиеся с чем-то высоким, у П. станут саваном (стих. «Флаги», «Флаги спускаются»). Тема свинцового сна, несвободы, непреодолимой инертности проходит через всё творчество поэта (стих. «Отвращение», «Неподвижность», «Рождество расцветает. Река наводняет предместья...», «Спать. Уснуть. Как страшно одиноким...»). Со сном связана и тема смерти: «Спать. Лежать, покрывшись одеялом, / Точно в теплый гроб, сойти в кровать...» (стих. «В зимний день на небе неподвижном...»).
В одном из первых стих. сб. «Флаги» о лирич. герое говорится, что он шел и смеялся, как «осужденные смеются с палачами». Уже здесь чувствуется характерное для экзистенциальных настроений поэта состязание со смертью, проходящее через все его творчество. С одной стороны, человеку дано слишком мало свободы – фатум царит над его жизнью, с другой – и в этой борьбе есть упоение игрока (стих. «Покушение с негодными средствами»). Иное дело, что оно временно и не отменяет итоговой трагедии: «Улыбается тело тщедушно, / И на козырь надеется смерд. / Но уносит свой выигрыш душу / Передернуть сумевшая смерть» (стих. «Я люблю, когда коченеет...»). Нередко в стихах П. смерть воспринимается и как трагедия, и как тихая радость. Этот оксюморон отчетливо прослеживается в заголовке и тексте стих. «Роза смерти», в стих. «Рукопись, найденная в бутылке», «Жалость». А в стих. «Двоецарствие» лирич. герой в итоге уходит «под землю и в небо» и, подобно звезде из стих. «Звездный ад», обнаруживает, что не «цветет в аду» «среди разбитых душ», а «сияет на руке Христа». Этой теме посвящен во «Флагах» цикл мистич. стих. («Гамлет», «Богиня жизни», «Смерть детей», «Детство Гамлета», «Розы Грааля», «Саломея»). Характерными образами-символами цикла выступают розы, звезды, дирижабли, ангелы, дети. А их общую идею выражает «Мистическое рондо I»: «Ты с луны мне говоришь о счастье. / Счастье – смерть, / Я Тебя на солнце буду ждать. / Будь тверд». А к концу сборника рождается тема, воплотившаяся в назв. одного из стих. – «Стоицизм» – и с предельной полнотой выраженная в строках стих. «Мир был темен, холоден, прозрачен...»: «Станет ясно, что шутя, скрывая, / Всё ж умеем Богу боль прощать. / Жить. Молиться, двери закрывая. / В бездне книги черные читать. // На пустых бульварах замерзая / Говорить о правде до рассвета, / Умирать, живых благословляя, / И писать до смерти без ответа».
Двоемирие, принадлежность к небу и земле и метания между ними составили содержание целого направления в рус. поэзии младшего поколения рус. эмиграции, получившего с легкой руки П. назв. «парижской ноты». Поэт охарактеризовал его как метафизическое состояние души, в котором соединяются «торжественная, светлая и безнадежная» ноты (Числа. 1930. № 2-3). Это состояние сохранилось и в поздних стихах, ставших, однако, проще и строже. «Как холодно, молчит душа пустая...» (1932) – так называет одно из своих поздних стих. поэт. Но тогда же написаны и строки любви к земному: «В кафе стучат шары. Над мокрой мостовою...», «Разметавшись широко у моря...».
«Домой с небес» возвращается лирич. герой П. в стих. «Не говори мне о молчанье снега...», открывающем цикл стихов с лирич. назв. «Над солнечною музыкой воды»: «Смерть глубока, но глубже воскресенье / Прозрачных листьев и горячих трав. / Я понял вдруг, что может быть весенний / Прекрасный мир и радостен, и прав». Составленный близкими друзьями посмертный сб. «Снежный час» не случайно завершается стих. «Рождество расцветает...», главная мысль которою – примирение с драматичным миром.
Поэзия П. – свидетельство непрерывных поисков человека «незамеченного поколения» рус. эмиграции. Это поэзия вопросов и догадок, а не ответов и решений.
Ром. «Аполлон Безобразов» (1926-1932), «Домой с небес» (1934-35) и незаконченный «Апокалипсис Терезы», по замыслу автора, должны были составить трилогию, о макросюжете которой можно теперь судить только гипотетически.
В «Аполлоне Безобразове» развертывается заложенный в имени главного героя оксюморон. Герой несет в своем имени (это был и псевд. П.; им писатель нередко подписывал свои материалы в прессе) два начала: красоту и уродство, гармонию и разложение. Автор то напрямую отождествляет его с фигурой дьявола, то превращает Безобразова в своеобразного Мефистофеля, насыщая сюжет реминисценциями из гётевского «Фауста», то передоверяя Аполлону сокровеннейшие истины – плод долгих авт. поисков. Существует и еще одна возможность толкования фам. героя, если прочитать ее с ударением на втором слоге. Тогда он оказывается неопределенным, аморфным, как сама жизнь. Текст романа дает основания и для такой трактовки. Обрастая культурологическими реминисценциями, герои превращаются в архетипы, а затем становятся лишь отд. гранями, воплощениями и проявлениями универсальной человеческой сущности – раздробленной личности – героя 20 в. Следуя за М. Лермонтовым, П. делит произв. на собственно роман и дневник своего героя, открывающий в убийственно-скептическом Аполлоне всю глубину тех же страданий, периодов отчаяния и духовных сражений с Творцом несовершенного мира, которые свойственны и др. персонажам. «Герой времени» обнаруживает под спудом иронии свое полное право стать жертвой времени, бросить ему законный упрек или просто выйти из игры, погрузиться в сон, небытие. Итогом романа становится пафос всеохватной авт. жалости и сочувствия к «маленькому персонажу» на чужой земле и – шире – в чужом мире.
Осн. темой второй части трилогии (ром. «Домой с небес») становится раздвоение мира и человека, Бога и Дьявола, тема утраты Бога не только разуверившимся героем, но и оставленным Богом миром. Жизнь главных персонажей, рефлексирующих Олега и Аполлона Безобразова, – блуждания по временам, пространствам, культурам и книгам, единственной целью которых становится постижение законов мироздания. Автор пытается в смехе преодолеть трагедию оторванных от культурных корней людей и оправдать их вынужденную опустошенность, навязанную им необходимость начать постижение окружающего мира с нуля, с «чистого листа». Эмиграция оказывается одповременно Апокалипсисом и временем творения нового мира, что позволяет П. совместить два истолкования судьбы героев «незамеченного поколения»: бесперспективное и обращенное к поискам истины. Д. Мережковский, по воспоминаниям Г. Адамовича («Одиночество и свобода»), сказал, «что если эмигрантекая литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для ее оправданий на всяких будущих судах».
Соч.: Собр. соч.: В 3 т. / Под ред. С. Карпинского и А. Олкотта. Беркли, 1980-81; Под флагом звездным: Стихи разных лет / Предисл. Л. Аллена. СПб., 1993; Домой с небес: Ром. / Вст. cт., сост. и примеч. Л. Аллена. СПб.; Дюссельдорф, 1993; Стихотворения. Томск, 1997.
Лит.: Татищев Н. Поэт в изгнании // Новый журнал. 1947. № 15; Михайлов О. Поэт «потерянного поколения" // Волга. 1989. № 7, Васильев И. Борис Поплавский: Дальняя скрипка // Октябрь. 1989. № 9; Адамович Г. Поплавский // Адамович Г. Одиночество и свобода: Литературно-критич. ст. СПб., 1993; Борис Поплавский в оценках и восп. современников. СПб., 1993; Газданов Г. О Поплавском // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции. М., 1994; Гальцева Р. Они его за муку полюбили // Нева. 1997. № 7.
В. В. Агеносов
(Из биографического словаря "Русские писатели ХХ века")
"Вернувшись в Париж к началу сентября, я в следующее же воскресенье очутился у шоферского кафе, рассчитывая встретить друзей, по которым соскучился. Но оказалось, что многие еще в отъезде или отвыкли ходить сюда за лето. Экономя, я решил не усаживаться за столик. Поплавский меня проводил до дверей. Я тогда заметил, но только потом сообразил, его неестественную бледность. Лицо серое, как гречневый блин, с темными, узкими, неприятными усиками, которые он себе вдруг отпустил.
Он был молчалив, сдержан, как-то непривычно солиден. «Числа» больше не выйдут. «Современные записки» ему вернули роман. Впрочем, он теперь интересуется спиритизмом, во вторник, кажется, во вторник, он приглашен к одной даме на сеанс. Если я хочу, могу с ним пойти.
– Зайди ко мне к пяти часам, – были его последние слова. – Погуляем еще до того.
На этом мы расстались: он застыл у порога – бледная маска с усиками инка или ацтека как бы висела на высоте человеческого роста.

Позже я сообразил, что это, вероятно, наркотики так преобразили и цвет, и состав его тканей. Помню мертвенно-неподвижно-гладкую кожу лица, без очков.
Игра Поплавского с наркотиками не случайность, началась она очень рано. Его всегда тянуло к прекрасному сну или прекрасному злу. Зло – сон, сон – прекрасен. Его отталкивали грубые безобразия жизни; действовать в жизни – значит, безобразничать. Борьба с уродством жизни приводит также к умножению уродства. Ах, уйти, уйти. Повесть о дьяволе – трудная литература. И Поплавский это знал как никто лучше. Дьявол прекрасен, а красота – омут. Да, хороши святые! Но именно благодаря ревности дьявола.
– Вообще хороши матросы, но не будем говорить о них, – повторял он с восторгом строку из своего любимого «стоика» Гингера.
Смерть неизбежна и прекрасна, даже если она зло. Будем умирать как новые римляне: в купальном трико, на камнях у бассейна с заправленной хлором водою, заснуть, улыбаясь сквозь боль. (Возвратимся к знакомым снам.)
Я иногда встречался с Борисом у общих друзей – Проценко, Дряхлов. Там мы, бывало, закусывали, пили вино, играли в белот или шахматы, спорили, ругались, шельмуя друг друга. Вообще агапы эти протекали гораздо приятнее, когда одного из нас, Поплавского или меня, не было. При разных обстоятельствах я видел его пьяным.
Иные, опьянев, чувствуют смертную истому и всячески сопротивляются, часто даже безобразно... Вздыхают, стонут, бегают в уборную, кланяются подоконникам, суют себе палец в рот, поднимают, как выразился бы Поплавский, метафизический гвалт.
Другие застывают в мертвом покое, сдаются сразу, покорные и по-своему прекрасные – на полу, в кресле, под стеною!
Не двигаясь, не ропща, почти не дыша; и такие же они в агонии. Поплавский принадлежал к последним.
Во вторник я не пошел на спиритический сеанс, а ведь если бы не забыл, то все могло бы получиться иначе.
Поплавский тоже, по-видимому, передумал. Вместо эзотерической дамы встретился с новым другом, отвратительным русским парижанином, продававшим всем, всем, всем смесь героина с кокаином и зарабатывавшим таким образом на свою ежедневную дозу наркотиков. Говорили, что этот несчастный давно собирался кончить самоубийством и только ждал подходящей компании. Есть такая черта у некоторых выродков – захватить попутчика. Для этой цели он только удвоил или утроил обычные порции порошков.
Не думаю, чтобы Борис подозревал о предстоящем путешествии. Он был все-таки профессионалом и в последнюю минуту вспомнил бы о дневнике или незаконченной рукописи.
Под вечер они явились вдвоем на квартиру Поплавских (семья жила тогда рядом с русским земгором, где, кстати, в каморке ютилась редакция «Современных записок»). Вели себя несколько странно, возбужденные, раздраженные. То и дело выходили наружу в уборную и возвращались опять веселые, обновленные. Старики спокойно улеглись спать и больше ничего не слыхали. Наутро нашли два остывших тела.
В «Последних новостях» появился портрет Бориса. Тогда я впервые понял, что наша жизнь тоже является предметом истории, не только бородинское сражение, и подлежит тщательному изучению, так как и о ней могут быть два мнения.<...>
Затем были похороны с огромным ворохом дорогих цветов: розы, действительно, пахли смертью. В русской церковке нельзя было протолкаться. Барышни рыдали; многочисленные иноверцы стояли с напряженными лицами. Поплавский любил евреев и умел, подражая Розанову, пококетничать на тему Христа, крови и обрезания.<...>
Смерть Поплавского хоть и закономерна, но совсем не характерна для него, тут возможны были разные варианты. Продолжались бы «Числа» или замышлялось бы другое способное увлечь дело, Борис бы не погиб. С той же легкостью он через год уехал бы в Испанию. А под немцами безусловно подвизался бы в резистансе, со взлетами и метафизическими истериками, может быть, с падением вроде Червинской...
Он оставил несколько прелестных стихов, но ценность Поплавского не исчерпывается ими. Он написал десяток страниц вдохновенной прозы, но и романы его – не всё! Поплавский имел «некое видение» и силился его вспомнить, воплотить, часто путаясь, отчаиваясь и прибегая к лживой магии. Больше, пожалуй, он себя выразил в статьях типа «Христос и Его знакомые» и, конечно, в бесконечных, бессмертных, разговорах.
Еще теперь, четверть века спустя, в блестящих импровизациях некоторых зарубежных примадонн я все еще нахожу крупицы того золотого песка, который так щедро, небрежно и назойливо рассыпал Борис Поплавский."
(Василий Яновский. "Поля Елисейские")
Произведения:
Роман "Аполлон Безобразов" (1926-32) (html 942 kb) – апрель 2008
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Фрагменты из романа:
Личность Аполлона Безобразова никогда не позволяла садиться в его присутствии, она держала его собеседника в непрерывной и сладкой тревоге, которая вызывает в нас прекрасную идею чистой возможности. Для него не существовало внутреннего рока, которому подчинены души еще более, чем тела – року внешнему. Его вчерашние чувства ни к чему его не обязывали сегодня. И я часто, после некоторого отсутствия, почти не мог узнать его при встрече, даже походка его менялась, звук голоса. Долго знать Аполлона Безобразова означало присутствовать на столь же долгом, разнообразном и неизмеримо прекрасном театральном представлении, сидеть перед сценою, на которой беспрерывно меняется цвет облаков и реки каждую секунду текут вспять и по новому руслу; какие-то люди проходят, улыбаются, говорят красивые, странные и почти бессмысленные вещи; они встречаются, они расстаются и никогда не возвращаются обратно, ибо Аполлон Безобразов со всех сторон был окружен персонажами своих мечтаний, которых один за другим воплощал в самом себе, продолжая сам неизменно присутствовать как бы вне своей собственной души, вернее, не он присутствовал, а в нем присутствовал какой-то другой, и спящий, и грезящий, и шутя воплощавшийся в своих грезах, и этот другой держал меня в своей власти, хотя я часто бывал сильнее очередного его воплощенного двойника.
* * *
Всю ночь внизу горит свет. Кто-то ворочается за стеною, скрипит кроватью, бредит. Кто-то встает впотьмах. Звенит струя, разбиваясь о дно ночной вазы, все более и более тихим звуком. Еще несколько капель. Всё...
Где-то серовато белеет электрическая лампочка среди папиросного дыма, который медленно рассеивается. Там кто-то спит, не раздеваясь, ничком. Вдруг, забыв о боли и страхе, вдруг из хаоса мыслей взятый живым на небо.
Но еще глубже, на третьих дворах и шестых этажах, в низких комнатах без окон или с окнами без света, выходящими в глубокие шахты внутренних дворов, где внизу на проволочной сетке, защищающей мутные стекла, года и года мокнут и выцветают папиросные обертки, газеты и всяческая шелуха.
В глубине, за темными занавесками и туберкулезными ширмами, среди баулов, вешалок, лесенок, грязных кухонь, серых ватер-клозетов без стульчаков, в запахе кала, среди моли, пауков, клопов, мух, мокриц, стрептококков и гонококков, спирохетов, спирилий, коховских палочек и таинственных, невидимых даже в сильнейшие микроскопы возбудителей рака, трахомы, сонной болезни и столбняка.
* * *
Трамваи, трамваи, трамваи. Все переполненные, звенящие на пустых улицах. Газ потухает. Грузовые автомобили тяжело катятся к центральному рынку. Белый сумрак. Европа. Зимою те, кто спали, прикорнувшись в подъездах и на ступеньках метро, у самой железной решетки, откуда дышит теплый вонючий воздух подземелья, почерневшие и перекошенные, как-то боком входят в первые кафе или спускаются, наконец, в подземную дорогу, где долго они будут, качая головами, задремав в тепле, кружиться под землею, но и им завидуют спешащие на фабрики; даже они кажутся более счастливыми, вернувшимися к правде. Наконец, долгое время спустя, начинается утро служащих и школьников, и владельцев маленьких магазинов и еще, много времени спустя, утро хорошо одетых, лысеющих, считающих, пишущих, богохульствующих, одетых в фильдекосовые носки, рубашки из искусственного шелка, ботинки американского фасона, костюмы английской кройки и добродетельные мысли ужасающих, смердящих, калообразных, полных червями, источающих гной спокойных, важных разговоров среди модерной мебели из симили дуба, мельхиоров с безалкогольным кофеем, безалкогольным вином и солью, потерявшею соленость; убийцы Христа, язвы и плесень Апокалипсиса. Утро людей, имеющих деньги. Людей, считающих себя правыми.
И наконец, уже позже всех, последнее из утр – посреди грохота, суматохи, яркости и неизмеримо далеко от пустоты, чистоты мусорщиков и перевернутых стульев в кофейнях, среди сбитости с толку, ошеломленности, одышки, геморроидального зуда и поминутно извлекаемых членов и часов. В разгромленных комнатах за спущенными шторами кончается последний тяжелейший, бессмысленнейший сон, в котором фигурируют уже и грохот улицы, и писки автомобилей, и смятые простыни, и отлеженные руки. Раскрываются медленно глаза уязвленных светом, ошеломленных головною болью, изжогой во рту, усталостью и болью в половых органах, души тех, кто вчера до утра хохотали, острили, кричали, пили фальсифицированные напитки, бессвязно спорили, развратно целовались и длительно и изможденно совокуплялись с кем-то, зачем-то, где-то. И долго будут они с сожалением вычесывать волосы нечистым гребнем, пить воду с жженой магнезией, затем чесать промежности, зевать, читать газеты, пить холодное отельное кофе и, может быть, запрокинувшись, спать до самого вечера.
* * *
Пей, братец! Вино напомнит тебе о прошедших днях. Ты родину вспомнишь и шелест прозрачной березы. Пей, милый, товарищей вспомнишь, упавших в боях, и слезы покинутых девушек, легкие слезы. Пей, загорелый товарищ, быть может, навеки, быть может, на время скитанья. Шути, веселись, загорелый ночной человек. Пусть музыка плачет и время несется над нами, ты все потерял, ты простил и уехал от всех. Ты начисто выбрился, сел на стального коня, шутя, улыбаясь, по улице чисто проехал. Задумался, ахнул, мелькнул и не вспомнил меня. Ты выпить с товарищем в белой рубашке приехал. Шоферская доблесть, что ж, выпьем, встряхнись и прости. Нам легче от смеха, и мы никому не помеха. Шоферы пьют, вспоминая прошедшие дни. Стаканы стучат, вспоминаются павшие братья, что в степи родные, как в улицы синей огни, упали, раскрывши могучие руки-объятья.
* * *
Значит ли это, что смерть гораздо страшнее, чем я думал? Чему же я учился всю жизнь, всю жизнь готовился, если не к смерти, и вот я сейчас беспомощен и слаб, как Васенька, и готов даже закричать, как во время операции без хлороформа. И как хочется мне еще увидеть, как, молодецки пыхтя, Тихон несет целую пальму в кадке. Кстати, перенес ли он их все? И даже Васеньку с его вечными «вечными вопросами». Так всегда думаешь, что это еще не те люди, стоящие, чтобы ими по-настоящему заняться, и вечно ждешь кого-то, а жизнь тем временем уже прошла, и это были именно те, выбранные судьбою свидетели жизни, которые всю ее помнят, несут в сердце, и вот уже я их никогда не увижу, никогда; и где прелесть этого слова, которое мне всегда так нравилось, а теперь, когда «никогда» началось, как все это вышло совсем по-другому и гораздо больнее.
Стыдно как-то умирать. Ведь я ничего не сделал, ничего не написал. Мне всегда казалось, что я еще успею, что и так, «по носу», все видно и что достаточно с особым видом пройти в воскресенье среди гуляющих, чтобы все поняли, что такое «оно». Что «оно» здесь, на воскресном бульваре, среди их возбужденных глаз, веселых ног и разгоряченных членов. И конечно, все понимают, если в комнате сидит «оно». «Оно» одно утешало меня, когда я еще не выносил жизни. В литературе и в жизни «оно» побеждает литературу и жизнь, солнечное, спокойное, нечеловеческое. Я всегда поклонялся ему, невидящему и вездесущему покровителю Антонина и Юлиана, и вот «оно» сейчас оставило меня, и мне страшно, тяжело, холодно. Мне хочется сейчас чего-то доброго, близкого, домашнего, босого и теплого, как нога; и как я всегда над этим смеялся. Как жалко тебе себя, Безобразов, а ты хотел умереть, улыбаясь. Незаметно пропустить смерть. Как скучно тебе и холодно умирать.
Роман "Домой с небес" (1934-35) (html 658 kb) – декабрь 2008
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Фрагменты из романа:
...Таня была невысока ростом, но так ладно и крепко скроена, что казалась крупной, как афинский Парфенон, ростом не более четырехэтажного дома, кажется грандиозным, и, подобно его колоннам, загнутым наверху вовнутрь, плечи Тани не торчали углами, а мягко округлялись под тяжестью мускулов, и он вспоминал, как когда-то Аполлон Безобразов сказал, вдруг задумавшись, как будто вспоминая что-то и презрительно-печально выпучив губы: «Если ты хочешь узнать наверное, любишь ли ты человека, посмотри как-нибудь на него сзади, когда, не ведая того, он одиноко шествует по бульвару. Что-то есть удивительно непохожее в походке каждого человека и в выражении его спины – его слабости и силы особенной, – и если сердце твое не тает, значит, ничего тебе не поможет и не любишь ты его».
* * *
Когда-то Олег чуть не задохнулся от удивления-благодарности, прочтя у Гегеля, что тело есть воплощенная, явная, реализованная душа: значит, не обуза, не завеса, а совершенство и роскошь творения, злое, оскаленное, дрожащее, как струна, когда над ним среди хлопанья флагов и рева толпы вот-вот щелкнет, ахнет выстрел стартера, и тогда нужно будет, во мгновение выпрямившись, всю душу, все сердце, всю жизнь вложить в первый отчаянный бросок, чтобы грудью, зубами, лицом вырваться вперед, потому что все в состязании зависит от этого первого рывка, – или то же тело, легко, тяжело, привольно, с шумом дышащее, выдыхающее воздух под воду, когда, привыкнув к ритму, привычным движением выкидывает оно перед собой руку, всем существом, как лента, как рыба, подаваясь вперед, тело плывущее, тело танцующее, тело любящее со сжатыми зубами, уже не хранящее, не берегущее себя, счастливо, злобно храпящее, борющееся, побеждающее, теряя голову, слабеющее, освобождающееся вдруг. Как наивны те, кто хотели бы иметь другое тело, не находя себя в себе, и впрямь они или не знают своей красоты, или не подозревают тайного безобразия своей души.
Сборник "Собрание сочинений: В 3 т. Т. 1: Стихотворения" (2009, сост., вступит. ст., коммент. Е. Менегальдо) (pdf 13 mb) – июнь 2021
– копия из библиотеки "ZLibrary"

Современники называли Бориса Поплавского (1903-1935) «царства монпарнасского царевичем». Его дар высоко ценили Вл. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Г. Газданов, Н. Берберова, другие видные деятели русского зарубежья. «Если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного достаточно для её оправдания на всех будущих судилищах», – говорил Д. Мережковский.
Впервые поэтическое наследие «первого русского сюрреалиста» издаётся в столь полном объёме и так, как это замысливал автор: ещё при жизни он сам составил семь своих стихотворных сборников, но опубликовать смог лишь один из них – «Флаги», да и не в том виде, как задумывал.
(Аннотация издательства)
* * *
Ни то, что показано в стихах Поплавского, ни то, как показано, не заслуживало бы и десятой доли внимания, которого они заслуживают, если бы в этих стихах почти ежесекундно не случалось – необъяснимо и очевидно – действительное чудо поэтической «вспышки», удара, потрясения, того, что неопределённо называется «неизведанная дрожь», чего-то и впрямь схожего с майской грозой и чего, столкнувшись с ним, нельзя безотчётно не полюбить.
Георгий Иванов
* * *
Свобода и каприз – основные черты поэзии Поплавского – толкали его к таким особенным, таким воздушным и сияющим образам, что только совершенно глухой к поэзии человек может не отозваться хотя бы краем души на эти трагические, больные, чем-то экзотические в своей современности стихи.
Нина Берберова
Сборник "Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2: Аполлон Безобразов. Домой с небес: Романы" (2009, подг. текста, коммент. А. Богословского, Е. Менегальдо) (pdf 15,6 mb) – июнь 2021
– копия из библиотеки "ZLibrary"

Проза Бориса Поплавского (1903-1935) – явление оригинальное и значительное, современники считали, что в ней талант Поплавского «сказался даже едва ли не ярче, чем в стихах» (В. Вейдле). Глубоко лиричная, она в то же время насквозь философична и полна драматизма. Герои романов – русские эмигранты, пытающиеся осмыслить свою судьбу и найти своё место на этой земле.
(Аннотация издательства)
* * *
Как ни своеобразны, певучи, находчивы, остроумны, как ни пленительны стихи Поплавского, я думаю, что по-настоящему должен был он найти себя не в стихах, а в прозе. Надо надеяться, что два его романа будут рано или поздно обнародованы. Я знаю только отрывки: есть среди них страницы восхитительные... Его «Аполлон Безобразов», конечно, так же личен и лиричен, как его стихи, но то, что в нём сказано, – сказано глубже и твёрже.
Георгий Адамович
* * *
В герое романов Поплавского много жалкого и болезненного, отвратительного добродетельному читателю и всё-таки в нём есть что-то необыкновенно привлекательное. Читая Поплавского, мы всё время чувствуем присутствие живого человеческого существа, одинокого и несчастного, с вечно ноющей в сердце болью и грустью, неспособного к насмешке.
Владимир Варшавский
Сборник "Собрание сочинений: В 3 т. Т. 3: Статьи. Дневники. Письма" (2009, подг. текста, коммент. А. Богословского, Е. Менегальдо) (pdf 18 mb) – июнь 2021
– копия из библиотеки "ZLibrary"

Третий том собрания сочинений Бориса Поплавского (1903-1935) включает в себя статьи о литературе, изобразительном искусстве, спорте, а также его дневники и письма. О чём бы Поплавский ни писал, в каждой своей строке он был значителен и талантлив.
Его дневник – «документ современной души, русской молодой души в эмиграции» – Н. Бердяев оценивал как «книгу очень значительную, очень замечательную».
«Поплавский... боролся с Богом, с какой-то злобой вгрызаясь в непостижимое... Он погиб от собственной дерзости и бесстрашия», – замечал другой выдаюшийся русский философ Г. Федотов.
(Аннотация издательства)
* * *
Дневник Поплавского – книга очень значительная, очень замечательная. Документ современной души, русской молодой души в эмиграции. Поплавский был настоящий страдалец, который чувствовал между собой и Богом тьму...
Николай Бердяев
* * *
По-видимому, «современность» Поплавского, его характерность для наших лет отчасти в том и сказывалась, что он стремился к разрушению форм и полной грудью дышал лишь тогда, когда грань между искусством и личным документом, между литературой и дневником начинала стираться.
Георгий Адамович
Страничка создана 3 апреля 2008.
Последнее обновление 7 июня 2021.
|