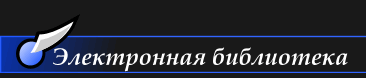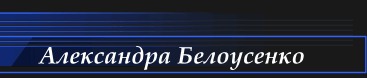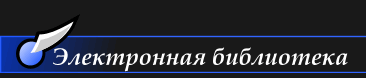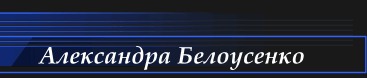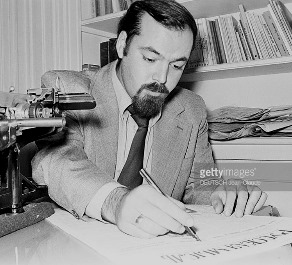Ну, а солдат, рядовой, «колышек»? Каково ему сейчас, где-нибудь на китайской границе? Там у бывших братьев своя правда. Иди разберись, чья правдивее... Владимир Рыбаков был на этой границе. И написал книгу. Называется она «Тяжесть». Издана по-французски и по-русски, и очень хотелось бы, чтоб прочитали её в Союзе. Умная, невесёлая книга.
Дима Рыбаков (смесь французского, русского и польского) родился во Франции. Родителей его, как и многих других, после войны потянуло в Советский Союз восстанавливать разрушенное. В восторг не пришли и вернулись назад, во Францию. А Диму забрили в армию. Два года прослужил сержантом на Дальнем Востоке. Сейчас в Париже. И написал «Тяжесть».
Тяжело...
Солдату нигде и никогда не бывает легко. Ни суворовскому, ни жуковскому. И в мирное время (понятие относительное – озеро Хасан, остров Даманский...) тоже – такова уж жизнь солдатская, но...
Командующий Вторым фортом Порт-Артура в последние, самые тяжёлые дни обороны доносил своему начальству: «С питанием плохо, солдаты получают мясо только два раза в неделю, и то конину». Защитники советских границ на Дальнем Востоке видят его тоже два раза. Только не в неделю, а в год – седьмого ноября и первого января («Тяжесть»). Непостижимо? Может, мясо стало вредным, солдаты жиреют от него? Или перевозить неоткуда? Товарищ маршал Устинов, вмешайтесь! Солдат жрать хочет. Подскажите там Брежневу или Громыко – пусть отдадут два этих чертовых курильских островка Японии и покупайте для солдат прекрасное новозеландское мясо у самураев...
Солдат голоден – это раз. Солдат не понимает – это два...
И понять нельзя. Два самых сильных коммунистических государства уставили друг на друга орудия. И иногда эти орудия стреляют. И парень с французским паспортом – Дима Рыбаков – тоже стрелял. В китайцев... Нет, не в ревизионистов и предателей, а в тех, что прошлой ночью напали на заставу в Ново-Михайловске и всех ребят перерезали... И... Огонь! По косоглазым – огонь!
Непонятно? Не укладывается в голове? А политрук на что – душа и сердце подразделения? Прочухается, опохмелится и всё объяснит. Гады и неблагодарные сволочи! Бей их, косоглазых! Ясно? Ясно! Есть вопросы? Нет... Румянцев, почему пуговица расстегнута? Два наряда вне очереди...
И идёт Румянцев в наряд, ненавидя политрука, китайцев и ту сволочь, что спёрла у него сегодня сахар.
Вот так вот и стоит на границе голодная, мечтающая только о дембеле, самая лучшая в мире армия, а по ту сторону Уссури под тем же красным знаменем другая – непонятная и страшная...
И никто ничего не понимает...
(Виктор Некрасов. Из повести "По обе стороны стены")
Произведения:
Сергей Юрьенен. Очерк "Быть советским" (к книге Вл. Рыбакова "Тяжесть") – июль 2004

Роман "Тяжесть" (1977) (doc-rar 118 kb; pdf 4,8 mb) – июль 2004, декабрь 2020
(OCR: Александр Белоусенко и Андрей Никитин-Перенский)
Фрагменты из романа "Тяжесть":
Столовая: длинный зал с помойным запахом, большие дубовые столы на десять человек, то есть на отделение или расчёт орудия. Садились справа налево по старшинству: сержант, старики, фазаны, салаги. Каждый с завистью следил за руками сержанта или старика, делившего пищу. Какой бы кусок хлеба ни дали, всё равно находился больший в руках соседа, каши же давали «на – не хочу». К концу обеда животы вздувались, как у дистрофиков, чтобы через час голод от бескалорийной пищи вновь появлялся в туго набитых кишках. Норма на масло увеличилась: до 1968 года давали десять грамм, теперь – двадцать. Можно было спросить с некоторой надеждой у повара или у кухонного наряда и добавки компота. Если крали кашу или суп, не обижались, матюгались и шли за новым бачком, но исчезновение сахара или масла вызывало дикий скандал и оправданную в глазах всех беспощадность. Но крали редко, каждый знал, что стоит украсть раз, чтобы это вошло в привычку. «Не укради казённую пищу» было неписаным законом. Два года назад, ещё будучи курсантом учебной в/ч 45536 в селе Сергеевка, раз утром я заметил: мои кровные курсантские 3 рубля 80 копеек, выданные мне накануне – улетучились. Дочиста ограбленной оказалась вся рота. Мне было в общем наплевать на три рубля, мне ежемесячно приходили из дому переводы – хватало, но для многих это была единственная надежда выпить, если удастся вырваться из части хотя бы на несколько часов в самоволку. Ненависть к неизвестному вору была молчаливой. Все ждали, никто не говорил о происшествии месяц, пока не подошла следующая получка. Ночью пальцы прижали мой рот, чья-то рука толкнула в плечо. Приподнявшись, я убедился, что сержанты плотно спят. Встав, подошёл к молчаливой кучке, суетившейся возле одной из постелей. Поперёк неё лежал без сознания человек: Гракпарадзе, грузин из третьего отделения. Его выследили и
скрутили на горячем. В вещмешке нашли деньги. Один из курсантов предложил Гракпарадзе задушить, другой притащил откуда-то штык. Все были спокойны. Я предложил выкинуть его в окно. Он и не пикнул. Правда, ему повезло – отделался пятью месяцами госпиталя. Потом дали инвалидность второй группы и полупарализованного отправили домой. Но это уже никого не интересовало, его забыли на второй день. А начальству было выгодно считать происшедшее несчастным случаем: в самом деле, хорошо бы выглядела часть, воспитывающая и готовящая младший командный состав, имевшая одновременно на шее воровство и покушение на жизнь одного из курсантов, да ещё групповое.
Да, «не укради» был единственный пункт из «кодекса строителя коммунизма», который выполнялся, хотя начальству были неприятны неписаные законы и, в частности, этот. Когда офицер отдавал приказ, например, скосить траву за штабом, а салага наивно отвечал, что у него нет косы, то ответ был
недвусмыслен: найди, укради и сделай. Но если поймают – губа. Красть можно и нужно, только попадаться нельзя. Мне подобное казалось настолько естественным, что удивление некоторых просто коробило.
* * *
Замполит по кличке «Микадо», мирно погладив ёжик на круглой голове, громко и сочно артикулируя, начал говорить:
– Товарищи, общеротное собрание объявляю открытым. Я хочу рассказать вам один случай: когда, разгромив гитлеровскую военную махину и освободив Европу, победоносные советские войска вступили в войну против милитаристской Японии и вели бои на захваченной территории, то, товарищи, развернулись жестокие бои. Приходилось брать с боем каждую сопку, окружённую дотами-ансамблями, дзотами, артиллерийскими дотами. Я помню, брали три высоты: 15, 16, 17. Враг окопался и стоял насмерть, смертники бросались под гусеницы наших танков. Командование решило провести артподготовку одновременно с усиленной бомбёжкой вражеских позиций, затем в атаку должна была идти прославившаяся в боях с фашистскими захватчиками пехотная дивизия. Аппаратная связи, передавшая приказ, то ли невнимательно выслушала, то ли просто перепутала, но когда пехота устремилась в атаку, на неё обрушился двойной шквал огня артиллерии и авиации. Своей артиллерии! Своей авиации! Почти вся дивизия была уничтожена. Тысячи советских солдат погибли под советскими снарядами и бомбами. Час спустя весь состав аппаратной связи был расстрелян... И эти связисты были не старше вас... Теперь взгляните на курсанта Бронштейна, он уснул при выполнении боевого задания вместо того, чтобы охранять ваш покой, он оставил своих товарищей на произвол судьбы. Ничего не произошло, но могло произойти. Рядом граница, ревизионистский Китай, свернув с марксистско-ленинского пути, угрожает напасть на нас и забрать Сибирь, Дальний Восток, Казахстан!!! Мы должны быть начеку каждую минуту, каждую секунду, каждый миг! В таких обстоятельствах простое разгильдяйство – преступление! Враг мог бы свободно проникнуть на территорию части и перерезать всю роту. Я предлагаю предать курсанта Самуила Давидовича Бронштейна суду военного трибунала. Но мы решили, что вы сами должны решить судьбу своего бывшего товарища. Слово имеет комсорг роты Шлемин.
* * *
Станция была безымянной, длинные бараки складов окаймляли пути, занятые двумя внушительными составами. Вдоль вагонов сновали китайцы, на первый взгляд одинаковые, в одного цвета фланелевых куртках и штанах, без погон. На лицо каждого словно была надета старинная улыбающаяся маска, морщинки вокруг узких глаз были безжизненны постоянством. Глубокая неприязнь овладела мной. Я смотрел на эти юркие фигурки и представлял себе, как одна из них несколько месяцев назад подползала к Самуилу Бронштейну (хорошему парню, с которым я любил поболтать в учебке), стоявшему на посту, и всаживала в его беспечную спину штык. Сколько ребят уже протянули ноги вот так, глупо. И каждым из них мог быть – я. Всегда в спину. И штык был советским. И следы от сапог
на месте вели к границе, потом терялись. Следы тоже были от наших кирзовых сапог. Изредка хлопали выстрелы, но ни один китайский труп не был найден. Это бесило. Говорят, что недавно под Хоролем они зарезали, черти, девятерых наших и разбросали по складам мины. Там были орудийные склады, мины, снаряды для «птурсов», глубоко под землёй лежало около двух тонн динамита, нитроглицерина (кто его знает, как обзывается вся эта дрянь). Когда начался фейерверк, всю караульную роту вместо того, чтобы вывести за пределы огня, бросили тушить взрывающиеся мины. Каким-то чудом динамит не рассердился от детонации. Погибло то ли 50, то ли 150 человек. Там были многие, кого я знал. Уцелевшие и позвонили. Коля, наивная душа, возмущался тогда, что никто ничего не знает.
Теперь вот улыбаются, а мы должны их не резать, а разгружать ихнюю тушёнку!
* * *
Покуривая взятый у одного мужика самосад, я стоял над икающим ручейком и глядел на мазки ночи. Мысль о том, что сюда могут прийти китайцы, показалась противоестественной. Я не задумывался над оправданностью этой противоестественности. Пожалуй, я здесь был единственным человеком, который знал, что по Айгунскому договору, заключённому графом Муравьёвым-Амурским в 1858 году, Китай был вынужден уступить России Амурскую область, что по договору 1860 года, заключённому в Пекине графом Игнатьевым, к России отошёл отторгнутый от Китая Уссурийский край. Но это знание не мешало мне хотеть убить каждого
китайца, стремящегося отвоевать-завоевать эти земли, русскость которых для меня была несомненной – она говорила, дышала, шептала, жила во мне. И мне было безразлично, почему я, Мальцев, мечтающий до холодного исступления уехать во Францию, так думал и чувствовал в ту ночь над мерно икающей водой.
* * *
Как-то на делянке появился старичок-охотник. Облезлый его пёс, скользивший рядом, доставал спиной пояса хозяина. У обоих были добродушные физиономии. Пока пёс дремал, старичок болтал:
– Ребятки, ребятки, гляжу на вас и жалость пробирает. Мы в ваши годы о работушке и не помышляли, ухарством промышляли, гуляли, всякое время года праздниками встречали. Только к тридцати годочкам бабу брали и на хозяйство становились, да и то батя избу справлял, остальное народ к свадьбе подносил: кто кровать, кто силки. Жили весело, потому в урочное время и свет покидали Божий без стыда, и злобы не оставляли на земле. Тогда тайга тайгой была, рубль – рублём. А зверя сколько было, промышляй – не хочу. Теперь на всю-то тайгу сорок три тигру осталось, да и то – человека увидют, так в беспамятство падают. А полян сколько понаделали, лес губят, будто он как грибы растёт. От вони тракторов-то все живое поразбегалось. Да у вас, ребятки,
морды поопухали. Знать, не своими стали у комарином царстве. Обучу я вас: отыщите муравейник, помахайте низко-низко над жителями белым платочком. Муравей-то увидит тряпку и непременно нассыт на неё. Как станет тряпочка чуть мокренькой, так и морду протрите ею, ни единый комарище не только не укусит, но и не сядет. Вот так. Да, тигру бояться теперь нечего, а ведь лакомка был, наперво любил он собаку, самый что ни есть лакомый кус для него был, потом люди шли, но жёлтые, китайцы всякие, а русских не любил, брезговал. Такой тигра был. Прощевайте, ребятки, ни пуха вам. Эй, Крутой, раздрыхся небось, вставай, до пенсии еще далеко.
Как только старик исчез, все муравейники, прилегающие к делянке, были подвергнуты террору. С этого дня злорадно и торжествующе подставлялись лица жадно шумевшим комарихам.
* * *
Вернувшись в казарму, повалился на койку. Казалось, едва ринулся в сон, как завопила сирена тревоги, подхваченная голосами дневальных и дежурных по ротам. Подняли и с пустыми автоматами погнали к танковой части, нашим соседям. В ночи, дравшейся с рассветом, были видны языки пламени. Оцепление поднятых по тревоге частей охватило километров десять от танкового городка к границе. Никого не нашли. Когда полукольцо от границы подошло к городку, над головами было ветреное утро. Возле сгоревших складов толпа ребят окружала четверых, лежащих на своих караульных тулупах с застывшими на мёртвых лицах гримасами боли, страха и отчаяния. Танки вокруг рычали, возле них в растерянности стояли экипажи: идти было некуда. Офицеры дали им наглядеться на убитых – наглядное пособие зверства врага. Я смотрел, и у меня от яростного страха руки до боли сжимали автомат. Одним из них мог быть я! Завтра идти в караул. А китайцы ошиблись: вместо складов с боеприпасами подожгли обмундирование, лыжи, палатки. Совсем зря зарезали ребят.
Весь день бурлила Покровка, ребята ходили проповедниками мести, войны. К утру нашли зарезанным одного корейца-колхозника, с незапамятных времён жившего в Покровке. Его жена, русская, была убита прикладом. Дочь изнасиловали, потом засунули во влагалище четвертинку водки и разбили её там. Расследование ничего не дало.
* * *
Когда сопки начали отбрасывать тупые тени, раздался отвратительный вой снарядов. Кто догадался, рухнул на землю, не чувствуя ничего, кроме страха, некоторые стоя недоуменно задирали головы. Земля вздрагивала, будто чесалась. Минут через двадцать я почувствовал, что начинаю привыкать к сосущему ощущению в желудке, к слабости тела, льнущего к земле. Китайцы били с недолётом. Только два или три снаряда ударили в ближайшие сопки, заставив моё сердце подняться к горлу и застрять в нём, потом медленно пробираться, щекоча встречные нервы, назад. С полковничьей машины пришёл приказ не открывать огня. Как только обстрел прекратился, я, подняв голову, увидел возившегося у затвора Мусамбегова. Он пытался вогнать в ствол снаряд. Я заорал Нефёдову, показывая рукой на Мусамбегова:
– Задержи его! Не было приказа! Задержи!
Нефёдов поспел, снаряд был тяжёл. Нефедов схватил Мусамбегова в охапку и сразу же отпустил.
От парня разило калом. Оказалось, комочек земли ударил слегка Мусамбегова в спину, но ему показалось, что это осколок. Когда убедился, что не ранен, он воспылал яростью и решил отомстить за свой страх.
* * *
В пятьдесят шестом году он был в Будапеште. Ему тогда стукнуло девятнадцать лет. Невнятное чувство злобы появилось уже, когда эшелоны шли к Венгрии. Он слышал жителей, швыряющих оскорбления, прославляющих освобождающую их и их страну Венгерскую революцию. Они ненавидели и его, не желающего никому ничего плохого, его, сидящего в эшелоне и приближающегося к Будапешту, потому что так приказала страна, партия. Его сделала лейтенантом страна и партия, они дали ему закончить школу, направили в военное училище. Если эти люди против него, значит, против его страны, против партии. Значит они – его враги, которым он не хочет ничего плохого. В первый же день прибытия полк бросили в уличный бой. Его орудие тут же разбили гранатой из окна. Русских, когда брали в плен, иногда расстреливали на месте, иногда, забрав оружие, отпускали; чаще всего собирали и отводили в тыл, хотя никто не знал, где он может быть, этот тыл. К концу дня молодой лейтенант взбесился. Одного парня из его отделения убили женщины, швырнув из окна на его голову зеркальный шкаф, другого зарезал молоденький парнишка в уборной одного из домов. Кровавые видения затуманили глаза лейтенанта. Вид своего солдата в уборной, его спущенные галифе, голые белые ноги, умоляющее выражение мёртвого лица и большой кухонный нож, торчащий в его животе – всё заставило его, как выразился капитан в своём рассказе, встать по ту сторону добра и зла. Он приказал жестами пойманному венгерскому парнишке открыть рот и выстрелил туда. Лейтенанта подобрали тяжелораненным на второй день. Оказалось (сам он не помнил), что он очень много стрелял – и всё время в рот. Вероятно, он перестарался, так как попал в список, исключающий повышение. Только долгие годы службы давали медленно капающие на его погоны звёздочки.
Роман "Тавро" (1980) (html 848 kb; pdf 5,7 mb) – октябрь 2006, январь 2021
(OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США);
обработка: Давид Титиевский (Хайфа, Израиль))

Фрагменты из романа "Тавро":
"Одна бабка из соседнего двора любила рассказывать, как избежал сержант Серёга через год после окончания войны кары за то, что стал калекой. Тогда, говорила бабка, всюду ездили люди от советской власти и хватали бездомных инвалидов, портящих своим видом государству настроение. Голод был, страна отстраивалась, и эти горемыки были как-то ни к чему. Всех забрали, и никто назад не вернулся. А Серёга – спасся. Он, как увидел тех людей в „газиках", шмыгнул за штабель дров, протез свой небрежно выставил, сушившийся на веревочке пиджачок на плечи накинул, стал как хозяин поленья перебирать. Те не заметили, уехали... Так и остался Серёженька единственным одиноким калекой района".
* * *
"Вот Коробов, хороший в общем человек. Мальцев знавал этого директора совхоза. Его совхоз – треть Франции. Сам Коробов из крестьянской семьи, голодал в детстве, затем кормился с отцовского приусадебного участка. Ну как забыть: кончалась не обозримая глазом государственная земля – пшеница на ней едва-едва закрывала колено; начинался участок отца – там в пшенице мог, не сгибаясь, спрятаться взрослый человек. Став чиновником, Коробов стал совершенно искренне расхваливать преимущества коллективной собственности. И искренне ругал крестьян за лень, и искренне не видел того, что видел раньше, – богатых результатов труда человека, работающего на себя. Коробов в конце сороковых годов с чистой совестью расстреливал за экономический саботаж, чтобы в конце пятидесятых с той же непомраченной совестью жалеть о перегибах времён „культа личности". Мальцев хорошо его помнил, хорошего человека, совсем, по сути, незлобивого".
Сборник "Афганцы" (1988, 140 стр.) (pdf 2,8 mb) – сентябрь 2023
– копия из библиотеки "ImWerden"
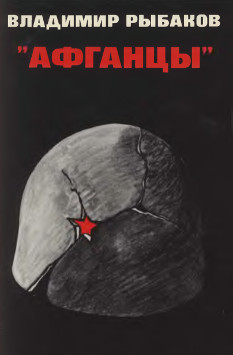
Повесть "Десантная группа" и рассказ "Возвращение", принадлежащие перу известного политического и общественного деятеля, писателя и публициста русской эмиграции Владимира Мечиславовича Рыбакова, является одним из самых ярких и удачных произведений о войне в Афганистане не только в литературе русского зарубежья, но и вообще в русской литературе. Их успех определён не только талантом автора, но и глубоким проникновением в проблемы, связанные с этой несчастной войной. Проблемы эти Рыбаков изучил не по публикациям в прессе, а на собственном опыте. Во время Афганской войны он находился в Пакистане, занимаясь спасением наших пленных и едва не погиб из-за действий против него КГБ. Его статьи об этой войне, публиковавшиеся в 80-е годы в журнале "Посев", взывали в своё время сенсацию за рубежом и в нашей стране. Сборник "Афганцы" был переведён на английский язык и один из западных литературных обозревателей в своей рецензии написал о том, что "Афганцы" стоят в одном ряду с такими произведениями как "На западном фронте без перемен" Э.-М. Ремарка и "Нагие и мёртвые" Н. Мейлера и относятся к лучшим образцам военной прозы.
Повесть и рассказ Рыбакова повествуют не только об ужасах, жестокостях и бессмысленности войны, военных преступлениях, коррупции и стукачестве в Советской Армии, но и о мужестве, "подпольном" боевом братстве наших солдат и офицеров в Афганистане. Несмотря на трагизм описываемых событий произведения Рыбакова не оставляют мрачного настроения, потому что читатель убеждается, что даже там в аду Афганской бойни начиналось зарождение новой свободной России.
(Аннотация издательства)
Содержание:
Десантная группа. Повесть ... 5
Возвращение. Рассказ ... 124
Фрагмент из повести "Десантная группа":
"– Выпить хочешь? Всё ведь тебе одно.
– Нет. Нет охоты. Даже бабы не хочется, а ведь меня уверяли, что смертельно раненные только о том и думают. Мне даже прошлое не вспоминается. Ну? Говори,
а то время уходит.
Сторонков заговорил чуть тянущимся спокойным голосом:
– Нет, не за Россию ты помираешь, лейтенант, не за империю, не за выход к тёплым морям, как говорят на Западе. Ты умираешь из-за трусости и глупости нашего руководства, за ничего больше. Мы здесь давим афганцев по той же причине, по которой раньше давили венгров, чехов и других. Эти суки в Москве уже давно
выработали концепцию: страна, граничащая с СССР и вступившая на путь социализма, – с этого пути сойти не должна. Понял, лейтенант? Они боятся, что стоит в одной стране разделаться с коммунизмом – как начнётся цепная реакция. А тупость тут в том, что мы с этой концепцией в один прекрасный день заработаем весь мир на голову – и будет нам хана, не только коммунистам, но и России. Вот за что ты умираешь. Ты сам понимаешь, что я не могу говорить ребятам правду, потому что такая правда – смерть, от которой спастись нельзя. Афганцы могут и промазать, трибунал – никогда. Да и как с такой правдой воевать, чтобы остаться в живых? Воевать за Россию здесь можно, хотя и противно, но как воевать здесь против России? Не выдержали бы ребята, они и так полоумными тут становятся..."
Роман "Тень топора" (1991, 202 стр.) (pdf 5,7 mb) – сентябрь 2023
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
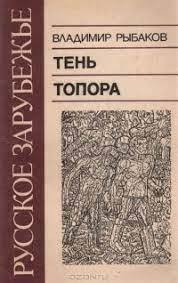
Владимир Мечиславович Рыбаков (Щетинский) родился в 1947 г. во Франции в семье врачей и художников. Будучи коммунистами, Щетинские в 1956 г. переехали в Советский Союз. С 15 лет Владимир начал трудовую деятельность и в этом же возрасте написал свои первые рассказы. В 1966 г. он был исключен из Черновицкого университета "за плохое поведение и критические высказывания", после чего был призван в армию. Демобилизовавшись, Владимир Мечиславович, продолжал писать, не надеясь на публикации своих произведений. В 1972 г. Рыбаков вынужден был эмигрировать и ему удалось возвратиться во Францию, где он работал в редакции "Русская мысль", на страницах которой регулярно печатались его литературные и политические статьи. Кроме того, его произведения публиковались в журналах "Континент", "Время и мы", "Эхо". В 1984 г. Владимир Мечиславович переехал во Франкфурт-на-Майне.
Романы В. Рыбакова "Тяжесть" (1974) и "Тавро" (1981), а также сборник художественных очерков "Тиски" (1985) создали ему репутацию профессионального писателя. В романе "Тяжесть" и сборнике "Тиски", состоящем из 60 рассказов, автор нарисовал правдивую картину будней советских солдат, показал подавление человеческой личности и призывает к уважению достоинства человека. В этих книгах отражены опыт армейских лет самого писателя и впечатления его от поездок в Афганистан. В романе "Тавро" описана жизнь русского эмигранта во Франции. В. Рыбаков показывает, что за материальными проблемами и проблемами человеческих отношений стоит важнейшая проблема: как советский эмигрант, выросший в условиях тоталитаризма, пытается избавиться от этого "тавра", мешающего ему ощутить себя по-настоящему свободным.
Предлагаемый вниманию читателя роман "Тень топора" – первая публикация В. Рыбакова в нашей стране. В детективном жанре на примере изолированной группы рабочих сибирской буровой вышки автор показывает, как рождаются особое отношение к власти и потребность в самостоятельном решении вопросов права, жизни и смерти.
(Аннотация издательства)
Оглавление:
Глава I. Отпуск бурового мастера ... 3
Глава II. Трудное задание ... 34
Глава III. Искупление греха ... 53
Глава IV. Забастовка Вропского ... 77
Глава V. Охота ... 100
Глава VI. На Кусте ... 153
Страничка создана 6 июля 2004.
Последнее обновление 17 сентября 2023.