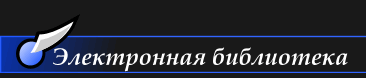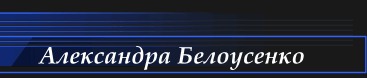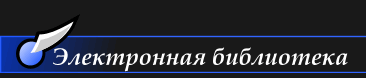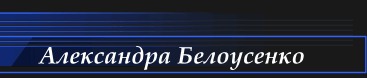|
|

Владимир Емельянович МАКСИМОВ
(собств. Лев Алексеевич Самсонов)
(1930-1995)
МАКСИМОВ Владимир Емельянович; наст. фам., имя и отчество Самсонов Лев Алексеевич (27.11.1930, Москва – 25.3.1995, Париж) – прозаик, драматург, публицист.
В автобиогр. дилогии «Прощание из ниоткуда» (1974-82) М. достаточно последовательно воссозданы главные моменты его жизненной одиссеи со всеми неожиданными поворотами. Отец, простой рабочий, был репрессирован во время очередной «охоты на троцкистов», и подросток, оставив дом в Сокольниках, сменив имя и фамилию, становится беспризорником; до самого совершеннолетия обретается в детдомах, колониях для малолетних преступников, совершает побеги, оказывается то в сибирской тайге, то в Средней Азии или Закавказье – все это так или иначе отзовется в его книгах.
После освобождения из мест заключения и определения на поселение в кубанской станице (1951) М. в качестве «молодого колхозного поэта» выступает в газетах Краснодара со стихами, которые позже, в 1956, выпустит отд. книжкой на Ставрополье, в Черкесске. Этот сб. «Поколение на часах» – мало чем отличался от расхожей «газетной поэзии», полной трескучей риторики. Однако в Москве, куда он вернулся в конце 50-х гг., именно эта книжка сыграла решающую роль для приема в СП СССР (1963). Ощутимая литературность первых прозаических опытов М., рисующих драматизм таежных скитаний, поиск «отверженными» своего места в обществе, как потом заметил сам автор, компенсировалась достоверностью описываемого и пережитого. Эти повести привлекли внимание таких полярно несхожих литераторов, как К. Паустовский и В. Кочетов. Первый взял пов. «Мы обживаем землю» (1961) в свой полулегальный альм. «Тарусские страницы», другой, полагая, что молодой талант, вышедший из трудовой среды, можно будет постепенно воспитать в партийном духе, напечатал пов. «Жив человек» (1962) в руководимом им ж. «Октябрь», а позже ввел М. и в редколлегию журнала (1967-68). Однако М. не оправдал надежд партийных наставников. В его новых пов.– «Шаги к горизонту» (1963; др. назв. «Баллада о Савве»), «Дорога» (1966), «Стань за черту» (1967) – антисов. мотивы проступали все зримей, герои все чаще обращались к Богу – единственному спасению от жестокости и бездуховности окружающего мира.
Окончательно как христианский писатель он сформировался в работе над ром. «Семь дней творения» (1971) – наиб, значительном своем произв. Используя форму семейного романа, имеющую глубокую традицию в рус. прозе, М. стремится проследить от единого корня далеко расходящиеся ветви некогда крестьянского рода Лашковых, ставших железнодорожниками, строителями в казахской степи, моск. дворниками в Сокольниках, провинциальными актерами, лесничими. Каждому из «дней творения» соответствует своя жизненная повесть, которые и складываются в роман, позволяющий увидеть не только всё разнообразие типов и характеров простонародья, но и общую беду всех принужденных строить социализм в отдельно взятой стране. «Строительство» это со своими чудовищными катаклизмами оставило глубокие зарубки на людских судьбах, обернулось самоистребительным энтузиазмом первых сов. десятилетий, полит. репрессиями, войной и послевоен. разрухой. Всего же драматичней державная история отозвалась на патриархе рода Лашковых, Петре Васильевиче, положившем жизнь на коммунистический алтарь и только в старости понявшем, как бедственно обманулся, служа делу неправому, направленному против народа. Но для человека и на исходе его дней существует возможность начать все заново, попытаться завершить свою судьбу по-божески, «тем, с чего ее начинать следовало...». Этот момент прозрения, искреннего покаяния за неправедно прожитое в книгах М. с годами вырастет в нечто вроде idee fixe его героев, оказывая заметное воздействие на выбор сюжетов, манеру повествования – жестко-исступленную, открыто морализаторскую; манеру, которая дает повод критикам (Г. Адамович, З. Маурина и др.) рассматривать максимовскую прозу в русле поэтики Ф. Достоевского. Хотя в той же мере здесь можно говорить и о влиянии М. Горького, если иметь в виду пристрастие М. к босяцкой романтике, людям «дна» с их классовой ненавистью к любым благополучным хозяевам жизни, его обычай вкладывать в уста героев прямые монологи, метафоричность авт. речи – черты, особо проявившиеся в эпопее о братьях Лашковых, мучительно «творящих себя» в забывшей Бога стране.
Понятно, что эпопея эта, содержащая «самое радикальное отрицание революции, какое только можно встретить на русском языке после смерти Сталина», как характеризовали «Семь дней творения» на Западе (Казак В. Энциклопедический словарь рус. лит-ры с 1917 г. Лондон, 1988. С. 463), только там и могла быть опубликована. Да еще в подпольном, преследуемом властями самиздате. Эта публ. стоила автору принудительного заточения в психиатрическую больницу, исключения из СП (1973), который М. в своем открытом письме назвал «вотчиной мелких политических мародеров, литературных торгашей». Через год под давлением обстановки, созданной вокруг него властями, писатель-«диссидент» вынужден был эмигрировать из страны, как предполагалось, до конца своих дней. Для сов. прессы имя его стало синонимом «оголтелой антисоветчины». В Париже происходит еще одно превращение с бывшим правонарушителем, «колхозным поэтом», сотрудником кочетовского «Октября» и пациентом психбольниц, изгоем, выдворенным в чужую страну «без языка» и средств к существованию. Вскоре имя М. приобретает мировую известность как основателя ж. «Континент» – трибуны вольного рус. слова в изгнании. Вокруг журнала собираются лучшие силы эмиграции «третьей волны» – от А. Солженицына до А. Галича, в его редколлегию входят В. Некрасов, М. Джилас, И. Бродский, Э. Ионеско, Э. Неизвестный, А. Сахаров, который отозвался о журнале как о «жизненно важном для всех нас» (Сахаров А. Воспоминания. М., 1990), а о его главном редакторе как о «человеке бескомпромиссной внутренней честности». За годы своего редакторства М. опубл. немало значительных худож. произв , для которых были закрыты изд-ва на родине. «Континент» по-своему активно участвовал в борьбе за права человека, способствовал падению коммунистическо-тоталитарного режима в России. Выпустив 70 номеров журнала (1972-92), М. в один из своих, в 90-е гг. частых, приездов в Россию (что можно тоже понять как продолжение парадоксов писательской судьбы) передал «Континент» моск. литераторам, продлившим жизнь этого уникального изд. уже в новых условиях. Помимо упоминавшейся дилогии «Прощание из ниоткуда», которую американская исследовательница Ф. Эберштадт определила как «непревзойденный шедевр Максимова, написанный в сильных, элеических тонах» (Из стола – на Запад//Комментарии. Нью-Йорк, 1985), в Париже было выпущено неск. романов, повесть о моральном крахе некоего ортодоксального сов. генерала «Как в саду при долине» (1993), а также свыше десятка пьес, поев. гл. обр. рус. эмиграции («Кто боится Рэя Бредбери», «Берлин на исходе ночи», «Там вдали за рекой» и др.). Многочисленные публиц. выступления М. по вопросам политики, религии, лит. жизни отличались остротой и «персонализацией», отчего нередко вызывали шумную полемику в печати (как было, напр., со статьями в адрес А. Синявского или памфлетом «Сага о носорогах», посв. несовершенству западной демократии). Не менее запальчивый характер носили выступления М. и в российской прессе позднего времени. Христианин, демократ по убеждению, он и после кардинальных перемен в стране по-прежнему оставался как бы «диссидентом» по отношению к новому строю, с аввакумовской неуступчивостью критикуя методы демократического преобразования, непоследовательность иных деятелей – для чего свободно пользовался и страницами газет отнюдь не демократического толка. Все это вызывало в писательской среде далеко не однозначное отношение к М., при всем том, что продолжали высоко цениться его общественные деяния как в прошлом, так и в настоящем (организация Римской встречи в 1990 с мыслью примирить противоборствующие лит. группировки России и др.).
Проза М. после «Семи дней творения» подтверждает его мысль о «единой книге писателя» – в новых произв. можно встретить уже звучавшие мотивы, даже конкретные повторы ситуаций, – автор словно хочет досказать свое, добраться до сокровенной сути происходившего с его героями и им самим. Тема поиска дороги к Храму главенствует в ром. «Карантин» (1973), где две заблудшие души, он и она, оказываются в поезде, заблокированном среди степи эпидемией холеры и представляющем собой как бы слепок неблагополучия всего совр. общества. Любовники, познав все пределы нравств. падения, тем не менее находят в себе силы для духовного возрождения, ибо «мера боли, которая им досталась, выше их грехов» – для Спасителя самый несчастный порой оказывается и самым близким. О любви адмирала Колчака и боготворящей его Анны Тимиревой рассказывает ист. ром. «Заглянуть в бездну» (1986). Повествование часто осложняется демонстрацией редких документов, сценами, рисующими Ленина – главного идейного антипода Колчака, прослеживающими дальнейшую участь большевистских убийц белого адмирала; героев занимает проблема вины рус. интеллигенции за кровавые события на Руси, предчувствие катастрофы всей христианской цивилизации. Тонкий стержень романтического сюжета с трудом выдерживает такую громоздкую конструкцию, дает себя знать разнородность повествовательных пластов.
Много успешней подобный искус многоплановости был преодолен в ром. «Ковчег для незваных» (1976), тоже построенном на материале отчасти уже историческом (сов. освоение Курильских островов после Великой Отеч. войны) и так же обильно оснащенном энциклопедическими справками побочными сюжетами, вроде истории белых генералов А. Г. Шкуро и П.Н. Краснова, попавших в бериевскую ловушку. Но худож. концепция здесь сильней, она органично подчиняет себе все др. привходящие детали. В т. ч. и выразительно написанные сцены, изображающие Сталина, хитросплетения его мысли, несущей смертельную угрозу мн. людям, как приближенным, так и бесконечно далеким от Кремля. Неким метафизическим воплощением такой угрозы (а возможно, и шире – предчувствия апокалипсиса, которое не перестает мучить писателя) воспринимается в финале произв. разгул океанской стихии, обрушившегося на Курильские острова цунами, в его волнах исчезает один из главных героев повествования, «хозяин» островов, партийный функционер Золотарев; др. же герой, простой российский переселенец Федор Самохин, вместо земли обетованной, которую жаждет найти, оказывается безжалостно выброшенным стихией на чужой японский берег...

Сложен по композиции и последний ром. М. «Кочевание до смерти» (1994). Перемежаясь, параллельно развиваются сразу 3 сюжетные линии. Одна – о юности героя, Михаила Бармина, в которой много сходного с биографией самого автора – уголовный мир, беспризорщина. суровое испытание человека сумой и тюрьмой. Др. линия – уже самый исход судьбы Бармина, ставшего известным писателем, «невозвращенцем». Шаг за шагом он приближается к своему неотвратимому самоубийству, не в силах вынести удушающей обстановки эмиграции, которая принесла с собой из России все пороки и конфликты своего времени. Третий сюжет – это «роман в романе», который постепенно складывается под пером Бармина, в нек-ром роде собственный «Тихий Дон», где через историю казачьего мятежа раскрывается изначальная антинародность большевистской политики. Все эти сравнительно автономные сюжеты проникнуты единой, возможно, самой важной для романа темой – всемогущество чекистов, КГБ, безраздельно властвующих над людьми, какие бы перемены в стране ни происходили. Здесь снова возникает образ Сталина – в самом центре черной паутины, оплетающей целый мир. Так, в книгах М. постепенно складывается своя «сталиниана», все полнее прорисовывая эту едва ли не самую зловещую фигуру 20 в.
Роман «Кочевание до смерти» в 1995 был удостоен премии «Вехи» (РФ) – «за выдающийся вклад в понимание России, ее истории, ее души». Проза М. занимает особую нишу в совр. рус. лит-ре. На материале, представляющем самое «дно жизни», в ней получило развитие традиционное для этой лит-ры философско-христианское направление, которое выше всяческих достижений прогресса ставит нравств. прочность в человеке, способность по заветам Божьим вынести самые немыслимые жизненные испытания. Как сказано в «Прощании из ниоткуда», истинная жизнь – это когда «человек начинает судить себя по Закону, дарованному от рождения, закону Совести. Дай же ему, Господи, вынести этот суд!».
Соч.: Собр. соч.: В 6 т. Франкфурт-на-Майне, 1975-79; Собр. соч.: В 9 т. М., 1991-1993; Избранное. М., 1994; Самоистребление: Публицистика последних лет. М., 1995.
Лит.: Берзер А. Победил человек // Новый мир. 1963. №4; Гордеева Н., Дудинцев В. Грани добра и зла // Комсомольская правда. 1967. 1 июня; Аннинский Л. Оправдание одиночества // Новый мир. 1971. №4; Иверин В. Постижение // Вестник РХД. [Париж]. 1978. .V» 126; Ржевский Л. Триптих В. Е. Максимова // Грани. [Франкфурт-на-Майне]. 1978 №9; Краснов-Левитин А. Владимир Максимов // Краснов-Левитин А. Два писателя, Париж, 1983; Немзер А. «Из тяжести недоброй...» // Лит. газ. 1991. 17 апр.; Бондаренко В. Молитва о всех заблудших // День. 1992. №29; Литвинов В. Прозрение: К выходу собр. соч. Вл. Максимова // Книжное обозрение. 1994. №18; Он же. Во имя консолидации нац. сознания... // Там же. 1995. №23; Виноградов И. Между отчаянием и упованием // Континент. [М.]. 1995. №83.
В. М. Литвинов
(Из энциклопедии "Русские писатели XX века")
Произведения:
Роман "Ковчег для незваных" (1979) (doc-rar 286 kb; pdf 13 mb) – октябрь 2003, август 2020
Роман "Семь дней творения" (doc-rar 488 kb) – декабрь 2002
Роман "Баллада о Савве" (doc-rar 150 kb) – август 2002
Роман "Карантин" (txt-rar 172 kb) – прислал Виталий Адаменко – август 2003
Повесть "Жив человек" (doc-rar 78 kb) – август 2002
Повесть "Дорога" (doc-rar 63 kb) – август 2002
Повесть "Стань за черту" (doc-rar 93 kb) – август 2002
Рассказ "Мы обживаем землю" (doc-rar 44 kb) – август 2002
Эссе "Путь вверх" (Семён Липкин) (doc-rar 7 kb) – август 2002
Сборник эссе "Сага о носорогах" (1981) (html 870 kb; pdf 11 mb) – ноябрь 2006, август 2020
Фрагменты из книги "Сага о носорогах":

"Мертвые слова. Мертвые, ничего не говорящие и никем не проверенные цифры. Механическое и единодушное, словно на кладбище, голосование. Мертвое однообразие мертвого ритуала. Господи, казалось бы, нормальному человеку даже не нужно читать "Архипелага", чтобы понять всю тотальную ложь и смертельную фальшь того кровавого действа, которое называется коммунизмом! Но, как это ни странно, в современном мире есть люди (и в огромном числе!) глухие (глухие ли?) и слепые (слепые ли?), готовые не только верить в эту кладбищенскую фантасмагорию, не только исповедовать ее бесчеловечные догматы, не только служить ей верой и правдой, но также, что еще преступнее, взаимоотноситься с ней, как с равной, как с "высокой договаривающейся стороной", как с естественным партнером свободного мира."
* * *
"Передо мной тоненькая, непрезентабельная на вид книжечка. Это не „Иван Денисович", и, тем более, не „ГУЛаг", где речь идет о событиях отдаленных от Италии временем и расстоянием. В этой книжке, безо всяких комментариев опубликован список итальянцев (в основном коммунистов), перемолотых железными челюстями Лубянки.
Казалось бы, одного этого документа достаточно, чтобы отбить у слишком ретивых энтузиастов к социальным экспериментам одного класса над всеми другими и, прежде всего над самим собой, но не тут-то было: чуть не на каждой стене здесь красуются серп и молот или красная звезда.
Впрочем, что стоят доказательства во времена всеобщего помешательства!"
* * *
"Я убежден, что книга Евгении Гинзбург суждена долгая и благодарная судьба, ибо она дарит читателю гораздо более, чем простое читательское удовлетворение, она дарит ему согревающий сердце пламень и очищающий душу Свет.
Незадолго до смерти Евгения Гинзбург в первый и в последний раз в жизни побывала за рубежом – в Париже. В прощальном разговоре со мной она сказала:
– Знаете, Володя, я никогда не мечтала, что Бог подарит мне перед смертью такую радость. Сижу в гостинице и читаю, читаю, читаю. Господи, сколько же у нас было отнято! И жаль мне только одного, что не успею уже наверстать, слишком поздно. Ведь я знаю, что уже приговорена...
Свои короткие заметки о воспоминаниях Евгении Гинзбург мне и хотелось бы закончить на этой ноте: сколько у нее было отнято и все же сколько она нам оставила!"
Автобиографическая дилогия "Прощание из ниоткуда" (1982):

Книга первая "Памятное вино греха" (html 1,6 mb; pdf 11,1 mb) – август 2008, сентябрь 2022
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США) и Андрей Зиновьев (библиотека "ImWerden")
Книга вторая "Чаша ярости" (html 1,3 mb; pdf 8,8 mb) – сентябрь 2008, сентябрь 2022
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США) и Андрей Зиновьев (библиотека "ImWerden")
Фрагменты из книги "Прощание из ниоткуда":
"Затем наступал черед дуэта: тетя Люба – дядя Ваня. Начинал он. Начинал издалека, словно примериваясь и прикидывая, во что ему обойдется предстоящая баталия, но постепенно, с каждой новой выпитой рюмкой речь его крепла, наливалась металлом и матерщиной:
– Что ты за человек такой есть, Люба? Ходишь, прости Господи, как лахудра какая, в драной затрапезе, ни виду в тебе нету, ни завлекательности. Сходила бы в палихмахтерскую, перманент навела, маникур опять же, чтоб с тобой пройтитъся было не совестно, а то ведь смотреть тошно, туды твою растуды. Тебя, стерьву, только на огород заместо пугала, мать твою перемать. Навязалась, холява, на мою голову, нарожала мне паразитов, один как лягушка, другой и вовсе урод, слюни текут. Тьфу!
Та отзывалась сразу же, едва он умолкал, и пронзительный крик ее, прокатившись по квартире, выплескивался во двор:
– Нажрался, ирод проклятый! На мамзелей кобеля потянуло, перманен ему подавай. На себя посмотри, чёрт шелудивый! Рожа кирпича просит, один глаз за другим гоняется. Совесть бы поимел детей своих хаить, слава Богу, не в тебя пошли, кому хошь покажи, красавчики!.."
* * *

"– Вы – русские, странный народ. – Зеркальный носок ботинка описал изящную дугу. – Готовы до бесконечности спорить о вещах и вопросах, которые в цивилизованном мире давно решены и сняты, как у вас говорят, с повестки дня...
Чума на оба ваши дома! Откуда ты, человече в лаковых штиблетах, уже решивший все вопросы бытия и снявший с повестки дня самого Господа Бога? Как же Он в самом деле милостив, если ещё позволяет такому, как ты, хулить Его имя и при этом прощает тебя! Терпение у Него неиссякаемо, но хватит ли этого терпения у простых смертных? Хватит ли у них терпения смотреть и слушать, как безликие некто, движимые пресыщением и жаждой власти, лукаво соблазняют толпу новым дележом, в котором ей, в конце концов, так ничего и не достанется? Миллионы застреленных, сожжённых, забитых насмерть, изведённых голодом ради «счастья всего человечества» от Праги до Колымы, свидетельствуйте об этом! Или это самое «счастье человечества» стоит того? Стоит, чтобы во имя его можно было попирать все Божеские и человеческие законы, лгать, шельмовать, оплёвывать, заставлять людей пить на допросах собственную мочу? Да какие гунны, какая инквизиция могла бы додуматься до этого? Не было этого на земле нигде, никогда, ни в кои, даже в самые скорбные века!"
* * *
"– Нам эта земля, товарищ, недешево досталась. Помню, привезли нас сюда осенью сорок первого из Красноярска: лес, топь, мошка! Выбросили нам топоры, пилы и пять мешков немолотого зерна: живите, если можете. Но мы – немцы, народ основательный, возьмемся, так выживем. И – выжили! Выжили, товарищ! – Гекман легонько пристукнул тяжелым кулаком по столу и взыскующе уставился на гостя: горбоносый, с печальными по-овечьи глазами, он походил скорее на иудея, чем на немца. – Болели и мерли, как мухи, кора в пищу шла, землянки насквозь промерзали, но мой маленький народ уцелел. Одного не понимаю: война давно кончилась, а мы еще здесь. Почему? В определенных условиях, в критической ситуации массовая депортация потенциальных противников целесообразна и даже необходима. Я так и сказал тогда, перед выселкой, наверху. Но теперь, когда все позади, что, какие соображения заставляют головку держать нас здесь? Я, дорогой товарищ, с партией с первого дня революции, меня от партии только с мясом оторвешь, но чего-то я не понимаю в последнее время, чего-то не понимаю. Он молча разлил по стаканам остатки. – Допивай, парень, и ложись, мне еще на берег надо."
Роман "Заглянуть в бездну" (1986, 309 стр.) (html 1,2 mb; pdf 13,8 mb) – февраль 2009, август 2020
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США) и библиотека "ImWerden"
Фрагменты из романа:

"Главной не оставлявшей ее болью был сын. В начале лета семнадцатого она отправила его к матери в Кисловодск, где он и затерялся с тех пор и откуда о нем не поступало никаких известий. Ей оставалось только теряться в догадках, корить себя и обмирать от страхов. Дорого бы она дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней. От одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце.
(Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай на Карагандинском лагпункте расскажет ей, как ссученные урки забивали ее сына насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из-под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале и что вообще появился на свет по ее вине для подобной участи)."
* * *
"Но чаще всего она, сама того не замечая, вслух разговаривала с ним, с возникавшим перед ней из небытия Адмиралом:
– Ты хотел, чтобы я жила, – сейчас, в преддверии конца она позволяла себе говорить ему «ты», – и я осталась жить, но трудно назвать жизнью то, что выпало на мою долю! Знал бы ты, сквозь какие тернии и через какую темь протащила меня судьба, прежде чем выбросить на эту окраину, в мое последнее одиночество! В тот день, когда мне наконец сказали, что тебя больше нет, жизнь моя кончилась, я лишь продолжала существовать, плыть по течению без руля и ветрил туда, куда несло меня обезумевшее от крови время. Сидела, выходила замуж, снова сидела, скиталась по ссыльным углам, малевала задники в провинциальных театрах, а сегодня вот добираю век в коммунальном вертепе московского вавилона, но все это происходило не во мне и не со мной, а сквозь меня, не оставляя в моей душе никакого следа. Я оставалась с тобой в той оголтелой зиме двадцатого, когда в прогулочном дворе ты в последний раз взял мои руки в свои. Этим я и жила все остальные годы. Теперь ко мне ходит множество людей, старых и молодых, знаменитых и никому не известных, всех возрастов, полов и профессий. Гости сидят часами и спрашивают, спрашивают, спрашивают, но я-то знаю, чувствую, что приходят они не ко мне, а к тебе и вопросы их обращены тоже прежде всего к тебе. Им жаждется прозреть в твоей судьбе меру вещей и понятий той эпохи, которая для них ушла вместе с тобой. Однажды ты мне сказал, что миру, в каком мы родились, наверное придется умереть заодно с нами, но, как видишь, он не умер, он снова появляется на свет Божий, вопреки всему тому, что ему пришлось пережить. Те же чувства и те же ценности, которыми жили мы, прорастают сегодня в людях, и уже никакая сила не в состоянии этого остановить. В конце концов ты все-таки победил, мой Адмирал!"
* * *
"Выше было упомянуто, что отец адмирала, Василий Иванович Колчак, издал в 1904 году книгу «Война и плен». Так вот эти «война» и «плен» повторялись в его семье из поколения в поколение. Какой-то рок приводит старших сыновей его ветви быть вовлеченными в большие военные катастрофы. Как турецкий генерал, его пращур, был при разгроме турок под Ставучанами захвачен в плен в Хотине, Василий Иванович был ранен и взят в плен при штурме Малахова Кургана французами. Его сын, Александр Васильевич, контужен и взят в плен в Порт-Артуре японцами, а сын адмирала, Ростислав, мобилизованный во французскую армию в 1939 году, был взят в плен германцами с остатками 103-го пехотного полка 16 июня 1940 года, после боев, начавшихся на бельгийской границе и закончившихся на Луаре, при разгроме французских военных сил и взятии Парижа."
 Страничка создана 9 августа 2002.
Страничка создана 9 августа 2002.
Последнее обновление 27 сентября 2022.
|