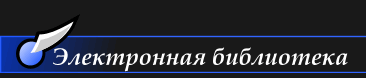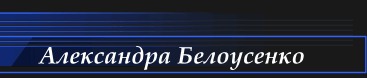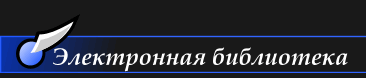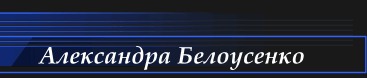|
|

Виталий Николаевич СЁМИН
(1927-1978)
СЁМИН Виталий Николаевич (12.7.1927, Ростов-на-Дону – 10.5.1978, там же) – прозаик.
Род. в семье служащих. В 1942 был вывезен оккупантами в Германию. После возвращения (1945) учился в железнодорожном техникуме и Ростовском пед. ин-те, который вынужден был оставить из-за своей «запятнанной» пребыванием в фашистских арбайтслагерях биографии. Работал на строительстве Куйбышевской ГЭС (1953-54). Окончил Таганрогский пед. ин-т (1957). Был учителем в школе, преподавателем автодорожного техникума (1954-58), лит. сотрудником газ. «Вечерний Ростов» (1958-62), редактором литературно-драматических передач Ростовского телевидения (1963). Первые рассказы и очерки опубл. в 1956-59 в газ. «Вечерний Ростов». Они были собраны в его первой кн. «Шторм на Цимле», которая вышла в Ростове в 1960. Обративший внимание на книгу известный критик А. Макаров отметил не только новизну коллизий семинских рассказов, но и авт. умение сочетать точное изображение бытовых явлений с мыслительной работой героя. Правда, в этих рассказах пока еще отсутствует прямое обращение к трагическому прошлому. С. волнует больше нравств., духовное созревание молодых героев, которых, как и мн. их лит. сверстников, вдохновляет романтика трудового энтузиазма и поиски своего личного предназначения в жизни.
В основу пов. «Ласточка-звездочка» (1963) легли воспоминания писателя о довоен. детстве, о тепле домашнего очага и первых столкновениях с жизнью. Здесь впервые появляется Сергей Рязанов, который станет сквозным героем мн. произв. С. Здесь же определился тип семинского героя, прямодушно преданного справедливости, ищущего смысл жизни и нравственно обостренно чуткого. Несмотря на первые серьезные жизненные испытания, мир детства в повести изображен светлым и радостным.
В пов. «Сто двадцать километров до железной дороги» (1964) и «Семеро в одном доме» (1965) С. обращается к исследованию послевоен. жизни «глубинки» и городской окраины. Пов. «Семеро в одном доме» стала своего рода лит. событием, вызвав дискуссию и порицания за «односторонность и узость изображения» жизни (Лукин Ю. Лишь видимость правды // Правда. 1965. 11 авг.).
В центре повести один из самых полнокровных женских образов в лит-ре последних десятилетий – Муля, человек сложного характера и трудной доли, но и самоотверженной души, отзывающейся на беды др. людей, будь то ее собственные родственники или чужие люди вроде той женщины с детьми, которую она во время войны, сама еле-еле сводя концы с концами, приютила у себя. Героиня С., поднимаясь ни свет ни заря и ложась за полночь, – в постоянных заботах по дому, в каждодневной суете, но суета эта, как показывает писатель, – стремление обиходить жизнь, сделать ее более пригодной для человека. Энергия Мули, несмотря на ее крутоватый, неуживчивый нрав и резкость, поддерживает других, заражает своим жизнеутверждающим началом. В ее рассказах писатель подмечает отчужденность от гос. жизни, пусть неосознанный, но протест против ее бюрократического устройства. С. был одним из немногих публикуемых в то время писателей, кто попытался честно изобразить невидимое противостояние реального простого человека и государства, абсолютно равнодушного к его нуждам. «Окраинная» философия, за интерес к которой упрекала писателя наиболее тенденциозная часть тогдашней критики, на самом деле несла в себе большой заряд здравого смысла и чести. Писатель показывал, как в послевоен. разрухе простой человек сопротивляется будничным, но от того не менее жестким обстоятельствам, рисовал как важнейшую среду частного существования. Неслучайно С. вводит сюжетную линию строительство дома – в ром. «Женя и Валентина», где снова вглядывается в интересовавший его быт окраины, но дает уже гораздо большее разнообразие характеров персонажей, каждый из которых пытается понять жизнь, найти свое место в ней. Роман почти не вызвал критич. откликов, был воспринят как часть большого замысла. Действительно, в хронологическом плане это произв., повествуя о самом начале войны и первых днях оккупации, как бы предваряло действие последовавших за ним ром. «Нагрудный знак "OST"» и «Плотина» – по сути, главных произв. писателя.
Большинство произв. С. имеет авто-биогр. характер: детство, фашистские арбайтслагеря, работа на Куйбышевской ГЭС, учительство, журналистский опыт, жизнь на окраине Ростова. И если в первых рассказах С. еще чувствовался налет журнализма и воздействие идеологических и лит. клише, то с каждым новым произв. его худож. исследование действительности и взгляд на человека становились все более глубокими и личностными. «Этот взгляд узнается по тому, как и что выбрано в людях, в их быту, в словах и поступках, и какие вообще выбраны люди и как соединены,– писал критик И. Дедков о семинском творчестве.– Узнается и по неизменной тяге к ясности, и по всегдашнему отвращению к фальши, по серьезности и непредвзятости оценок. Взгляд Семина очень редко заволакивала поволока лиризма или сентиментальности; его герой не идеализирует ни себя, ни родного круга. Но эта жесткая правдивость и склонность к точным, тщательным – порою, кажется, по-научному точным и тщательным – определениям человека и его действий никогда, однако, не лишали авторскую мысль гибкости и доброты» (Дедков И. Честность памяти // Дедков И. Во все концы дорога далека: Литературно-критич. ст. и очерки. Ярославль, 1981. С. 75).
Ром. С. «Нагрудный знак "OST"» (1976) стал своего рода промежуточным звеном между воен. прозой и художественно-док. произв. кон. 70-х – нач. 80-х гг. Его жизненная основа – пребывание писателя в фашистском арбайтслагере. «За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях,– делился С. – Но только обжигался. А что можно рассказать криком! Слух послевоенного человека уже не настроен на крик. Живая память сопротивляется насилию, может быть, больше, чем человек. Нельзя изменить память, не рассекая сосуды. Но чем дальше прошлое, тем короче в нем время, тем легче в этом коротком времени самые страшные несчастья». Писатель должен был найти такую интонацию, такую стилистику, которая бы высвободила его мысль, подняла над ужасами пережитого – с тем, чтобы снова пройти и осознать выпавший на его долю путь, чтобы исследовать эту почти невероятную реальность.
Повествование ведется в романе от лица 15-летнего подростка. Ведется просто, сдержанно, почти бесстрастие Но бесстрастность эта мнимая – под ней раскаленная лава боли, постоянно ощущаемая читателем. Герою часто не по силам работа, которую заставляют его выполнять немцы. Вообще все случившееся – война, отправка в Германию, фашистский застенок – для него как наваждение. Он не может поверить в эту страшную реальность, смириться с ней. Писатель показывает, что только близкая память о доме, о материнской ласке, о заботе и тепле родных, о книгах противостоит жестокой реальности арбайтслагеря – унижениям, побоям, рабскому труду, деградации. Память о нормальной человеческой жизни с ее обыкновенными радостями и печалями, житейскими заботами и проблемами противостоит той извращенной норме, которая каждодневно насилием внедряется в сознание бесправных заключенных. Ей противостоит и упорное нежелание принять эту норму, безрассудная, но благотворная вера в человеческое достоинство и человека, потребность подростка в искренних человеческих чувствах – любви, доверии, человеческой привязанности, доброте. И еще – желание рассказать об увиденном и пережитом. Поделиться своим тяжким опытом, своим знанием, которое герой ощущает и как нечто сверхличное. Вместе с героем писатель вглядывается в характеры окружающих людей, пытается понять их поступки, найти в них не только смысл, но и определенные закономерности. Из этой страшной жизненной школы герой выносит много уроков, и один из главных среди них – «что только безграничная добровольная доброта удержала его на таком краю, где, казалось, самой доброте и самоотверженности не на что опереться».
Среди осн. вопросов, которые ставит С. в романе – вопрос о «государственной злобе», о природе фашизма, о той почве, на которой он вырастает. Наблюдая немцев, герой вместе с писателем пытаются понять, что происходит с людьми, как смог фашизм настолько изменить их сознание, усыпить душу?
Появляется в «Нагрудном знаке "OST"», а затем и в ром. «Плотина» изображение блатного мира, который так же ненавистен писателю, как и его герою, соприкоснувшемуся с ним еще в пов. «Ласточка-звездочка». Культ силы и безжалостности – вот что сближает, по мнению С. блатных и фашистов. Писатель показывает, что зачатки фашизма существуют везде, где находят для себя питательную среду бациллы национализма, бездуховности, презрения к человеческой личности.
Внутренней темой ром. «Плотина», где читатель встречается с тем же героем, что и в «Нагрудном знаке "OST"», становится сопротивление – сопротивление не только обстоятельствам, но и ненависти, которая, обжигая истерзанную в арбайтслагере душу Сергея, в первые же дни после освобождения рвется выплеснуться в каком-то жестоком, безрассудном поступке-мщении. Идейной кульминацией романа становится эпизод, когда герой, готовый вот-вот выстрелить в доктора Леера, уже держит палец на спусковом крючке пистолета, но тем не менее в последний миг избегает этого искушения. Искушения насилием и безжалостностью, к которым его так или иначе принуждал окружавший мир. Подросток понимает, что только противостоя этому, а также страху, уже ставшему привычным в этих экстремальных условиях, он сможет сохранить себя, свою человеческую сущность.
Жажда познания и действия у героя С. сильнее тяги к душевному покою и самосохранению. Для него все ясней становится, что только от самого человека зависит, какой будет истинная человеческая мера жизни, что своим собственным поведением человек добывает и утверждает высший смысл бытия. Пытливая мысль героя, стремление во что бы то ни стало остаться самим собой, не потерять человеческого лица – та свобода, которая, по мнению С. сохраняется у человека даже в самых невыносимых условиях.
В личном архиве С. сохранилось множество «внутренних» рец., написанных для журналов и изд-в на поступившие туда рукописи. Эти рец., составившие отд. сборник, вышедший в 1987, дают яркое представление о взглядах писателя на лит. творчество, о его нравств. и эстетических критериях, его взыскательности к себе и чувстве времени.
Соч.: Женя и Валентина: Ром. Ростов-на-Дону, 1974; Нагрудный знак «OST»: Ром., пов., рассказы. М., 1978; Нагрудный знак «OST»: Ром. Плотина: Ром. М., 1982; Что истинно в лит-ре: Лит. критика. Письма. Рабочие заметки. М., 1987; Семеро в одном доме: Пов. Ростов-на-Дону, 1989.
Лит.: Фоменко В. Шторм на Цимле // Лит-ра и жизнь. 1960. 16 сент.; Камянов В. Вид на окраину // Лит. Россия. 1965. 13 авг.; Макаров А. Через пять лет: Ст. вторая // Знамя. 1966. №3; Лакшин В. Писатель, читатель, критик: Ст. вторая // Новый мир. 1966. №8; Лавлинский Л. Цена истины // Новый мир. 1979. №4; Золотусский И. Власть над судьбой // Лит. обозрение. 1981. №12; Джичоева Е. Преодоление: Очерк жизни и творчества В. Семина. Ростов-на-Дону, 1982; Адамович А. Ничего важнее // Вопросы лит-ры. 1983. №3; Борисова И. Уроки чтения // Новый мир. 1986. №4.
Е.А. Шкловский.
Произведения:
Книга "Нагрудный знак «OST»: Романы" (1991, 448 стр.) (pdf 14,8 mb) – май 2023
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)

Второй том прозы Виталия Сёмина включает главную книгу его жизни роман «Нагрудный знак «OST» – суровое и честное, наполненное трагизмом повествование о страшных годах каторги в гитлеровских арбайтслагерях, куда будущий писатель был угнан в 1942 году пятнадцатилетним подростком. В том также вошла первая часть незаконченного романа «Плотина», являющаяся прямым продолжением «Нагрудного знака «OST».
(Аннотация издательства)
Содержание:
Нагрудный знак «OST» ... 3
Плотина. Часть 1 ... 318
Игорь Дедков. Аннотация к роману "Нагрудный знак «OST»" "Во имя живых" (html 11 kb) – апрель 2007
Роман "Нагрудный знак «OST»" (html 1,5 mb) – ноябрь 2005
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Роман "Плотина" (html 722 kb) – апрель 2006
– OCR: Александр Белоусенко (Сиэтл, США)
Фрагменты романа "Нагрудный знак «OST»":
Почти все лагерные полицейские были пожилыми людьми. Они подошли к тому возрасту, за которым человека в Германии называют «опа». Oпa – дед, старик, старина, отец. Почтительно-фамильярное слово, с которым на улице можно обратиться к старому ченовеку. Впервые я услышал его в пересыльном лагере. Так называли лагерных полицейских. В пересыльном женщин отделяли от мужчин, формировали партии по возрастам, отрывали друг от друга тех, кто хотел быть вместе. Здесь все обрушивалось разом: потеря близких, голодный, на крайнее истощение, паек, оскорбление гнусной баландой. Кончались бессистемные эшелонные замахивания, начинались избиения систематические. Опы действовали быстро, жестоко и весело. Били они не только специальным инструментом для избиения – гумой, резиновой палкой,– но ногами, руками и тем, что в этот момент попадало под руку. Тогда я понял, что такое выворачивающая душу ненависть. Душа выворачивалась именно тем обстоятельством, что, как сказали бы теперь, разрушалась вся система моей детской ориентации в этом мире. Обманывали вернейшие, определяемые самим инстинктом признаки благоразумия, снисходительности, доброты: пожилой человек, интеллигентный человек, человек в белом халате – врач, или, как все мы в детстве называем врачей, доктор. Одно из самых ярких первых впечатлений в Германии: нас гонят по улице небольшого рурского городка. Только что мы носили мебель в какое-то здание, и полицейские, сопровождающие нас, даже довольны нами. По тротуару идут две нарядные молодые женщины с нарядными детьми. Дети кидают в нас камни, и я жду, когда женщины или полицейские остановят их. Но ни полицейские, ни женщины не говорят детям ни слова.
И еще поражает и выворачивает душу: идет сорок второй год, немцы воюют в далеких чужих землях, война к ним иногда прилетает на самолетах. Рурские городки стоят целые. Целы новый асфальт и булыжник старинных мостовых, целы витрины многочисленных маленьких и крупных магазинов. Откуда же эта энергия слепой, не выбирающей в нашей толпе ни старших, ни младших ненависти? Ведь нельзя же просто так с утра, как чашкой кофе, заряжаться ненавистью. Это ведь не будничное чувство. А между тем энергией своей, последовательностью, организованностью и каким-то всеобщим будничным распространением эта обращенная на нас жестокость и поражает. И еще странно – есть в этой жестокости парадность, форменность, официальность и частная инициатива. Полицейская, гестаповская форма или штатский костюм – всё равно. Есть в ней и интонация. Голос, набирающий полицейскую пронзительность, поднимающийся на все более и более высокие тона.
* * *
Предстоял полный день без хлеба и почти без еды. И длина его измерялась голодом. Когда внизу поднималась суета и тяжелый термос грохал о цементный пол, вслушивался весь лагерь. Количество этих ударов подводило итог голодным надеждам.
Сейчас, через столько лет после войны, голод можно представить как сильное желание есть, как физическое недомогание. Однако голод – нечто другое. Он не только меняет дыхание, частоту пульса, вес и силу мышц, он обесцвечивает ощущения и сами мысли, не отступает и во сне, изменяет направление мыслей. И, может быть, самое страшное – меняет ваши представления о самом себе. И уж совсем особое дело – голодание многих людей, запертых в одном месте.
Когда голод достигает степени истощения, у него появляется горячечный, карболовый, тифозный запах, которым невозможно дышать. У голода послабее пресный гриппозный запах, изменяющий вкус хлеба и табака. В этом неотступном гриппозном недомогании все полы кажутся цементными, все стены – лишенными штукатурки. Это бесшумный и непрерывный метод полицейского давления, и, может быть, поэтому главное – не показать, как ты голоден. Не сразу я, конечно, понял, что дело не только в сохранении лица. Кто сохраняет чувство собственного достоинства, сберегает по каким-то важным жизненным законам и больше шансов на жизнь.
* * *
В первый десятиминутный перерыв немец, сидя на скамейке со своей стороны вальцов, съедает бутерброд, выкуривает сигарету, и сладковатый запах слабого немецкого табака тянет через вальцы на нашу сторону. На время перерыва свет пригашен, и не видно, как мучает нас этот запах.
Не могу подавить надежду, что кто-то из немцев хоть в этот перерыв поделится хлебом. Это даже не надежда, а голодный спазм, с которым не совладать. Не дали ни разу. И сейчас, через много лет после войны, я испытываю страх и стыд: ведь все мы люди. Я долго не решался об этом написать. Раньше мне другое казалось страшней. Но постепенно самым удивительным мне стало казаться то, что никому из многих сотен молодых и пожилых, веселых и злобных в голову не пришло дать мне хлеба. У меня ведь особый счет. Они взрослые, а я мальчишка. Я сам был разочарован в себе. Мое лишенное белков, солей, витаминов, истерзанное усталостью тело не давало мне секундной передышки. Страдание переутомлением, голодом, страхом, лагерным отчаянием было так велико, что тело становилось сильнее меня. Только бы сесть, лечь, прижаться к теплу. Они тоже жили на карточки. Сверхнапряжение государственной злобы, оплетавшее их, я чувствовал сильнее, чем они. Было нелогично дать мне хлеба. Но должна же была у кого-то из них в один из рабочих перерывов появиться такая нелогичная мысль!
* * *
За тридцать лет, прошедшие после войны, я много раз пытался рассказать о своих главнейших жизненных переживаниях. Но только обжигался. А что можно рассказать криком! Слух послевоенного человека уже не настроен на крик. Живая память сопротивляется насилию, может, больше, чем живой человек. Кровеносными сосудами она связана с твоей жизнью. Нельзя изменить память, не рассекая сосуды. Но чем дальше прошлое, тем короче в нем время, тем легче в этом коротком времени самые страшные несчастья. Старчески уступчивой делается память, сталкиваясь с новыми интересами. А живое, сегодняшнее нетерпение готово многим пренебречь. Однако чем правдивее воспоминания, тем больше в них дела.
Фрагменты романа "Плотина":
Штаб располагался в здании бывшего заводоуправления. В окнах первого этажа горел свет, я заглянул в окно и сразу увидел отца. Он сидел спиной к окну. Мне были видны только его затылок и плечи, волосы его побелели, одет он был в гимнастерку, но я сразу узнал его. Сидел он так, как всегда сидел среди чужих – чопорно-вежливый, напряженный, стесняющийся своей глухоты человек. И гимнастерка у него была как раз такой, какой она должна быть у моего отца,– не новой, но почти как новой: выстиранной и выглаженной будто не в прачечной, а своими руками и будто не позже, чем сегодня утром.
В комнате, куда я вбежал, отец поднимался, поднимался мне навстречу и никак не мог подняться со стула. А я смотрел на его плечи. Пока я бежал сюда, я надеялся – раз уж мне привалило счастье,– что отец по званию окажется старше майора Панова или, по крайней мере, будет равен ему, а отец был совсем без погон...
Потом он долго и беззвучно плакал. Вытрет слезы платком или ладонью, решительно так вытрет – все, кончил плакать! – и тут же глаза его опять начинают страдальчески таять. Так мы с ним молча сидели несколько минут, и я все время с неудобством чувствовал, как много в комнате людей. Наконец он решился заговорить. Голос еще не повиновался ему:
– Уже, наверно, куришь?
* * *
У меня не было слез, когда писарша сказала, что приехал отец, я не прослезился, когда вбежал к нему в комнату штаба, а тут мне неудержимо захотелось плакать. Он говорил, а я вспоминал то, что старался, но никак не мог передать ему о себе, о Германии. О том, как тяжко и страшно мне было там, как свирепо меня избили в первом лагере и как били потом, как я ходил со сломанной рукой в гипсе, а под гипсом завелись вши, и я, не выдержав зуда, сломал гипс. Как лагерный придурок Иван говорил мне «по-доброму»: «Ты не жилец. Может, и дотянешь до конца войны, но все равно не жилец». Как я зимой и летом ходил в рваном пиджаке на голое тело, в рваных брюках и деревянных колодках. И еще вспоминалось мне, как я окончательно стал доходягой, который, разгибаясь, видит перед собой оранжевые круги, и как я учился, силился скрывать, что я доходяга, потому что это был единственный способ сохранить к себе уважение и, следовательно, надежду на жизнь.
* * *
Когда защитного цвета «джипы» и «доджи» втянулись на улицы Лангенберга, мы уже могли угощать американцев табачной продукцией ограбленной немцами Европы: французскими, голландскими, бельгийскими сигаретами. И одно из первых открытий – американцы отказываются от европейских сигарет. Свои им больше нравятся.
Пришла богатая, почти не воевавшая, не сносившая на фронте и одного комплекта обмундирования армия. При всей готовности к симпатии это было тем, что делало непонимание почти непреодолимым.
За то, что опыт их был таким, а не другим, миллионы людей сложили головы. Те, кто сидел в «джипах», и «доджах», мало что об этом знали. Им страшно повезло, и мы не могли им этого забыть. Хотя и винить их как будто не за что. О немцах, их жестокости, военной ожесточенности американцы знали не с чужих слов. Они ведь сами воевали на этих лучших европейских землях, на лучших европейских автострадах. У них был собственный воинский опыт, и именно это делало непонимание почти непреодолимым. Мы были участниками одной и той же войны. Но их война лишь отдаленно напоминала нашу. Нам казалось, что страх смерти, который испытали они, легче всего сравнить с испугом. Они не знали других его лиц. Голодного удушья, истощения унижением, непосильным трудом. Не знали того, о чем рассказать можно только тому, кто сам это испытал. Ведь пропустивший обед говорит о себе: «Я голоден». А проработавший сверхсрочно час: «Я устал». И спорить бесполезно. Собственный опыт несомненнее всякого другого.
Мы сразу заметили, как много места они занимают в пространстве. А они, должно быть, поразились, нашей изможденности. Но, может, худобу они невольно отнесли к нашим природным качествам. Ведь, честно говоря, нам самим уже трудно было представить себе, какими мы были.
У каждого нашего истощения была своя история, свое лицо, свои гибельные этапы. Мы сами не понимали, как уцелели на каждом из них. Что же об этом можно рассказать тем, кто их не прошел?
* * *
Дважды немцы брали мой родной город. В декабре сорок первого они продержались всего десять дней. Их было немного. Но, когда они откатились на своих мотоциклетках и автомобилях, город застонал потрясенный. У жестокости, которая после них осталась, не было названия, потому что у нее не было причин и границ. Хоронили несколько сот человек. Это были случайные прохожие или жители домов, около которых нашли мертвых немцев. Люди успокаивали детей, кипятили воду, а их выгнали на улицу и поставили к стене родного дома. Должно быть, переход от простейших домашних дел прямо к смерти особенно невыносим. Нелепа смерть у стены своего же дома. Наверно, они не верили до последней секунды. И тем, кто их хоронил, этот переход казался особенно ужасным. Ведь они тоже в этот момент что-то делали у себя дома или куда-то собирались идти.
Выгоняя людей из кухонь и подвалов, куда в эти дни переместилась жизнь, останавливая их на улице, убийцы показывали, что все горожане для них одинаковы. Это была какая-то новая смерть и новый страх, при котором стали опасны и домашние стены и улица, которой идешь. Было непонятно, как на все это могло хватить злобности. И осталось странное ощущение, что стреляли не серые фигурки в шинелях и плащах, а те мотоциклетки, на которых они разъезжали по городу. Так мало во всем этом было человеческого.
В городских скверах немцы оставили несколько своих могил: крест и солдатский шлем на холмике. Мы ходили на них смотреть, будто похоронены там были не люди, а те же стреляющие мотоциклетки.
Некоторое время могилы стояли нетронутыми, но потом кто-то решил, что убийцы и убитые не могут лежать в одной земле, трупы вывезли за город, а могилы разровняли. Когда немцы захватили город второй раз, они стали разыскивать тех, кто принимал в этом участие. Понятно, тех, кто решал, они не нашли и расстреляли мобилизованных мальчишек-подводчиков.
Во второй раз немцы продержались дольше и убили гораздо больше людей. Так почему они могли убивать сто за одного, а я не решаюсь одного за сто? Разве есть другой способ расквитаться? И как иначе избавиться от памяти, которая давит меня? Может, неполноценность, о которой толковали эти стреляющие мотоцклетки, и есть отходчивость?
* * *
А забыть было из-за чего. На руке его была синяя татуировка – четырехзначный концлагерный номер. В концлагерь он попал за побег из лагеря военнопленных.
– Два треугольника носил,– сказал он,– на груди и спине. До сих пор в этих местах притронуться больно.
– Почему? – спрашивал я.
– Треугольники – мишень. Чтоб стрелять в тебя было удобней. Всё время их чувствуешь. Кожу обжигает.
– Чем? – не понимал я.
– Ну, ожиданием,– говорил он.– Ждёшь всё время. Казнили в концлагере почти каждый день.
– Немцев дезертиров последнее время часто привозили,– сказал Яшка.– Привезут, выпустят, они по двору ходят, но мы понимаем, долго в лагере не пробудут.
– Увезут?
– Убьют. День-два походят, на работу вместе со всеми выгонят, а потом казнь. Нас всех в бараки загоняют – это мы уж знаем, немцев казнить. Если русского, поляка, бельгийца или француза убивают, наоборот, всех выгоняют на плац.
– Почему?
– Ну, высшая раса. Чтобы мы не видели, как немцев убивают. И чтобы видели, как наших казнят.
Эти Яшкины рассказы вызывали мучительнейшее любопытство.
Повесть "Ласточка-звёздочка" (1963) (html 844 kb) – сентябрь 2009
– текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина
Фрагменты из повести:
"Но немцы прилетели, и никто их не сбил.
Это произошло во второе с начала войны воскресенье. Был бестеневой, жаркий день. На главной улице города, которой обилие военной формы пока придавало лишь подтянуто-бравый, призывно-походный вид, на центральной площади Ленина было тесно от празднично одетых людей. Должно быть, все эти люди, как и ребята из Сергеева двора, еще не очень верили в войну; должно быть, у них, как у ребят из Сергеева двора, было еще довоенное представление о войне. Во всяком случае, они не насторожились, когда низко над жестяно завибрировавшими крышами раздался рев чужих авиационных моторов, не легли на асфальт, не попытались укрыться хотя бы в подворотнях, когда к реву авиационных моторов прибавился бомбовый вой.
Бомбы взорвались как раз в центре гуляющей толпы, и город, который лежал за много сотен километров и от границы и от фронта, понес первые потери. Эти потери были так неожиданно, так ошеломляюще велики, что городская администрация не столько испугалась, сколько словно смутилась их. Убитые на улицах города – это казалось чем-то вроде разглашения государственной тайны. Место, где упали бомбы, сразу же оцепила милиция, раненых и убитых вывезли в закрытых машинах, воронки тотчас заделали, асфальт присыпали песком и только тогда опять пустили на площадь прохожих."
* * *
"И вдруг Сергей наткнулся на яму. Яма была глубокой, словно ее долго и упорно рыли. Неизвестно только, куда девали землю, – края ямы были аккуратно и гладко врезаны в булыжник мостовой. Сергей первый раз в жизни видел такую яму и потому не сразу понял – воронка. Должно быть, бомба была не очень крупной – здания по обе стороны улицы остались целы, лишь вылетели стекла из всех окон да густо иссечены стены от тротуара до второго, а местами и до третьего этажа. Фантазия Сергея испуганно заработала: он представил себя здесь в тот самый момент, когда бомба рванула воздух. Мог бы он как-нибудь спастись? Если бы лег вон там, на тротуаре? Тогда бы его пробили четыре осколка, до костной белизны выщербившие стену. Сергей осматривал рваные следы на штукатурке, мысленно укладывал между ними свое тело и никак не мог уложить. Нигде между этими следами не оказывалось столько места.
Сергей прибавил шагу и опять наткнулся на яму, потом еще на одну. Бомбы, которые взрывались здесь, не уничтожали зданий, для этого им, наверно, не хватало силы. Они рассыпались на множество осколков, и в том, как тщательно прошивали осколки все пространство вокруг воронки, как густо они ложились на стены как раз на уровне человеческого роста, была не оставлявшая места надежде угроза."
* * *
"Уже к вечеру город знал – их убили.
Ночью Сергей не мог заснуть. Едва он начинал дремать, на него наваливался кошмар. Толстая, пышущая жизнью, энергичная тетка со слепыми, лишенными глаз глазницами отбрасывает со лба седые волосы и кричит: «Мы уходим! Мы уходим!» «Юда?» – спрашивает Сергея солдат и хватает его за руку. «Я не юда!» – кричит Сергей и чувствует спасительное и почему-то нечистое облегчение оттого, что страшные пальцы, сжимавшие его руку, разжимаются. Он бежит, делает огромные скачки. Немцы не преследуют его, а он все равно чего-то боится. И тут он неожиданно сталкивается с дедом Камерштейна и сразу понимает, чего боится. Ему страшно оттого, что дед Камерштейна мог слышать, как он, Сергей, кричал солдату: «Я не юда!» Сергей вглядывается в бледное, повернутое в профиль к нему лицо деда и старается понять: слышал он или не слышал? А дед говорит виновато: «Как мальчик понесет эти книги? Его же увидят в городе с еврейскими вещами...»
Сергей вскидывается на кровати и долго лежит без сна. Его нестерпимо мучает вопрос, на который нет ответа. Зачем они шли? Зачем? Почему? Без охраны, без конвоя... А если бы немцы прямо написали, что всех убьют, – и тогда бы тоже пошли? Неужели только жалкий, глупый, ничтожный обман завлек в ловушку тысячи и тысячи?
Почему, глядя на зверя, человек никак не поймет, что перед ним зверь? Почему он все ждет чего-то?
Ну зачем они сами шли?"
Повесть "Семеро в одном доме" (1965) (html 533 kb) – июль 2009
– текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина
"Бывало, как на заем подписываться, так по цехам крик. К начальнику цеха таскают, в профком, в партком. Я говорю: «Двадцать пять процентов дать могу, а больше ни копейки». Я, Витя, не против займов. Я понимаю – деньги идут не кому-то там в карман, на строительство новых заводов, больниц – я все это понимаю. И хоть трудно мне, говорю: «Двадцать пять процентов могу дать». А они мне говорят: «Подписывайся на сто процентов». Целый день держат в парткоме, у директора завода. «Подписывайся!» Я говорю: «Вы грамотные? Берите карандаш, давайте считать. На что вы меня толкаете?» – «У нас, говорят, все должны подписаться на сто процентов, а ты нам портишь картину. Подпишись, а мы тебе поможем хорошими заказами». – «Вы люди или не люди? Не могу я подписаться на сто процентов». Тут они мне все припомнят: и про то, как я их ругала, и как голосовала против соцдоговора, и как директору нагрубила: «Мы давно видим, Конюхова, ты не наш человек». Я им говорю: «С мужиком вы так не поговорили бы, мужик фуганул бы вас по-русски, чтоб перья от вас полетели. Смотрите, а то и я вас пошлю подальше». Так и не подписалась на сто процентов."
(Фрагмент)
Повесть "Сто двадцать километров до железной дороги" (1964) (html 476 kb) – декабрь 2009
– текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина
"Фамилия одного из тех, кого я должен был взять на свою совесть, – Парахин. Здоровый парень, ему скоро в армию идти. Учится он с перерывами, года два зимовал с отарами на Черных землях. Ни отца, ни матери, ни старших братьев – младший брат есть. Воспитывался у полуглухой бабки и с запозданием научился говорить. Меня поразил его затравленный взгляд, именно затравленный, – когда я у него что-то спросил. Сидит за партой крепкошеий, загорелый, сильный человек, давит на парту тяжелыми локтями, медленно поворачиваясь всем корпусом, следит за мной, когда я хожу по классу, и вдруг начинает бледнеть, когда я у него что-нибудь спрашиваю. И в глазах этакая затравленность.
– Скажи, Парахин, ты понимаешь, что такое часть речи?
– Понимаю.
– Назови мне какую-нибудь часть речи.
Молчит."
(Фрагмент)
Повесть "Женя и Валентина" (html 908 kb) – январь 2010
– текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина
"...Играешь, например, в карты, мат стоит. Ты кричишь партнеру: «Такой-сякой, карту передергиваешь!» – «Кто передергивает?» – «Ты, так и перетак!» – «Что ты сказал? А ну, повтори!» Вот тут повторить нельзя. Ты кричишь: «Да я тебя в ухо, в глаз, в сестру, в отца и всех родственников!» Он и успокаивается. А если это у тебя не в крови, не в нервах – сбиться можно, тебя и заподозрят. Я многое знал, многое умел, но не все, а главное, ненавидел их. Ты говоришь, справедливость – несправедливость! Я на людей насмотрелся. Люди не за справедливостью идут – за силой. Это вы, интеллигенты, путаете. Я тебе скажу – в истории ничего, кроме силы, не было. Любая общественная организация на стороне тех, у кого нервная система сильнее. Я воров ненавидел, но я их и сейчас уважаю за силу духа. Сила – это ведь, Миша, не мышца, а дух. Понял? Это надо видеть."
(Фрагмент)
Сборник рассказов: (html 319 kb) – июнь 2009
– текст прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина
Содержание:
Ася Александровна
В гостях у тёток
Хозяин
На реке
Эй!
Тридцать лет спустя
Фрагменты рассказа "Тридцать лет спустя":
...В июне – война, в сентябре призван и направлен в артиллерию: грамотен – как-никак учитель. В военкомате, где отбирали грамотных, первое военное впечатление – как еще малограмотна Россия! В октябре под Можайском первый бой. Там был небольшой наш успех, немцев немного потеснили и сразу же туда бросили полк «сорокапяток» и семидесятишестимиллиметровых орудий, в котором почти все были такие же новобранцы, как он. Там же первая рукопашная. Пехота ушла, батарея осталась без прикрытия, немцы, появившиеся перед пушками, были совсем неожиданными. Батарея вела огонь, карабины солдат лежали на зарядных ящиках. Если бы не лес, немцы перебили бы всех. Но деревья мешали автоматчикам. Отбивались банниками, лопатами. И второе сильнейшее военное впечатление – первый немец, убитый собственной рукой. Какое чувство он испытал? Облегчения, огромного облегчения. Вот-вот он должен был умереть, точно должен был умереть – что можно сделать лопатой против автомата! Но как-то исхитрился, ударил первым, и теперь – мертвый он. Потом окружение. От полка осталось не более ста человек. Пушки везли на себе – лошадей съели по дороге. Жевали ремни, голенища, кору. Погода – утром и днем дождь, к вечеру гололедица и мокрый снег. Огня не разводили, спать ложились прямо на земле. За ночь мокрая шинель становилась коробом, примерзала к земле. Утром отрывались от земли, оставляли куски шинели. Фронт переходили под Тулой. Били по ним и немцы, и наши. Пришло сорок четыре человека. Особисты их тут же разоружили, посадили под охрану. Спасло то, что вынесли с собой знамя. Часть сохранили. Две недели на переформировку – и в наступление. В первый же день – контузия. На бруствере окопчика разорвалась крупная мина. Осколки прошли верхом, ударило взрывной волной. И тут же ушел надолго. Очнулся через два месяца на Урале в госпитале. Парализованы правая рука и нога. Через месяц все-таки встал, нога кое-как отошла. Белобилетник, освобожден навсегда. Выписали из госпиталя инвалидом второй группы. Пошел в военкомат проситься в армию. Городок маленький, медицинская комиссия – те же госпитальные врачи. Долго их уговаривать не пришлось – время не то. «Мы вас предупредили. Мы за вас не отвечаем». Запасной полк – и под Ржев. Две недели на фронте. Что было под Ржевом, все знают. На пятнадцатый день ему осколком снаряда перебило голень. Шел восстанавливать телефонную связь, перебежал под огнем особо опасный участок, а потом его ударило. Нога в валенке подвернулась, он вскочил – и стал на культю. Упал на снег. Мороз – градусов тридцать, лежал несколько часов, стараясь не заснуть. А потом заснул. Очнулся в сарайчике. Человек двадцать раненых на полу, керосиновая лампа, рядом с железной печкой подобие хирургического стола. Положили на стол. Валенок полон замерзшей крови. Разрезали валенок, оттаяли кровь, вытащили осколок снаряда и осколки кости, перебинтовали. На следующий день плохо, потом еще хуже. Сменили повязку. Нога под повязкой почернела и раздулась. Надо ампутировать – гангрена. Ампутировать не дал. Отрезали бы, не спрашивая разрешения, но у него был пистолет, от боли он спать не мог – на снегу отоспался, – и, когда к нему подходили, грозил пистолетом. Еще день продержали в сарайчике, потом упаковали в специальную корзину, подвесили под крыло «ПО-2» (так тогда перевозили раненых) и опять на Урал, в тыловой госпиталь. Десять дней прошло с тех пор, как нога у него почернела, а он все жив. В госпиталях он на многое насмотрелся. Говорит врачам: «За десять дней не загнулся, значит, не гангрена». И правда – просто сильное обморожение. Два месяца в госпитале на Урале. Стал ходить на костылях – перебитая правая нога на тринадцать сантиметров короче левой, кость срослась неправильно. Однажды раненым показывали кино, военный фильм «Ястреб», после сеанса спускался по мраморной госпитальной лестнице со второго этажа – госпиталь располагался в здании бывшего горисполкома, – на скользких ступеньках костыли разошлись, он покатился по лестнице вниз и сломал больную ногу. Удачно сломал. Когда кость на растяжках выправили, нога удлинилась. Теперь она была только на три сантиметра короче здоровой. На этот раз он уже не просил врачей отправить его на фронт – инвалид!
* * *
...И опять на фронт. Посадили их на десантную баржу и ночью отбуксировали к Новороссийску на Малую землю. Высадились сравнительно благополучно. Вытащили минометы, стали зарываться в землю. Но земля эта – не земля, а мергель, слоеный камень, щебень, идущий в цемент. Зарываться в такую землю – ночи не хватит. Утром их накрыли огнем в их неглубоких окопчиках немцы со своих прекрасных позиций на Колдун-горе. С анапского аэродрома шли «Мессершмитты-110». Мергель при взрывах снарядов и авиабомб давал мелкие осколки, осколки били руки и лицо. Кожа на лице стала вся в крапинках, как у шахтеров. В первый же день половины прибывших ночью не стало. Ночью опять пришли баржи с пополнением и водой, а днем опять почти половина прибывших погибла. Бывали дни, когда пополнение вообще не приходило – немцы топили баржи еще на подходе. И тогда сутки жили без воды, без еды, сутки в постоянной белой цементной пыли, которая висела над Малой землей. Убитых хоронить было невозможно. Вначале пытались, но каменистая земля не поддавалась киркам и лопатам. Тогда убитых стали сбрасывать в море. Трупы прибивало к берегу. У пляжей Малой земли был венок из плавающих трупов метров на пятьдесят.
Несколько раз ходили в атаку на Новороссийск, но немцы атаки отбивали.
Два с половиной месяца – с июля по сентябрь – он провел на Малой земле и не был даже ранен. Только царапина на тыльной части кисти. Как он научился воевать, как научился влезать в землю, распластываться на ней, как он ненавидел немцев и как умело убивал их!
К голоду он только никак не мог привыкнуть, хотя и голодал он как-никак с четырнадцати лет. И еще мучила его на Малой земле жажда. Доходило до того, что он не выдерживал пытки и набрасывался на морскую воду. В первый раз выпил с полстакана и потом целый день его жестоко жгло и мутило. Он закаялся, но через неделю опять не выдержал и снова хватал растрескавшимися губами горько-соленый раствор.
Немцев выбили из Новороссийска в сентябре. Наступавшие с Малой земли соединились в городе с теми, кто шел с юга. Немцев – наконец-то добрались до них! – гнали так, что не всем этих немцев хватило. Они как-то сразу рассеялись. Испарились. Удар, в котором должно было быть и искупление, и освобождение от ярости, голода, злости, частично пришелся по своим. Сошлись и не сразу узнали друг друга.
Статьи:
(прислала вдова писателя Виктория Николаевна Кононыхина-Сёмина) – сентябрь 2009
Сборник статей "О долге писателя" (html 71 kb)
Сборник статей "Над чужими рукописями" (html 536 kb)
Из писем 1969-1978 "Однако камень надо двигать..." (html 676 kb)
Из рабочих заметок "Прислушайся! Зачем тебе жизнь дана!" (html 37 kb)
Ссылки:
Виталий Сёмин: "Рабочие записки" в журнале "Знамя" 2009, №3
Олег Афанасьев: "Из воспоминаний о писателе и человеке" в научно-культурологическом журнале "Relga" (10.01.2009)
Страничка создана 22 ноября 2005.
Последнее обновление 19 мая 2023.
|